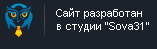Долина царей
Дата: 13 Апреля 2024 Автор: Крюкова Елена
Что тя наречемъ, Василіе преблаженне?
Наготою тѣла послѣдовалъ еси Христу,
мудрѣйшимъ юродствомъ прехитрилъ еси діавола,
сего связая пленицами слезъ твоихъ
и богатство нося въ души некрадомо,
вся Христова ученія дѣломъ исполнилъ еси.
И нынѣ на небесѣхъ ликуя,
непрестанно моли Христа Бога
спасти души наша.
Мѣсяца Августа во 2-й день.
Служба святаго блаженнаго Василія,
Христа ради юродиваго, Московскаго чудотворца.
На стиховнѣ стихиры, гласъ осьмый, подобенъ.
КОЛЯДКА
- Я спляшу вам мою жизнь, да она, глянь, кончается, держись, воском пламенным по свече сползает. Я сам горячий ветер, посреди разбитых створок перловиц, на сыром песке, стою, а ведь уже снег выпал, да что там, небесный потолок рухнул, и стеклянные осколки все, все наземь посыпались. Отломки. Прозрачные. Страшные. Режут ножами. Стекло, оно такое: морозом ожжёт и надвое разрежет. И та половина, где твой рот и нос, будет орать, сквернословить и дышать. А нижняя, где срамное твоё величие замирало, смешно и бесчестно, и подло предавало, и извергало боль и грязь, - молчать будет, вздрагивать будет, содрогаться. Ты обречён! Человека раздваивать нельзя. Вот он родился святым, а помрёт разбойником? Так не бывает! А вот как бывает: рожден разбойником, а погиб святым, святее некуда. Вы думаете, я всю жизнь мечтал быть распятым? Или саблями изрубленным? Или в петле повиснувшим, ногами суча? Или чтобы снаряд рядом взорвался, или пули меня всего изрешетили, как красивого, нежнейшего святого Севастиана - хищные стрелы?.. Ха! Да и не думал я так! И теперь не думаю! Не надо мне мученичества. Но кто же знает наш завтрашний день?
Я вижу, вижу тот день, белый горностай, синий василёк. Так ясно, чисто вижу. Я, когда гляжу в прошлое, будто кто предо мною стекло грязное, закопчённое мокрой тряпицей вытирает, и вижу всё, что за стеклом, и вдруг р-р-раз! - и нет стекла, один воздух синий, толща времен, и дрожит, а я рыба, рыбка малая, костлявая, я в той воде свободно, вольно плыву. Зимний день! Зимка наша! В зиме, как в белом яйце - вся наша Русь. Иду по рынку! Людишки вчера торговали, сегодня торгуют, завтра будут торговать. А как бы мы жили без вечного торжища?! Что бы грызли, кусали, что бы пили жадно, поперхиваясь, плюяся, в кашле сотрясаясь?! Бочка вон перевёрнутая... рассол на снег вытек... на снегу и помидоры разбросаны: там, сям, - кровяно-алые, я-то давно не жрамши, вот бы на колени встать, морду во снег окунуть, к тем помидоринам протянуть - и завыть, и зубами вцепиться, и глотать наслажденно, забвенно... Но нет. Дальше иду, сквозь зубы свищу. На меня народец оглядывается. Взглядом то ожжёт навроде плети, то припечатает, то обласкает, а то поцелует. Глазами, да, можно и обнять, и расцеловать. На то они и глаза; ещё наши праотцы молвили про глазёнки так: зеркало души. Зеркало!.. Дед мой, едва помню его, ко Господу отошёл, когда я ещё, карась малой, на животе да на карачках по избе плавал, бормотал так, смешно языком заплетая: зерькило, зерькалишко. Потом снимет с головы тяжёлый железный колпак да в него глядится; гладкое железо, ровно озеро, дремучий лик отражает. А в книгах, ветхих и блаженных, на страницах, что под пальцами осыпаются высохшим сладким, изюмным печивом, начертано: ЗЕРЦАЛО. Меняется язык; то истлевает, то на костре сгорает, и палёным воняет, то рождается в муках, продирается сквозь лозунги и проклятья, пробивает штыком и копьём кровавые плакаты, летит над новым, неведомым снегом.
Вот и я так же в тот день: по рынку не шёл, а летел. Лечу, сквозь зубы свищу! Баба меня из-за прилавка увидала, прозрачная плёнка, осыпанная снегом, у неё с товара сползла, с рыбоньки, в рядки разложенной, речной царицы глубоководной: пред бабою той сомы лежали, уже замёрзлые, сазаны златые, осетры диковинные, востроносые, в костяных древних колючках. Издалека торговка, видать, в Москву примчалась, с Каспия, а может, с Енисея, а может, с реченьки Суры, или ещё с какого царского водоема. Один сазан с прилавка на хвост вскочил и в пляс пустился. И я ему на снегу вторю, подплясываю. Ноги вместе составил от холоду, вроде как раздвоённый рыбий хвост! И на хвосте, выходит, подскакиваю! А баба ручонками сытыми, красными пальцами-сосисками, закрыла лик, беззубый толстый холодец трясущийся, и вопит: уймите! Выкиньте отсюда бродягу непотребного! Что он тут творит, голый нахал! Не житьё уже совсем от этих пьяниц! И то, требуют им беспременно подать! Сидят на снегу, ноги скрючив, брови домиком, щёки послюнявят, будто плакали давеча: подай, подай, попадёшь в Рай, а кто не подаст, попадет прямиком во Ад! Ступай прочь!.. завизжала, схватила стерлядку с лотка и машет ею на меня. Вон! Вон отсюда!
Все сазаны живенько, веселяся, с лотка у бабы попрыгали и улеглись сияющим живым, рыбьим венцом вокруг моих голых ног. Я глядел на безумную рыбу, баба орала на меня, а вокруг нас уже месила дышащее, парное зимнее месиво изрядная толпа, все колготились, бушевали, качались маятниками, я, голый бешеный царь, без имени-рода-племени, возвёл на людей глаза, и вдруг за ними, далеко, на расстояньи птицы, над безбрежной водой летящей, аж башка моя закружилась, то ли во времени умершем, то ли в больном и хриплом грядущем, а может, и в празднике настоящем, я увидел.
Я узрел её.
Рыбы, мертвяками лежащие на резучем снежке, встали, как во сне, и медленно, важно, дрёмно стали водить вокруг меня хороводы, и морская ли, речная влажная слизь капала с алых плавников, голубых ртов, медно-радужных, размеренно, обречённо дышащих жабр на прожжённый золотом, грязью, сапогами и валенками военный снег. Почему убитая жизнь оживает? Можно ли оживить убиенного? Можно ли воскресить опочившего?
Аще яра зима, но сладок Рай, болезненно труждатися, но блаженно восприятие.
Я глядел поверх голов. Там, далеко, на краю видимого и слышимого света, на краю мною не прожитого времени, стояла женщина.
Изрезать бы зрачками широкую даль! Изувечить её, искромсать, отбросить! Ненужным мусором в белой зимней топке - сжечь! И сократить между нами расстоянье. Мы все передвигаемся в пространстве. Самолёт над нами летит, белая железная, утлая утка. Вот-вот рухнет. Подобьёт его кто с земли, взорвёт ли кто изнутри - а людям уже все равно: исследуют, обследуют, наследуют, а на самом деле не верят ни во что и не знают ничего. Так, думают, целитель Время всё залечит, все крепко забинтует. И рану не узрит никто. Не подкопаешься. Марля к лучезарной крови навеки присохнет. Отдерёшь лишь с диким воплем: а-а-а-а-а!.. пощади!..
- Пощади, - вылепил я тихо холодными губами сквозь все волосяные зверьи заросли на лице моём, - узри меня.
Ветер взвил её далекие спутанные волосы, мотал, крутил, и я с трудом различил: они густые, когда-то, века назад, были, верно, молодыми и золотыми, а нынче все исчерна-седые. Это не метельная белизна. Серый пепел. Голова сожжена горем, лютым приговором. Я знал, каким, но сам себе не говорил - сам себя от внезапных, стыдных слёз на ветру - берег.
Сам себе берег... сам себе оберег...
Обернулась. Всё как я хотел. Намолил.
Я закрыл себе дрожащую нить рта голой ладонью, и под огненной кожей пополз стланик бороды, вспыхивала колкая дрожь усов, и мои, стриженные, видать, в иной жизни власы хлестали меня по впалым коричневым щекам: я превратился в живую кору дуба, в слои и голые зимние струи переплетённых веток, в забытый птичий крик. Вон она, птица, парит высоко над рынком, над нашей судьбою, войною.
Женщина с голой простоволосой головой, босая, стояла на дальнем берегу застыло, глядела на меня. Я только угадывал, что - на меня глядела.
Может, она глядела на птицу в небе.
Птица вмиг обратилась в зимнюю стрекозу и резко, стремительно стала падать вниз.
Я голову задрал, не отрывал от птицы глаз. Я весь перелился в зренье. Стрекоза падала. Стальная. Сумасшедшая. Её кто опоил? Ее-то зачем подстрелили? Подранком не оставят: широкие прозрачные крыла распахнуты на пол-Мiра, и застрелить пол-Мiра - да как делать нечего, если оружие у тебя имеется.
А когда железная стрекоза уже приближалась к земле, ко всем нам, неслась на нас оголтело, я с ужасом понял: и не стрекоза, и не птица, а крылатый человек, крыльев полоумный размах, он все ближе, а весь рынок пьяные песни поет, кто видит летящего, а кто не видит, падай, мол, мужик, на здоровье, все видней и ярче его лицо и руки, и на крыльях горит его лицо, и живот горит лицом, лицо его везде и всюду, ветер срывает с летящего стремглав жалкие пятнистые тряпки, облитый кровью камуфляж, всё его тело, что жестоко обнажает молчаливый ветер, горит слепыми и зрячими глазами, он сам - одно чудовищное Око, он видит телом, он видит ладонями, умоляюще повёрнутыми к равнодушному рыночному многолюдству, он глазами кричит, он глазами взывает, взвывает, молится бессчётными глазами; он многоочит, и я впервые вижу такое чудо, я о таком только в книгах толстенных, обтянутых телячьей, бараньей и свиною кожей, читал.
От земных на Небесная помыслив и делом совершив, красная Мiра сего во уметы вменил еси, Христа ради юрод быв на земли, терпением и жестоким подвизанием сын света показался еси и в Царствии Небеснем светло зриши Святую Троицу, преблаженне Василие.
А никто не увидит. А никто не заплачет!
Я плачу, я.
Стоял я и плакал.
А быть может, вот буду стоять я и плакать?
Времени не стало. Женщина, там, далеко, босая, на снегу, сделала шаг. Клянусь: она сделала шаг ко мне. И ветер утих. И сделала она шаг, и одним шагом перемахнула сугробы, церкви, визги, причитанья, корзины, мешки, гробы, бомбы, пули, рыболовные сети, россыпи облепихи, копья, яды, царские палаты, больничные каморы, дикие горы и Время, что нас разделяло.
И оказались мы с нею, верьте не верьте, да мне вовсе и не нужно, чтобы вы верили, лицом к лицу. И - глаза в глаза.
Она схватила меня за руку, и я чуть не отдёрнул руку и чуть не завизжал от невозможной боли: будто руку сначала пучком огня, глумяся, ожгли, а потом топором отрубили. И кровища хлестала неостановимо. Я глядел, как хлещет из меня кровь: живая, моя.
А простоволосую это ничуть не волновало. Она глядела на крылатого человека в камуфляже, что резко и страшно падал вниз. Моя кровь заливала наши ноги и снег вокруг, я косноязычным шепотом пел древнюю молитву, плёл языком, заплетал мысли в косицу, плыл глазами ввысь и вбок, а наш брат, человек, летел к земле, чтобы в землю воткнуться, чтобы средь людей - не выжить, а там, в земле, жить, в земле - собой - навечную дыру выжечь.
- Давай поможем... поймаем...
Я вытянул вперед целую, счастливую руку, из отрубленной несчастной кисти хлестала неостановимая жизнь.
Она тут же, на глазах, становилась смертью и заливала снега, снега, льды, льды, предательски скользкий металлический наст, ледяные ромашки, розы, пионы и колокольчики, что, дрожа и звеня на морозе, расцветали у нас под ногами, затягивали инистым узором нам щиколотки, икры и ступни.
- Не надо, - вышептал нежный голос рядом со мной, вплелся перлами вьюги в мою кудлатую медвежью бороду. - Разве ты не узнал, кто это?
Крылатый не мог крыльями шевелить, они уже не махали, а только вздрагивали. Всё быстрее катился живой камень с неба. Я уже хорошо мог разглядеть лицо. И, когда я сполна, до мельчайшей черты, до самого малого алого плавника и медленно, тяжко воздымающихся жабр разглядел его, я вскрикнул, и огонь моего крика прожёг золочёными пулями виски, лбы, черепа всех живых, что слонялись по рынку, покупали, ели, пили и пели, и все завопили вместе со мной, ужасным эхом, и рухнули в снег - кто на колени, кто на живот, кто навзничь, - ужас изловчился и обнял всех, сразу, разом, превратив в одну дрожь, в один стон, в один скрежет зубовный: это я сам летел с небес вниз, к земле, чтобы насмерть разбиться.
Я отразился в самом себе.
Я зеркалом своим стал.
"Ах, зерцало, зерцало проклятое", - невнятно шептал я, а может, это моё зеркало шептало мне, ставя на сердце моём клеймо неотомщённого зла.
Я сейчас разобьюсь, подумал я ненавидяще, и кого я ненавидел в тот миг, я бы не мог сказать. Неужели человек, переступая порог гибели, перестает мыслить? Чуять чужое дыхание? Наслаждаться любовью и едой? Я был голоден, я хотел жить, а мне поднесли на зимнем блюде смерть. Настоящую. Не прошлую, не будущую. Я есмь здесь, и я сейчас, и кто мне руку отрубил, и кто в камуфляж нарядил? Где Мiръ? И где война? И кто эта зимняя босоножка, зачем она? Я знал её раньше. Я просто имя забыл.
Я подлетал к земле, голый, и я нагишом стоял на земле, задрав башку, повторяя распяленным ртом разинутый в крике рот ещё там, в синеве, летящего меня.
Я хотел выкрикнуть: как твоё имя, родная?! - но земля слишком быстро, хитро выгнувшись самым жёстким своим, ледяным боком, коварно легла под меня, и я сначала ударился о неё, потом, дрогнув всем длинным нагим телом, вошёл в неё, она раздвинулась, как бабьи белые, холодные ноги, и вместе с ней разошлись в стороны черви и личинки, кроты и ласточки, пчёлы и корни, кости и хитиновые панцири, обломки мрамора и распилы колонн, расколотые в дыму злобы иконы и навек засохшие в мисках краски, яйца динозавров, угольные пласты, скрученные в медный нервный ком струны - скрипки ли, рояля, сиротской бродячей гитары, - расселись могилы, восстали гробы, полетели, клубясь и кувыркаясь, Херувимы, Серафимы и Архангелы, полетели чирки и вьюрки, воробьи и голуби, колибри и павлины, а земля подо мной разымалась всё глубже, всё бесповоротней, разламывалась влажной гигантской ковригой, и внутри земли верещала погибель, стонали разрушенья, метались катастрофы, и из самой глубины, из беспросветной тьмы, куда никто и никогда не заглядывал, ни Бог, ни даже диавол, поднялась последняя, самая неисходная беда, страшнейшая людская придумка: на ней люди жили, на ней ели и пили, и да, на ней пели и танцевали, друг друга целовали, - а как зовётся она, я, в землю по горло, по макушку вошедший, уже хорошо знал, я вспомнил имя: Последняя Война.
В землю я воткнулся один. Один я летел под землёй. С изумленьем понял: в земле тоже можно лететь, как над землёй, никакой разницы. Расседалась под моим пылающим телом чёрная земная лава. Ширилась трещина. Я чуял, что трескаюсь сам, как переспелый плод, из меня кровью вытекает сок, жизнь, сон.
А она там! Там, на земле! На снегу!
Поверх моего конца!
Оборвался...
Что остановилось? Куда обернулось? Как застыл гудящий, скрипящий остов? Кто отдал приказ начать всё сначала? Я разрезал нагими телесами землю надвое, как пирог. Я выскользнул из неё, вышел с другой стороны бытия. Две половинки горячего хлеба разорвались. Я летел среди звёзд. Рядом со мной радостно летела эта, босая.
- Как твоё имя?..
- Узнаешь в свой черед.
Мешковина её нелепого, нищего платья развевалась, затмевая иглы звёзд, я хотел читать звёздные письмена, но не смог, передо мною всё время моталось в прогалах угольной густоты её светящееся лицо. Я опустил глаза. Кто забинтовал мою культю? Кто успел? Или это я сам успел? Куда, Господи, я успел? Напрасно я здесь? Или нет? И как зовут меня, меня? А надо ли, чтобы всё на свете имело имя? Может, без имени легче, проще... светлее?
- Ты...
Она беззвучно рассмеялась и закрыла мне рот холодной, межзвёздной ладонью.
- Скажи мне! Почему мы приговорены убивать!
- Одни люди убивают. Другие любят. Так всё просто.
- А если ты, убивая, любишь?! Ты же сойдёшь с ума!
- Сойдёшь с ума, - она смеялась неслышно.
- А мы живы?!
- Не спрашивай, узнаешь - душа сгорит.
- Я мыслю, значит, я не умер!
Она, летя, схватила меня за обмотанную бинтами руку.
- Да ведь и я не умерла. Хоть я с тобой вместе летела. И вместе с тобой разбилась.
- Что же? Мы ожили?
- Да мы, Василий, и не умирали.
Босая назвала меня по имени. Это меняло дело. Я и вправду был ей знаком; ей родной. Ей - одной. А больше никому в целом свете. Я ходил по улицам голяком, пророчил, ветер терзал мою бороду, я жёг на морозе толстую, с конскую ногу, витую свечу, но я забыл, о ужас, я напрочь забыл, что я воевал; что я знамя целовал; что я против зла восставал; что меня, раненого в бою, резали ножами, кормили чёрствыми хлебными корками, подносили, чтобы я, скрежеща зубами, молча перенёс казнящую, звериную боль, а потом укладывали на зеркальный ледяной стол и, склонившись над моим разъятым телом, меня склеивали и бинтовали; да, это была моя война, и она продолжалась немыслимое, непредставимое Время, она шла там, где Времени нет, откуда глядело огромное незрячее Око, радужка из шевелящихся голых людей, зрак - нефтяная воронка, чёртов омут, толпы вращались, омут втягивал, никто не вернулся оттуда, а вокруг Ока топорщились великанские ресницы - деревья, заборы, небоскрёбы, ракеты, пушки, гаубицы, бетонные бараки, безлюдные скалы. Люди падали в непроглядную воронку, веко наползало на Око, оно, Всевидящее, закрывалось, а потом открывалось, распахивалось до отказа, настежь, и всё начиналось сначала.
Босая держала меня за разрубленную руку. Больно, да я терпел.
- И я начался сначала?
- И ты. И я. И всё на свете. Человечество - это многоножка, многоручка, многоживот, многожизнь. Умрёт один - вырастет тысяча. Нам всем нет имени. И у нас одно имя. Разве ты не видал нас всех во снах твоих?
Я, летя в чёрном небе, закрыл глаза. Мой вздох вылетел из груди, превратился в железную рыбу и поплыл в чужих небесах, чтобы наткнуться грудью на Солнце, на предательство и наказание, разорваться, вспыхнуть и опять умереть. Жизнь повторяется, почему бы не повториться смерти?
Я сам себе почудился горящей во смоляных небесах свечой. Я, Василий, шальной нагоходец, дерзкий провидец, молящийся Богу и огню, знающий, чего другие боятся. Гори, Василий, гори, пока жив, пока мёртв! Никого ты не боишься! Только Бога одного! А летит рядом с тобой кто?! Жена твоя?! Мечта твоя? Молитва твоя?! Бормочи, пока язык не примёрзнет к нёбу... сетуй, плачь... вымолчи твою обиду... вознеси благодарность... и даже за то, что тебя - опять - убили...
Спой колядку! Под дуду, под трёхрядку! Спой и убиенный! Над жизнию мгновенной! Спой, ведь нынче праздник... без слёз, без боязни... над свадьбой, над казнью...
...коляда, коляда!
Ты родился навсегда!
Бог родился навсегда...
Жизни вечная вода...
Звёзды светят до зари -
Их в корзинку собери!..
С ними по Мiру пойди,
Прижимая ко груди...
Звёзды, с ними весь гори...
Звёзды... с ними не умри...
Звёзды, горе и беда...
Лихолетье... холода...
Навсегда и никогда...
Коляда!.. коляда...
Я раскинул руки. И, знаете, люди, глазёнки слепо распахнул, оглянулся, а вокруг - никого. Весь рынок молчит. На снегу мёртвые рыбы смиренно лежат. Вперемешку с помидорами солёными; с вываленной из упавшей бочки квашеной капустой, похожей на мою лешую бородищу. На снегу лежу. Руки раскинуты, вроде как распятый. Мальчишка в залатанном тулупчике на мою голую ногу катанкой наступил. Повожу глазами налево, направо. Обе руки целы. Да из одной кровь недуром течет. Острым плавником ладонь проколол. Торговка затихла. С колокольни звон слезами поплыл.
- Панихидно звонят.
- Да ведь нынче прибыли во престольный град наши мальчики убитые. В запаянных гробах! И не откинуть крышку. И не обнять.
- Одно слово, Зимняя Война.
- А это кто тут разлёгся? Да вон, вон, на снегу валяется?
- Да на Зимней Войне раненый. Без роду-племени. Бродяга. То ли заключённый, а то ли преступник какой, бандит, а то ли, может, нищий приблудный, на Войну за денежкой ломанулся. Привезли, с вертолёта сгрузили да так тут и бросили.
НА ВЕЛИЦЪЙ ВЕЧЕРНИ, СТИХИРА:
Радуйся, богомудре Василіе, Святаго Духа дарованіе вниде въ помышленіе твое, и весь свободенъ былъ еси о Господѣ, всѣхъ земныхъ вещей житія сего суетнаго. Предспѣяй добродѣтельнымъ подвигомъ и терпѣніемъ, юродственное жительство избралъ еси, измѣнивъ тлѣнная упованіемъ на Бога, желая сподобитися Царства небеснаго. Храненіе положилъ еси устомъ твоимъ и, ходя путемъ заповѣдей Господнихъ, побѣдилъ еси брань непріязненну, чистъ помыслъ всегда имѣлъ еси, вѣры ради и любве Божія, и, пріемъ возмездіе, со Ангелы селеніе, моли спастися душамъ нашимъ.

ФРЕСКА ПЕРВАЯ. МЕДВЕЖИЙ СОН
Муки и слёзы - ведь это тоже жизнь.
Ф. М. Достоевский, "Преступление и наказание"
(РИСУНОК В КНИГЕ ЖИЗНИ:
ХРАМ, ОХВАЧЕННЫЙ ОГНЁМ)
ВСЕВИДЯЩЕЕ ОКО
- Эй! Василия убили!
Он падал, ему почудилось, слишком уж долго, чужой крик вонзился не в уши - в небо, что громадными злыми крыльями распахнулось за его спиной. Взрыв разворотил внутренности, пуля воткнулась в нежную плоть, о нет, совсем не нежную - в перевитость жёстких жил, в сгущенье тяжёлой крови, в каменное напряжение мышц. Смерть поразила его и вышла навылет, и он ещё успел подумать - как же так, я ей не понравился, она покинула меня, вырвалась из меня, - и он падал, падал странно, летяще, раскинув руки, повторяя размах крыльев за сведёнными судорогой лопатками.
Сбоку, впереди, сзади, сверху и снизу кричали. Крик разросся и превратился в шар, покатился по полю. Поле давно взрыли, вскопали разрывами, расстреляли, пригвоздили к подземной тьме. Мысль сверкнула древней молнией: вот и теперь стану землёй. Землёй станут все, ответил на вспышку неведомый грозный голос: извне или изнутри, он не понял. Лететь вниз можно так же медленно и бесповоротно, как и вверх. Вверх-то он летал, и лётывал частенько, и совершенно не боялся беспредельного взмывания над смертным жалким Мiромъ: полёт ему был сужден, он это знал с рожденья. Что есть рождение? Рождество? Рождество Твое, Христе Божие... Он, летя вниз, в землю, вспомнил весёлую колядку, он же сам её и певал, бегая с ребятишками босиком по снежку, режущему ступни-пятки острыми рыбацкими ножами; мазанки белыми варёными яйцами блестели в чистой, искрящейся тьме, алмазы в сугробах было хоть собирай - девчонкам в подол, мальчонкам в ушанки, - и, несясь по колючему яростному снегу босыми ножонками, в подвёрнутых портках, в накинутой на домотканую рубаху шубейке, зыркая глазёнками на долыса обритых пацанов и девчонок сопливых, носы кулаками утирающих, он вдруг понял: да нет, не на поле боя его убили, это он летит там, высоко, под звёздами, в железном бочонке, самолётом прозываемом, и стрела Божия в бок самолёта воткнулась, так втыкается на осенней охоте пуля в жирную утку, утка жить хочет, а вот её убили, и надо понять, мальчонка ты глупый, никчёмный, - всех убивают, все неугодны, все убитые становятся святыми.
Не стоять тебе на столпе! Не упираться усталыми подошвами, шершавей наждака, в ледяной красный кирпич либо в древняный сырой настил! Не столпник ты! Ты - летящий в небесах нахал, наглец, жестокий воин, солдат, и полетишь теперь внутри земли! И оттуда ничей голос не донесётся, и твой тоже! Забудь про голос! Он - не слышен! Сцепи зубы! Стисни губы! Пусть кровь нутром хлещет! Заливает тебе печень, кишки, селезенку, жадные до жизни потроха! Всех взорвали! И тебя тоже! Не уберёгся! Не спрятался в нору! А ещё хрипишь колядки! А в рот тебе вползает глина! Втыкаются белёсыми щупальцами коренья! Вкатываются угли, железяки, личинки, черви! Последняя жизнь в тебя земляной кулак суёт, да прямо в зубы!
И, выплёвывая землю в её подставленную тебе под подбородок глубокую чёрную чашу, ты всё равно пел, хрипел, сопел, выталкивал из себя самое первое, самое кровавое, кровавей пуповины, то, с чем ты появился на свет.
...коляда, коляда!
Наступили холода!
Святки ныне, Святки -
Звёздные колядки!
Мы-то звёздочки с небес!
На поляну пали, в лес!
Прикатилися к избе -
Песня Богу на губе!
Паук, ткач зловредный, крестом на спине пугающий, откатись. Я не твой! Не твой!
Паук, а ты в земле ютишься, в траве ползёшь или на крыше звёзды ледяные наблюдаешь?!
Паук, ты хрип. Ты земной оси скрип. Нет. Отзынь. Скрючься и сгори. В пепел. Это я земная ось. Меня воткнули сухим мёртвым посохом в мою землю родную, а я расцвёл деревом. И шумлю на ветру! И падаю, падаю!
...громко, звонко мы поём,
К вам любовь-любовь зовём!
Дай колбаски, пирожка -
Жизнь мала, а не долга!
Ты понял, насекомое, мала, а не долга. Ой нет! Ошибся я! Долга, а не мала! Рюмка ползёт по скатерти на краю стола! Сейчас упадёт стакан! А я ещё не пьян. Я повар... я повар нашего Царя... и всё не зря... Слышишь, паучина! Не зря!
...вы живите много лет,
Смерти не было и нет!
Не помрёте никогда!
Коляда... коляда...
...ещё никто из живых, живущих, падая в смерть, не удосужился распевать зимние колядки. Во весь голос. Во весь предсмертный хрип. Земля - самолёт. Его подстрелили. Прострелили. Что делается со зрячим сердцем, коли оно узрит непоправимое? Я хочу всё, всё поправить! Хочу новое блюдо моему владыке приготовить! Юродивое! Наисладчайшее! Вы воевали за изобилие, за богато накрытый стол?! За то, чтобы никто и никогда не смел нас унизить, расколошматить в пух, вспороть ножом изощрённой, жгучей лжи?! А ещё за то, чтобы мы - не стали - железными! Чтобы мы - машинами - не стали! Чтобы не звякали наши сочлененья, винты-болты, шурупы и шестерёнки! Чтобы мы, раненые, шаг вперед - а за нами - полоса крови живой, струящейся! А не струя вонючего машинного масла!
...я не масло для танка. Я не шуруп. Я человек. Я человек.
Пока ещё - человек.
Пока, это значит навсегда.
У меня уже нет времени вам, люди, толпа моя возлюбленная, всё объяснять. Некогда молиться, и чтобы вы за мной вечные слова повторяли. Слово теперь для вас ничто. Ничто и жизнь. Да, жизнь превратилась в ничто. В пустоту.
Нутро разворочено взрывами, болью, безумием.
Валюсь в пустоту. Ноги задраны выше головы. Падаю. Падаю!
...не помрёте никогда!..
Коляда... коляда...
Да. Никогда. Яростно-точное слово, безумное, тёплое, жарко шевелящееся за пазухой, никогда не моё, навсегда моё. Я с ним ухожу, ввинчиваюсь в землю. Земля разымается подо мной. Всё есть бой, затишье ли, взрыв. Я убит на войне. На Зимней Войне. Под Москвой. Под красными башнями, алыми звёздами, алыми снегами, киноварными крестами. Видите?! Видите?! Храм мой красный! Храм Покрова! Отсюда, из-под земли, видать едва! Там звонят. Надо мной?! Я не просил панихиды! Я ещё поживу! Я и в земле буду жить! Я всех обману! Я убит, но я не умер! Вот что самое дивное! Для вас - загадка! Для меня - глоток смеха!
...не помрёте никогда...
Кто из вас помнит своё начало?!
А разве есть начало и конец?!
Разве всё не крутится бесконечной, горячей радужкой Всевидящего Ока, то угольной, то чисто-небесной, и разве не все вы отражаетесь в Оке Зеркальном, и разве вы не видите, любимые люди, что скоро вы все помрёте, да зачем тогда вот это всё, всё, что вы творите, всё, над чем вы рыдаете, всё, во что вы верите?! Око! Глядите в него! Оно видит всё! И то, чего нет и не будет никогда!
МАЛОЕ КЛЕЙМО ЖИТИЙНОЙ ИКОНЫ, ЗАКОПЧЁННОЙ ВРЕМЕНЕМ
Он родился, обычный ребёнок, от обычной бабы, и никто не знал никогда его отца.
Он прекрасно помнил мать, он и отца помнил. Но никому никогда об отце не говорил.
И то правда, никогда не говори никому о тех, от кого ты на свет появился.
Его мать была сельской лекаркой, тихой знахаркой; в горах затеряны деревянные матрёшки - избы родного сельца, крыши крыты соломой, у изб мохнатые башки, иной раз мимо окон протрусит волк, шерсть у него жёлто-серая, а крохотные зенки под скошенным лбом серо-жёлтые, золотые: волк поглядит - и ты нечеловеком вмиг станешь.
Зимой наметало сугробы до неба. Мать ведала много, да больше молчала. Он ещё до рождения помнил её молчаливой, собирающей целебные дикие травы в луговинах, заросших лиловым багульником, и на склонах крутояров. Тайга раскидывалась рыжей шкурой, медвежьей. Да, волки там таились, лисы шныряли, иногда мальчонка Василий, шально, один, отколовшись от матери, любопытствуя, забредая в тайгу, зрел барсука. Барсук жил в громадной норе под старухой-сосной, крутосклон осыпался опасным обвалом, дерево изо всех силёнок цеплялось нагими корнями за красную влажную землю. Глина, пропитанная кровью. Земля всегда исторгала из его глаз слёзы, что во младенчестве, что в зрелых волчиных годах, и он шептал себе: глупо плакать над землёй, ведь она обнимет тебя однажды. Брусника, капли её кровушки среди сплетенья листьев и стеблей. Тёмно-синяя грозная жимолость, куст клонится под её сладкой, чугунно-грозовой, княжьей тяжестью. Облепиха, пылко, жадно обнимающая раскидистые ветки, она ловко прячется среди узкой серебристой листвы, чтобы её не сорвали, не сожрали звери и люди. Медведь любит ягоды, он тоже человек. Мать называла медведя ласково: медведко, волка так: волченька, и все звери таёжные у неё звучали колокольчиковой, гвоздичной музыкой: волченька, лисонька, барсучишко. А к тайге мать обращалась так: вставала на колени, протягивала сильные красивые руки к чащобе и говорила-пела, закрыв лунными веками очеса: лесушко бажоный, дай мне зверя поразить на пропитание родному сыночку моему! Таёженька бажоная, дай ягодки в туес, дай водицы из реченьки! Дай черемши пучок, дай медка дикого, диковинного из дупла, а вы, пчёлоньки, не кусайтеся! И пчелы разлетались перед матерью веером, и зачерпывала она песочно-медный, густейший мёд из дубового дупла, он небесным златом лился на землю, струился золотной тонкой нитью; и низко наклонялась она, сбирая остро-пахучую черемшу цвета болотины, и долго стояла в чаще с прижатой к плечу винтовкой образца первой мировой войны, старательно и страдально сторожила зверя; и вот зверь выходил, показывал страшную морду свою, нельзя было глядеть в глаза зверю, его сородичем тогда беспременно станешь, но мать глядела.
И Василий учился глядеть тоже.
Он глядел и уже рождённый, у него, живого, ведь торчали глаза подо лбом, глядел и нерождённый, и это было страшнее всего. Тела не было. Рук-ног не было. Разума под твёрдым костяным черепом не было, а он уже жил, глядел, любил.
Он рассматривал будущую мать сверху, слева и справа, снизу и сбоку, он видел её сразу, всюду, и сразу наблюдал все её времена, в коих она жила. Так он до жизни учился познавать жизнь. Он понял: жизни нельзя приказать явиться, и жизнь нельзя оборвать.
Однажды его мать нашла близ угольно-жуткой, дышащей мощью Ада барсучьей норы дощечку. С доски на мать, на тайгу глядел нежный лик. Мать запрятала доску за пазуху и медленно шла сквозь лес, сама себе казалась горящей шёлковой нитью цвета слепящего жарка, тянулась бесконечно, скитально через распадки, овраги и увалы. Придя домой, мать огляделась. Как тепло, чисто в доме! Две толстенные, с коровию крепкую ногу, свечи стерегли раскрытую на любимой странице Книгу Жизни. В Книге написано всё, что люди знали, и всё, чего не знали, а Бог знал. Богов в тайге летало множество, а в Книге царил Бог один, да тысяча лиц сияло у Него, отовсюду Он глядел: отверни камень - Он там, погрузи сеть в ледяную реку - Он забьётся в сети. На ржавой плахе подпечка стоял медный чайник, мать нашла его на речной отмели, рыбаки тут жгли костёр, воду кипятили, чай хлебали и чайник позабыли. Где тех рыбаков теперь сыскать? Мать, когда в чайнике булькал и парил кипяток, молилась за рыбаков. Она молилась странными, забытыми, корявыми словами.
Праздники на селе играли замысловато, радужно. Обряжали друг друга в венцы из трав и колосьев, в понёвы длиньше годового круга, обворачивали плечи волчьими жёсткими, железными шкурами. Сельчане прикидывались больными, напяливали белые рубахи; белизна родильных пелён, белизна свадебной ткани, белизна смертного савана. А кто одевался Звёздным Жителем, брал в руки красные цветы - маки, жарки, полевые гвоздики, - осыпал нарочно-болящего теми цветами, обливал живою водой из стеклянной четверти. Вопил оглушительно: "Вста-а-а-ань!" И якобы мёртвый вставал, широко распахивал глаза, улыбался робко, обнажая зубы, а как беззубый. Вокруг на земле сидели девки и громко, взахлёб пели: ай, жизня! ай, любовь! породися вновь да вновь! Ай, судьба! Ай, краса! Небеса, небеса!
Старики курили. Звёздные Жители смеялись звонко, будто зимние алмазы размашисто рассыпали. Костры горели сильно, мощно, наваливалась медвежьей тушей ночь, забивала чёрной шерстью глотки, глаза, занавешивала лица. Про Бога, учившего про любовь, знали-помнили все, да старики сквозь дым, прикрывая морщинистые воспалённые веки, хрипели: помни про Великое Небо. И про Великую Землю.
Мать Василия помнила своё имя, да часто забывала. Она рано начала терять словесную память, зато память извилисто льющейся внутри, по её потрохам, крови все разгоралась, причиняя ей боль, особенно ночами. Иногда кровь начинала в ней бормотать, пророчить. Мать Василия научилась читать письмена крови без слов. Кровь подавала ей знаки. Однажды женщина раскрыла рот и назвала себя по имени, а ей почудилось, не голос, а рык зверя окликнул её. Марина, выдавила она из натужной глотки, Марина, она пыталась вспомнить, какая же далёкая, заоблачная святая, из тех, что рисовали на еловых досках и выцарапывали на берёсте, это имя носила. И эхом ей повторило дальнее лесное рычанье: Ма... ри... на... - и она закрыла уши руками и сидела так долго, не отнимая рук.
Женщина предназначена родить. Она не хотела идти в лес. Грани стакана горели, просили ягод. Жимолость, брусника! Туес валился с лавки. Корзины зазывно выставляли плетёные бока. Солнце высоко горело, оранжевым глазом сбитого масла, в сметанно-белом небе, и тайга под лучами стелилась колючей, жёсткой рыжей шкурой. Марина подхватила туес, туго подпоясалась, дунула на бесконечно горящие у толстой старой Книги витые свечи, наложила на себя крест, улыбнулась и шагнула через порог. "Не ходи, не ходи!" - кто-то тихо шептал в ней, словно бы говорящий робкий барсучонок, полосатый старомудрый бурундук. Она вошла в тайгу и шла по тропинке, её протоптали сельчане. Ей было страшно и прекрасно. Никогда ещё ей так страшно не было в тайге.
Она ступила ногою в лапотке на поляну, румяную от изобильной брусники. Сначала нагнулась и собирала нагнувшись, потом присела на корточки. Сзади послышался громкий хруст. Сломалась ветка крупная, сухая. Марина обернулась. Из-за лиственницы вышел мохнатый чёрный, огромный человек. Марина два, три долгих мига спустя догадалась: медведь.
Она хотела бежать, да ноги налились железом. Приварились к тёплому, травному колену земли. Не надо! - хотела крикнуть, да ветер закрыл ей уста тёплой липкой, брусничной ладонью. Значит, смерть моя явилась, молча сказала она себе, понимая, что вот они, её последние слова на Великой Земле. Медведь вперевалку, в рост, тяжко ступая на примятую траву могучими, как грозовые облака, задними лапами, шёл к ней, неуклонно, неостановимо. Подойдя близко, он выше вздел передние лапы, и Марина увидала слишком близко от себя блестящие на Солнце, длинные, как жизнь, угольно-чёрные когти. Сейчас лапой играючи махнёт и кожу мне с башки разом сдерёт, думала она, а мысли дымно рвались, слова кровили и разлетались красными брызгами, раздавленная брусника стекала по щекам, по белым плечам, они заголялись, торчали из измятой ткани, колени подкашивались, гроза надвигалась, её уже ничто в мире не могло остановить. Она не запомнила, падала она на живот, на бок или на спину перед зверем, а он на глазах превращался в дикого человека, мохнатого, бродячего, неприкаянного, злого, нежного, убивающего, умирающего, воскресающего. Когда Марина упала, он одной лапой легко, будто она была пушинка, перевернул её с живота набок, с бока на спину, и, вставши на все четыре лапы, наклонился над ней, уставился на неё, глядел долго, маленькими, широко расставленными, красными ягодами-глазами, и, когда кудлатый лик придвигался ближе, всё ближе, её закинутое лицо опахнуло из пасти невыносимым жаром, словно бы чрево земли разъялось, и оттуда вырвался сноп горячего, довременного воздуха, твёрже охотничьей ладони, страшнее пули, впившейся в живую, взорванную болью мясную мякоть.
Время сжалось в кулак, в смешной, полный воздуха и пустоты гриб дождевик. Время лопнуло, на его месте оказалось ничто, сладкое, как древняя синяя жимолость. Лапы чёрного огромного медведя укрыли её звёздной траурной парчой, струящимся крепом, таким в избах бабы при покойнике, во гробе лежащем, закрывают тусклые, с шелушащейся амальгамой, родовые зеркала.
Тайга смешала заполошным варевом день и ночь. Прямо в центре необъятной ночи Марина разлепила глаза и губы. Перед ней лежал медведь. Спина его возвышалась тяжёлым угольным холмом. Лапы он сложил кольцом, сквозь них можно было пролезть и уползти в мохнатую горячую, душную нору, под его земляной, зимний живот. Лето ли, осень, зима? Всё бурлило, клокотало. Времена радугой вставали-изгибались пред румяным потным лицом Марины и падали в дышащий пьяной черемшой овраг, за её спину. Тело её свело длинной судорогой; она боялась превратиться в железную стрекозу со слюдяными крыльями и взмыть в холод и звёзды, и навек улететь отсюда.
Марина неслышно положила тяжёлую руку на тёплый бок зверя, осторожно вплела пальцы в ночную шерсть. Медведь не охнул, не застонал, не вздрогнул. Он слишком крепко спал. Труд жизни придавил его многоочитым небесным грузом.
ОСТАНОВИТЬ ПОЖАР
Я, Василий, безумным ныне все кличут меня, таковой я, видать, и есть, хорошо помню, как я зародился. Помню человека, с него медленно сползала наземь, по груди и животу, страшная маска медведя; разымалась надвое и падала к ногам, вся в роскошных грязных лохмах, медвежья шкура. Живое навеки теряет суждённую одежку. Живое прощается с привычным обличьем. Живое перетекает в новое живое, но никогда - в железо, камень, винт, шестерёнку. Остановитесь! Задумайтесь! Ведь и камень - живой: вот уголь, он сложён из скорбных останков давно погибших растений, змей, ящериц и птиц. Ведь и железо живое, ибо оно плавилось в первозданном огне, а огнь дышит и движется, разве он мёртвый?
Вздрагивать! Дышать! Растопыривать жабры! Жадно пожирать добычу! А мыслить? Разве камень мыслит? А зачинать? Разве железо продолжит род?!
Смерть и сон отразились в зеркале лица моей матери. Скуластый лик её шел волнами; чуть раскосыми, с дикой сибиринкой, глазами она поводила туда-сюда. Искала. Рыскала зрачками по земле и небу.
Она искала - меня.
А я вот он, я уже был в ней, я вспомнил, как медведь навалился на тело Марины, будто она была вязанка хвороста, копна сухих веток для розжигу таёжного костра, раскинул широкие лапы, обратился в срубленную дровосеком чёрную ель, еловые пахучие, колючие ветви спасительно закрыли Марину, биение её раздавленного медведем сильного тела, кричащий рот, молнией сверкнувшие в ночи зубы. Я видел, как медведь поднялся с земли и встал на дыбы; и как шкура тучей летела вниз, в запределье; и катилась смоляная маска прочь с лица, и наружу, на холмы и в лощины, выходил лесной человек, великий жизнью и духом, владыка предсмертия и посмертья, и посреди тех небывалых, незнаемых времён стоял он, глядел на мою мать, а она, распятая, белая как ранняя зима, покорно лежала под его мощными мохнатыми ногами.
Владыка наклонился, ухватил мою мать под мышки и медленно, нежно поднял с земли. Золотой лик моей матери уткнулся владыке в голую грудь. Руки вождя зверей сомкнулись у Марины на голой спине. Разделённая надвое голая жизнь обнялась, воссоединилась. Теперь их было не разрубить, не разъять.
И горячая звёздная материя перетекала меж ними, я вливался во чрево матери моей, дрожал там, во тьме, и раскидывал незримые руки и ноги, пытаясь паутинно, невесомо обнять беззащитное моё бытие. Все стрелы будущих страданий жгуче воткнулись в меня. Я стал сам себе боль. Сам себе огонь. Сам себе Крест. Крест вспыхнул Солнцем, и я обжёгся и закричал. Я зверем вопил там, внутри матери, телеса мои росли, вспухали, прибавлялись горячим тестом, то горечь, то сласть бешено заливала крохотные мои, мельче комара, немые губёшки, я, сидя внутри материнской плоти, слышал, как, легко звеня, по кругу ходят бешено пылающие небесные светила, слышал, как бурундук, ловко вертя в когтях кедровую шишку, лущит её и шелушит, и острые алмазные его зубы разгрызают орешки, семена любви. Я разрастался внутри утробы, пел там, плакал, визжал. Меня не слыхали, зато я слышал всё.
И видел всё.
Человеку совсем не надобно зренье, чтобы видеть. Он видит иною сущностью. Я, Василий-царь, знаю это. Всей кожей узнал. Всей кровью. Когда в кровь моей матери вливалась белая, зимняя медвежья влага, и реки двух священных жидкостей соединялись и мгновенно, колдовски лепили меня, вылепляли мне лик, рамена, чресла, чело, очи, да всё, из чего сложён хрупкий земной поселенец... жаль земного поселенца!.. жаль навеки, до конца, до звёздного туманного венца!.. - я видел всё, и даже то, что мне, на земле людей, не дано было въявь увидеть никогда.
Я видел иные реки. Чужие моря. Пугающие высотой горы. Громадные, раскинувшиеся от хребта до хребта, расшитые серебром бурь густо-лиловые, грозные посадские платы океанов. Я видел странных людей, изысканно-томных, устрашающе-великанских; бисерных, малюсеньких, крохотнее кошки. Я слышал звучанье многих языков, томительно рыдали их песни, звенели на площадях их воззванья и приговоры, а мне было всё до выдоха понятно, что кричит и шепчет другой народ: кто открывал мне иные смыслы, я не знал, да и знать не хотел. Владыка-Медведь и мать Марина зачали меня, я видел, как это творилось, и я запомнил это навсегда.
Никогда? Навсегда?
Что такое теперь, тогда, всегда, никогда?
Я, кувыркаясь в брюхе матери моей, медведицей так и не ставшей, а оставшейся человечицей, знал: Время - не для часов, не для ходиков, медных стрелок и лунного безглазого маятника, а для самого себя.
Время рождает само себя на свет и уходит само в себя.
Поэтому мы не можем поймать его в капкан, как зверя в тайге.
Не можем пригвоздить ко Кресту, колесовать, ножом изрезать, сжечь на костре.
Мы ничего не можем с ним сделать.
Зато оно с нами может сделать - всё.
***
...и, когда они, освобожденный от Царских шкур зверь и молчаливая лесная женщина, обнимались среди тайги, и потом опять легли на хвойное ложе и обнялись ещё крепче, ещё бесповоротней и обречённей, я увидел в небесах, над тайгой, как с пропасти зенита сорвался сноп света и резко, быстро устремился к земле.
Метеор? Болид? Свет летел к земле в сияющей тысячью звёзд осенней ночи, и я рассмотрел: это человек. Маленькие ручки, маленькие ножки, совсем как у меня, зачатого миг назад. Голый. Как и я. Летит вниз. Как и я. Я тоже лечу в животе матери, и полёт мой неостановим. Тяжесть планеты. Груз притяжения. Не отсечь. Не избавиться. Не отбиться.
Странный гул возник вдали. Поляна, еловый лапник, зверь-человек на земле, о двух спинах, озарились странным, дальним красным светом, бредовым, пытальным, Адским. Я расслышал: гул надвигался. Приближался. А этот, человечек-кроха, совсем не герой, жалкий, нежный, дрожащая былинка, белая полынная ветка, всё падал с разъятых болью небес.
Он летел! Он летит! Он и сейчас летит! А я где?! А я лечу вместе с ним! Я различал его всё явственнее. Он становился цвета огня. Лес обращался в гигантский костёр и освещал летящую фигуру снизу, подсвечивал грядущим огненным страданьем. Я догадался! Ангел падал с неба, чтобы разбиться на тысячу кусков, а сатана возжёг таёжный пожар. Звери! Птицы! Букашки малые! Сейчас вы все погибнете!
Я, в утробе матери моей, сам был меньше жука, меньше паука. Я полз по стеблю кровеносной жилы, перебирал лапками, узорчатая красная ящерка. Милый Ангел! Не падай в огонь! Не превращайся в пепел! Ведь я же не знаю, погибнешь ты навек или воскреснешь на третий день!
Откуда я узнал про третий день? Нет в мире счисленья дней и ночей, нет отсчета часов. Время не требует от людей измерения. Ему самого себя достаточно. Пламя! Оно приближается! Оно идёт на нас дымящейся тучей! Красной стеной! Оно живёт, оно поёт! Гудит и бешенствует! Нам не заткнуть ему горячий рот. Огонь, он тоже зверь! Никакая женщина ещё не зачала от огня, не родила. Владыка-Медведь и Марина расцепили объятья, отпрянули друг от друга. Застыли. Глядели. Пламя подкатилось уже близко. Пожирало лиственницы, пихты, ели, всё молчаливое воинство деревьев, и деревья кричали от боли всем треском коры, всеми изгибами корней и сучьев. А впереди огня бежали звери, ползли гады, летели птицы, трещали крыльями стрекозы, сгорающие на лету совы и клесты валились в жадные языки огня, в голодную его красную пасть, летящие бабочки и сойки обращались в комья пепла, в горелые личинки смерти.
Зачем живому всеобщая смерть? Зачем горят леса? На пол-Мiра горят? Кто огонь остановит?
Я перевел незримые глаза в небо.
Ангел летел. Ангел всё ещё падал.
А разве в небесах есть верх и низ? Может, для нас Ангел падает, а для Бога - летит вверх, взмывает, торжествует? Лети, пока дано лететь! Небо - колыбель Бога! Может, так Он тебя, Отец, в колыбельке качает!
Что я тогда, в утробе, знал про Бога? Про Него и живые-живущие не знают; вышепнешь: Бог, - а они захохочут над тобой, изглумятся, пальцами зачнут в тебя тыкать, языки высовывать. Я привык. Мне что. Человечек жалок, и я жалок. Я не герой. Я не предводитель. И уж точно не владыка. Усядусь зимою в сугроб, босой и нагой - и стану меньше сугроба. Там, в животе у Марины, я уже знал, что будет со мной! И не роптал. Только огонь! Огонь! Не надо, чтобы погибали барсуки, соболя и сойки! Чтобы корчились в лютом пламени змеи! Озёра чтобы вскипали, и драгоценные рыбы всплывали кверху брюхом! Пощади, летящий Ангел, живое! Сохрани! Защити!
Огонь, я и тебя понимаю, я вижу, слышу, ты гудишь, ты вопишь, у тебя есть душа! Но ведь у всего живого, у каждой былинки и птиченьки малой, есть душа! Всё одушевлено! Слышишь! Всё! И камень - дышит! И кора кедра - дышит! И белка - плачет, видя мёртвого детеныша! И лебедь падает грудью на острые камни, чтобы лечь рядом с подстреленной подругой!
Моя мать шагнула вперёд. Протянула руки. Вся огнём охвачена, озарена. Человек-медведь, расширив глаза, наблюдал, и в радужках его плясали оранжевые полоумные сполохи, сшибались ослепительные копья и стрелы. Марина вдохнула гаревой воздух, тяжёлый удушливый дым; дым остро и жутко пах жареной плотью, полынью, диким луком, сосновой смолой. Смола лилась со стволов густыми слезами, последнее мvро пожара. Марина сделала ещё шаг. Подняла руки, ладонями вперёд. Позже я созерцал фрески в древних соборах: так стояла на могучих росписях Богородица Оранта.
- Огонь! - взвопила Марина сумасшедше. - Огонь, Царь! Ты же Царь! Ты есть первый и последний владыка земли! Ты пожрёшь всё в свой черед! И ты пощадишь нас, если захочешь! Прошу тебя...
Она мотнула головой, будто бы отказываясь от изречённых в ужасе слов.
- Приказую тебе!
Человек-медведь, убоявшись неисходного вопля женщины, отступил на шаг.
Гул огня заполонил всё. Вонзился в уши. Влился под череп. Ангел падал. Ангел сверху видел горящую землю. Полыхающий Царским золотом лес. Я, в утробе, отчаянно бил по волнам крови руками и ногами, изгибался червячным тельцем, пытаясь выплыть вон из горя, не поддаться казни. Я летел навстречу сумасшедшему Ангелу.
И мать моя кричала сумасшедше, захлёбно, неостановимо, и человек-медведь, лишённый когтистых лап, не к её рту прижимал потную, ужаснувшуюся близкой смерти руку, а ко рту своему, искривлённому рыданьем, к трясущемуся подбородку; сейчас всё погибнет в огне, если эта жалкая баба, эта раскосая охотница, страстная ягодница и угрюмая лекарша из ближнего сельца пламя не остановит!
Но ведь потребно немыслимой силы колдовство! Могучее заклятие! Или...
Марина выше, над головой, воздела руки. Под её ладонями уже ходили красные отсветы. На голом лике, на голой груди, на животе сшибались алые копья последней битвы.
- Бог Господь сильный, мощный! Небу и огню равномощный! Небесный огонь, земной огонь! Это все Ты! Ты! Слышишь! Остановись! Господине наш бажоный! Утиши гнев Твой! Молюся Тебе! Слова молитовок всех позабыла! Не нужны они теперь! Замри! Не иди дальше! Не пожирай нашу жизнь, Господи! Стой!
И, когда мать моя возопила: стой! - я ворохнулся в ней бешеной, пойманной на снасть огня древней рыбой, я мог дышать и в воде, и над водой, я мог мыслить и в животе, и лететь поверх пламенных телес, и видел я, как странно, страшно замер огонь, не идя, не двигаясь по тайге дальше, и слышал я, как ветки, сгорая, трещали, и зрел, как отламывались они от стволов и падали на землю красно-золотыми факелами, как с горящих древесных вершин огонь медленно сползал вниз, к земле, к сожжённой траве и сухим листьям, обращённым в погибельный пепел; утихал, умиротворялся, умирал. На глазах человека-медведя и меня, нерождённого, падающего в утробе вверх, всё вверх и вверх, огонь умер. Исчез. Перед нами - голой бабой, голым владыкой и голым зародышем в бабьем брюхе - вставал сожжённый страшный лес, расстилались поляны Ада, сплошь усыпанные погребальным пеплом, поминальным чернёным серебром обгорелых веток и траурными скелетами спалённого зверья.
И видел я, как владыка-Медведь шагнул к матери моей и обнял её так крепко, как только мог.
И слышал я, как шептал человек-зверь ей на ухо, прижимаясь щекою к щеке:
- Благодарю тебя, дочь людей, минутная жена моя. Царь тайги благодарит тебя.
...и в это же время Ангел, что падал с небес, упал на землю, да не на камни упал, не в таёжный бурелом, не разбился на тысячу кусков жаркой плоти, а упал в воду. В озеро. Шёлково расстилалась озера ясная гладь. Голый Ангел падал, вращаясь небесной юлой, ноги его задрались выше головы, он перекрутился в воздухе раз, другой, голова его коснулась переливчатого атласа воды, и живым ножом он вонзился в тяжёлую, синюю маслянистую глубь, вдруг вспыхнувшую серебряной бредовой парчой, вода разъялась под его телом, будто в неё зашвырнули увесистый камень, Ангел нырял всё глубже, камнем уходил во тьму, и пошли круги по воде, они расходились, бежали, таяли, достигали берегов, шли дальше, по земле, по горам и лесам, по камням и дорогам, а Ангела уже никто не видел, кроме меня, спрятанного в мешке кровавой утробы, и созерцал я, с дрожью и ещё неведомой мне, плоду, молитвой, как нагая Ангела нога мелькнула на синеве воды, озарённой отсветами пожара и обрызганной кропилом дивных полнощных звезд, сверкнула больно и ярко будущей свечою пред ликом дрожащей озёрной иконы, загорелась пылающей живой веткой, осветила осенние берега, клубящиеся охрой, златом и красными дымами лиственниц, сосен и кедров, нырнула в прозрачную толщу любви и смерти и исчезла навсегда.
ЯВЛЕНИЕ ВАСИЛИЯ МАТЕРИ МАРИНЕ
Бабе родить - нельзя погодить. Я всё помнил, и я боялся. Это Марина ничего не знала про роды, а я всё знал. В маленьком нашем сельце, затерянном в горах и кедровых распадках, все давно любовались необъятным Марининым животом. Живот-гора. Живот-увал. Живот-сугроб, да уж не замёрз ли я там? Прихлынули воды. Мать моя, торопясь, дрожа скрюченными от страха пальцами, обрядилась в грубую седую мешковину. Скатала и сунула под мышку ещё одну холстину. Занесла ногу через порог. Если бы я мог, я бы крикнул ей из чрева: куда ты, матушка?! Да не мог я.
Скованы молчаньем крови уста. Палец я мог сосать, улыбаться, когда Марина смеялась, мог, а вот речью владеет лишь рождённый. Лето холодное стояло. У нас в Сибири времена года, бывает, смещаются, срываются с насиженных мест и вдаль летят, как утки, журавли. Иной раз и летом снег выпадет, не редкость.
В такой холодный день мать моя, Марина, вздумала меня рожать.
Да ведь вдумайтесь, люди: столько уж людей появилось на свет от самого незнамого Сотворения Мира! Нам не счесть никогда. Я как-то раз принимался считать - и сбился со счета. Железные крылатые машины летели надо мной, железные повозки тарахтели по земле. А я, уж давно матерью на свет явленный, возросший, нестриженый, лохматый, с зимними нитями в кудлатых волосьях, сидел, скрестив ножонки, на снегу, и считал, всё считал мимохожих людей. Сколько вас, люди? А не объять ни взором, ни мыслью! А зачем вы всё приходите да приходите на землю? А просто больше некуда приходить! О если бы мы были небесные черви, небесные птахи! Как бы мы созвездия, по небу рассыпавшись, заполонили!
Скатанный холст под туго прижатым к рёбрам локтем. Высоко подъят тяжёлый живот. Идёт Марина меня рожать. Идёт, тяжело ступает. Ноги раздались, укрупнились, щиколотки толстые отекли, брюхо такое огромное, не свезёт, хоть на телеге кати. Да идёт пеше, идти-то надо. Зачем пошла вон из избы?! А на воле теплей, на просторе милей. Шествует по селу, соседи из окон зырят, с ворот замки сбивают, к серым заплотам выходят, на Маринку поглядеть.
- А куда это она?
- Однако, не знаю!
- К знахарю побрела!
- К чему ей, сама знахарка...
- Глянь, к гольцу направилася!..
- В горушку не взберётся, страдно ей...
- Дура она и есть дура.
- А глядишь, умницу родит!..
Под ноги ложился жёсткий стланик. Мать моя сделала два, три шага - и застыла: с небес, среди лета, повалили снега. Снег валил густо, смеясь над листвою, приказывая зверю и человеку: замри, умри, и никогда не воскресни. Так Марина шла дальше, в горы, еле таща тяжёлое брюхо, подхватив его ладонями, наподобие круглого шаманского бубна, великого земного, звенящего пирога. Ступила на голые камни. Вдали горел синим светом Голец Подлунный. Мать моя, задрав башку, поглядела на грани камней, за извивы пропастей. Вздохнула.
И навалилась боль.
Наехала бензинной железной повозкой. Опрокинула наземь. Марина вцепилась себе в живот, пошарила вокруг себя незрячими руками, расстелила холстину и легла на неё, подняв к небу колени. Закричала.
Крик выходил из Марины бессловесный, лишь голый вопль, без конца-краю, а снег валил, роженицу, подстилку и тайгу под собой, торжествующим, погребая. Листва чернела на глазах, сворачивалась от внезапного мороза в мёртвых гусениц.
- Пи-и-и-ить!.. Пи-и-и-ить!..
Кто это кричал? Моя мать или кто-то иной? Нет нежности. Нет спасения. И никто никому не поможет.
С жизнью и со смертью каждый справляется сам. В одиночку.
Марине чудилось: на богатых снегом небесах Ангелы выстроились в ряд, смеются, на неё, Марину, орущую тут, на земле, золотыми пальцами показывают. А крылья их ходят ходуном, как рыбьи жабры, когда рыбу вытащишь из воды сетью, удилищем, ржавым крюком.
Она раздвинула колени шире. Внутри нее Мiръ рвался надвое, натрое, и красные папоротники выворачивали алые корни из огненной стонущей земли. Красный мрак обнимал, выкатывался красным мячом изнутри, его было не удержать. Перламурово, нежно мерцал дымный жаркий живот, капли пота текли по животу, стекали по вискам и щекам, это были изобильные слёзы трудящегося и изнемогающего тела. А душа? Могла ли плакать душа? Или душа родам должна была только радоваться?
Марина шепнула себе: радуйся! Я это слышал. Я взыграл во чреве её, покатился колесом, и темя моё вонзилось в Адову расщелину; я испугался; я туда не хотел. Понимал: этим путем мне не пройти. Позвать на помощь не мог никого! Ни Бога, ни нежный бесконечный снег, ни матерь мою! Сжал беззубые слабые челюсти. Идти вперёд, оставалось одно. А вперёд нельзя. Но и назад нельзя. Уже никогда. Ни за что. Не повернуть.
Я оглянулся назад, прощаясь. Красные водоросли. Переплетенья алых лиан. Красные тени елей, сгорающих на небесном костре. Я покидаю небо! Мне надо на землю. Я туда не хочу! Да кончилось время беспечного, вечного плода. Пробил час конечного человека.
Мы все обречены на прощанье. Не хотим прощаться! И прощаемся - страшно, ликом пылая, в последних слезах!
А встречает нас тут объятиями снег. Снег спереди, снег сзади. Куда ни обернись - везде снег. И летом. И зимой. Выстрелы снега. Плетки, розги. Снег бьёт тебя наотмашь, а ты думал, он тебя будет миловать, ласкать. Не жди ласки. Не жди любви.
Ты сам её дари.
Я выскользнул, красный, мокрый, дрожащий, ручонки скрещены на груди, из блаженного вечного дома утробы, и я стал смертным, и безумен был мой орущий, распяленный рот: я орал так, будто падал с небес, да я и падал, я всегда падал с зенита, вечно падал, в зеркало Мiра, во пламя, в надир.
Мать меня поймала сама. Со стоном села на земле, холстина залита кровью; как на красном флаге лежала. Вышивка жизни. А смерть рядом. Мать взяла меня на руки, поднесла меня, скользкого, обмокнутого в первородный жир, к лицу, её руки выпачкались в крови, она, трясясь, прижала губы к моему животу, так застыла на миг, потом судорожно вздохнула и зверицей, оскалясь, перегрызла пуповину. Выдернула неслушными крючьями пальцев нитку из неподрубленного края холстины и туго замотала кровавого червя.
УБИЙЦЫ И СПАСИТЕЛИ
Люди хуже зверей бывают. Узнал я это слишком рано. Я ещё говорить не умел.
Марина соорудила для меня колыбель: две доски - ложе, четыре доски по бокам, глядят на четыре стороны света. Насовала в наволку душистого разнотравного сена, укрыла травное шуршанье холщовою простыней. Меня туда, шепча святое-невнятное, положила; укрыла коротким смешным одеяльцем, пошитым из вытертых беличьих шкурок. И тепло мне стало.
Так она ногою качала маятник колыбели, а сама восседала за столом, ела нашу таёжную еду: крупно нарезанного солёного омуля, жареного тайменя, варенье из яблок-дичков, тёмный, почти чёрный бурятский мед. В слюдяном окне плыли призрачно, раздваивались под растерянным зрачком близкие гольцы. Иногда дверь открывалась, будто сама собой, и в избу входили сельчане; кому что надобилось: кто отвара от живота просил, кто сломанную руку, морщась, тянул: вправь кость, перевяжи!.. - кто тетёшкал ребятёнка на руках, плача, воя: охти мне, бездвижно лежит, звёздонька моя, уж не жилица, видать, пособи, Маринка-корзинка, век тебе не забуду.
Мать помогала всем. Как могла. Могла она многое, да не всё. Иной раз люди прямо при ней, в корчах и криках, умирали. Марина сама закрывала им ладонями ледяно распахнутые в ужас глаза. Жгла две толстые свечи близ толстой тяжёлой Книги. Я видел, как ей тяжко было Книгу поднять и раскрыть нужную страницу, чтобы по ней неслышно бормотать и нежно петь.
Умерла однажды в избе баба при родах: разродиться не могла, Марина вознамерилась рассечь ей сугробное брюхо острым тесаком для чистки рыбьей чешуи, и уж разрезала смело дымную плоть, разъяла напряжённые стальные мышцы, ухватила младенца за головёнку, красную тыкву, а баба только вздохнула, как перед поцелуем, да мгновенно, хриплым выдохом, отпустила душу на волю. А тело застыло. Упокоилось. Я глядел из колыбели на мёртвую бабу, и слёзы сами быстрой росою катились у меня по вискам, стекали на сенную подушонку.
Младенец прожил на свете недолго. Ушел в Верхний Мiръ вслед за мамашей. Марина уложила его в берестяной короб, обложила пахучими еловыми ветвями. Стояла и глядела на него, и широкий кожаный бубен её лица отражал смерть во весь рост.
Пришли угрюмые молчащие люди, унесли покойницу. Далеко по улице разносились песнопения. Пели над телом родильницы. Заполночь Марина дунула на толстые свечи, они погасли. Так толсты были, как восковые дубы, я думал, вечные они. Книга так и осталась на столе раскрытой, жёлтые ломкие страницы сплошь заляпаны воском, его жёсткими, смоляными пятнами. Под воском не видать главные, Царски-алые буквицы.
Вчера к нам в избу дед приходил, отец матери моей Марины. Белобородый, брови метельные, усы вьюжные, одежонка в заплатках. Ноги босы даже в крепкий мороз. Посох железный, и железный на лбу колпак. Жалко мне было деда, когда вдруг из-под колпака по лбу у него начинали течь струи яркой крови. Я вытирал кровь тряпицей, ловил в ладонь, хмурился. А дед смеялся: радоваться надо! Радуйся, кряхтел он, намучишься здесь - на том свете Адовы муки елочными игрушками помстятся!..
Мы с дедом были похожи. Он говорил, как я, я размахивал руками, как он. И я так же, как он, хотел ходить всю жизнь в залатанной шубейке, босиком, в таком вот железном колпаке. Когда я желание мое матери вымолвил, она рассердилась и наругала меня: еще чего придумай! А потом помолчала и выдохнула, как молитву: он юрод, и ты, видать, юрод родился. Бог все управит.
Я захотел увидеть деда в железном колпаке во сне и уже смежил веки, как вдруг тревога постучалась в сердце властным ужасом: тук, тук, тук. Сердчишко перестукнуло и встало. Замёрзло.
Под окном прохрустели по сухим веткам шаги. Дверь выламывали, грохот рос и ширился, налетал ночной грозой. Грохот перевалился через порог, сапогами затопал по избе. Марина не успела раздеться, чтобы отойти ко сну. В холщовой, саморучно расшитой красной шерстью понёве стояла она посреди избы, во тьме. Четверо подступили к ней. Не различить было, мужики то или бабы. Луна подошла в небесах ближе к оконцу, и видно стало: три мужика, одна девка, и скалится, точь-в-точь череп лошадиный. Синий свет Луны мазнул по её оголённым в усмешке зубам. Два мужика схватили мою мать за локти, заломили ей руки за спину, а третий тяжело, мощно и страшно ударил её по лицу. Из её рта потекла черная кровь. Луна всё наблюдала, строго освещала. Я запоминал происходящее не памятью - кровью. Кровь обладает зрением, рыданием, памятью, способностью убивать и воскрешать. Кровь сумасшедшая. Это надо знать. Она не алая жидкость, что просто так, веселья ради, течёт внутри тебя. Ты ею передаёшь в будущее всё, без чего ты жить не можешь, и не смогут жить люди там, через века.
Они не смогут жить без тебя.
Значит, ты не умрёшь, как ни стараются убийцы.
Я не мог говорить, и я не сказал убийцам: вы не убьёте меня, - а тут Марину ногой повалили на пол избы, она застыла ничком, раскинув руки, один мужик разорвал ей понёву от горловины до поясницы, другой выхватил из-за голенища нож и медленно провёл им вдоль её хребтины - от холки до вздрагивающих лопаток. Она забила ногами. Мужик наслаждался видом льющейся крови. Остановил бег ножа. Кровь заливала спину матери моей. Она впилась зубами себе в губу. Не стонала. Закряхтел я. Закричал. Я знал, не надо кричать. Но не кричать не смог. Кричал взахлёб, надрывался, бился на сенном матраце моём, катал головушку по колючей цветочной подушке. Скалящаяся девка сердито повернулась на мой вопль. Шагнула к колыбели моей раз, другой.
- А это кто тут у нас такой оручий?!
- Её щенок!
- Обоих - с собой?! Или здесь прикончим?!
- Вон! Тащи во двор! Клади на телегу! Здесь нельзя оставаться! Люди с утра к ней придут!
Марину даже связывать не пришлось: разрез вдоль спины обездвижил её, она обливалась кровью и ловила, как таймениха, воздух нефтяными, радужными жабрами губ, воздушным пузырём обескрыленных лёгких. Меня в телегу несли, взявши за шиворот, как котёнка. Лисёнка. Медвежонка. Я хотел кликнуть отца моего Медведя, да слишком далеко лежала медная шкура тайги, пространство не поддавалось упрямому, отчаянному воплю. Сначала в телегу швырнули мать, потом меня. Кони попятились, чуя кровь и близкую смерть. Четверо злых людей взгромоздились на телегу, мужик, что резал матери спину, хлестнул коня вожжами, и телега затряслась по земле, по кочкам, по осколкам древних гранитов.
Злодеи привезли нас в заброшенный дом. Затеплили свечи и ходили по дому со свечами: туманные призраки, а лица, снизу подсвеченные, ненавистью горели. Перекидывались страшными словами. Пересмеивались. Все время хохотала девка. Один раз даже замурлыкала, запела. В песне я не разобрал ни слова. Мать лежала на полу, я рядом, у печи. Мужик, что резал мать ножом, растапливал печь. Он стар был, белая борода вилась грозовыми пророческими кольцами, пожарищными дымами. Другой, помоложе, подтаскивал дрова. Третий, ещё моложе, мальчик совсем, ковырял охотничьей кривой финкой изгрызенную Временем столешницу. Девка наклонилась над моей матерью. Космы её свесились и струями нефти полились на грудь Марины.
- Ты, дрянь, колдовка, разлепи глаза. Убила матерь мою, теперь убьём тебя!
Я впервые в жизни так близко видел месть.
Марина лежала с закрытыми глазами. Раскрылись её губы.
- Да воскреснет Бог и разыдутся враги Его...
- Заткнись!
Девка взмахнула рукой. Сверкнул нож. У них у всех были ножи; девка свой вытащила из-за спины, из-за кожаного пояса. Мужики были заняты печью, а мальчишка, играя финкой, с любопытством глядел, как девка режет ножом щёки Марины, шею, грудь, голый живот. Она делала, измываясь, неглубокие надрезы, но кровь, она текла всё равно. Всё равно.
Все равны перед кровью. И она равна перед всеми.
Я чересчур мал был для того, чтобы изрекать слова; однако дрогнули стены вокруг мучительства и стали сходиться, треснул потолок со старой лепниной, и стала валиться вниз штукатурка, её сухие, хлебные, голодные слои. Я лежал, весь осыпанный известковой мукой, обернул круглую помидорину головы от красного жаркого зева печи к злобной, кошачьей морде девки, что откровенно наслаждалась пыткой, и рот мой беззубый раскрылся, и ясно, внятно я произнёс:
- Смерть несёте, а сами завтра умрёте.
Девка так и застыла с ножом в руке. Мужики бросили топить печь. Юнец прекратил рыть столешницу охотничьим оружием. Все уставились на меня. А мать моя лежала, заливаемая кровью, с закрытыми глазами, но знал я: не умерла она, жива.
- О-ёй, - выдохнула девка, с лезвия капала густая тёмная кровь матери моей, - ух ты! Вещать уж умеет! Чудо!
И только выдохнула непотребная девка это изумленное слово: ЧУДО, - как звездою треснуло оконное стекло, расселось вмиг, вылетели из него торосы и иглы стеклянного льда, и стук раздался властный и грозный, ногой снаружи двинули в раму, высадили окно, в дыру, распахнутую в жизнь и свободу, ворвались, спрыгнули на пол с подоконника двое: один в красной косоворотке, чернявый, будто из табора сейчас, и серьга в ухе золотым когтем горит, другой в смешной короткой рясе, как с чужого плеча, и оба в сапогах наваксенных, яично блестящих, да голенища жирно заляпаны болотной грязью.
Молоденький батюшка сложил пальцы в кольцо, поднес ко рту и свистнул так, что девка дико завопила, раззявив красный рот, а у меня заложило уши. Я оглох. А мать моя открыла глаза.
Кровь бесконечно лилась из её порезов, мужики-кочегары повскакали с пола и бросились на молодого священника и красного цыгана, к ним подскочил юнец, да сам же первый и лёг бездыханный - красный ловко и крепко ударил его ребром ладони по шее, он на пол свалился мешком. Ногою дрогнул раз, другой и не шевелился более. Потом красный быстрее молнии повернулся к кочегарам и выставил острыми углами локти, и обоими локтями въехал мужикам в скуластые потные лица. Один, падая, заорал, другой рухнул молча. Девка закусила губу и занесла нож, да батюшка перехватил её руку, остановив замах. Так стоял, держа в своей руке девкину руку, как факел, и валился наземь со звоном красный нож, и девка визжала от боли, так хищно, навечно священник ей в запястье вцепился.
Мужики, лежащие на полу, застонали. Один ухитрился встать на четвереньки.
- Я... тебя... гаденыш...
Иерей сделал едва уловимое движение . Девка взвопила.
Иерей отшвырнул её от себя, она упала, тут же села, орала беспрерывно и нянчила руку, как ребёнка. Кисть её висела безвольно.
- Сломал... сломал!..
Красный цыган подошёл к стоящему на четвереньках, наступил ему сапогом на шею и пригнул ему голову к половице. Мужик мёртвой жабой распластался на полу. Цыган надавил сапогом сильнее, мужик обернул лицо вбок и затих.
- Огнестрельного у них нет, отец Амвросий.
- Какое сейчас огнестрельное, чадо. Всё на Войну в железных повозках увезли.
Так я впервые, в ту ночь первой пытки и первого чуда моего, услышал о Зимней Войне.
***
Батюшка и цыган в красной рубахе донесли нас до избы. Мать нес на руках иерей, меня - цыган. Я чувствовал щекой нежный, ласковый атлас его алой рубашки, гладкий, как кожа младенца. Как моя кожа. Я был говорящий по-взрослому младенец. Зачем так случилось? Что есть слово Божие, к чему оно вложено в уста насквозь грешному человеку? Зачем он отмечен наказанием слова, и слово казнит его каждодневно и ранит, и слово исцеляет его от неизлечимой хвори, и слово вытаскивает его из пламени смерти?
Дверь в нашей избе никогда не запиралась. Священник толкнул её ногой. Внёс мать в избу, уложил на лавку. Свечи возжёг. При неверном, дрожащем зареве свечных сиротьих пламен он промыл матери все её раны тряпицей, намоченной уксусной водой. Мать вздрагивала, но не стонала, не кричала, не плакала, нет. Она вся превратилась в терпение. И смирение. Меня положили на ещё теплую печь, я шевелил голыми ножонками и видел терпеливую мою мать, и понимал краем крылатого разума: терпение, терпеть, терпи, терпельница, смиренница, смирись, человек, и вкуси всё, что тебе из руки, как зверю, протянет судьба. Батюшка промыл матери раны, схватил с крышки сундука белый зимний платок, расшитый алыми крупными розами, быстро порвал его на лоскуты сильными молодыми руками, и лоскутьями теми аккуратно, внимательно перевязал порезы на руках, ногах и груди, а ранения на лице замазал, заклеил кедровой смолкой - отыскал её в миске на столе: мать иногда, штопая дыру в овечьем носке или самолично тачая разношенный сапожок, раздумчиво ту духовитую смолу жевала.
Долго ли пробыли у нас в избе наши спасители? Коротко ли? Во младенчестве я не ощущал Времени, не ощупывал его голой рукою, обжигаясь и плача. Настал час, когда люди чуда покинули нас. Я не запомнил их лиц. Не мог бы про них рассказать. Только и запомнил навеки одёжку, в коей явились Ангелы мои в разбитое окно: ряса цвета нефтяного озера, выше щиколоток, алая солнечная рубаха, блёсткий медвежий коготь золотой серьги над ней.
КЛЕЙМО С ИЗОБРАЖЕНИЕМ ВАСИЛИЯ НАГОХОДЦА И ДИВНОЙ АНГЕЛИЦЫ
Как же он давно их не видал, не слыхал! Думал: давно уж они повывелись. Изникли, яко обры. А вот поди ж ты, свиристелями летали, воробьями весело скакали. Трясли башками: мотались, да все никак не могли на снег свалиться шапки, бубенцы нашиты, гремят-звенят оглушительно, чем выше подпрыгнут, тем сильней зазвенят! Пляшущие икры туго обтягивали алые чулки. И портки все сплошь развышиты красными нитями. Заплаты красные - на тулупах, на зипунах! Вон у одного - красный туз на спине! Бубновый. Да у кого и сапоги красные! Мечутся по снегу, и мнится - ноги-то у них все в кровище!
Кто скалится, во смехе заходится. Кто плачет, да сие ничего не значит. Кто быком ревёт, будто хлеб жуёт. Он видит рядом плясуна. Грязен, как война. Зубов сумасшедший оскал. Лучшей доли, чем на стогнах широких престольного града до погибели плясать, не искал!
- Я Петрушка! На ярмарке Петрушка! Я сдобная, с полынью, ватрушка! Нырни в меня, как в полынью - спляшу тебе, на дне, всю жизнь твою!.. Меня, грешника великого, в земличку закопали, смогли, а я сам взял да вылез из-под земли! А нынче я тут, средь вас, бесчестно ору! Гласом оглушаю! Стыну на ветру! Сыплю скороговорки жареными семками на снег! Во всю глотку пою, Бог, слышь, я человек!..
Синий снег горел, громко визжал и вкусно хрустел под железными и кожаными пятками, под сапогами, башмаками, валенками, берцами, а кто и босиком плясал, на холоду живым маятником весело мотался, а кто и в балетных тапочках, обвязав ступни и голени розовыми сусальными лентами, грациозно-стрекозино на снежку, умалишённо переступал.
За скоморохами, меж танцующих сугробов, медленно ступал босыми ногами по снегу нагой юродивый Христа ради. Известен он был на всю Москву, и давненько. Никем не стрижен, чуть ли не от Сотворения Мiра. Космы путались на ветру, висли вдоль щёк и плеч перевитыми страшными веревками. В кольца закручивал жестокий, ножевой ветер длиннющую бороду: она струилась по груди, доходила до чресел, змеями ползла ниже, до колен свисала, и опять налетала пурга, и терзала, мотала, беспощадно крутила волосья.
Не озарял он скоморохов наградой-улыбкой. Не протягивал к ним десницу, благословляя.
- Нет у меня пристанища. Крыши нет над головой. Нету тряпок жалких, людских, прикрыть наготу. Нет и праздничного наряда, никто не пошил мне его из златой парчи, из сребряных, ледовых нитей. Без крова вперёд бреду. Голяком брожу годы напролёт. Ежели мёрзнуть начинаю, зуб на зуб не попадает в ночи - обворачиваю округ себя длинные власы мои, обхвачу себя за плечи, яко медведюшка в тайге, и греюсь так. Зачем так назначено мне? Чем заслужил я такое счастье? Юрод я, нагоходец, медвежий сын. Голым ходом по зимней, родимой земле моей все ваши, люди, страшные грехи искупаю.
- Хохот жестокий, пробили сроки, ха, ха, лови петуха!.. - заголосили потешники в кровавых колпаках, взяли блаженного человека, будто на волка охотясь, в красное кольцо.
Приплясывали на снежочке, пятки их мелькали в тумане мороза шляпками белых грибов.
- Коли зимка дышит лютой пастью, льдяным Адом, то рдяный Рай песней в ночи - на счастье, и ничего боле не надо!.. Не гибни, живи!.. В похвале-любви!.. - Скоморохи вцепились друг другу в красно-корявые на холоду руки, клешнями пальцев цепляли запястья и подолы тулупов, смеялись и повизгивали волчатами, щенятами, да так и пошли, побежали оголтелым хороводом вокруг брадатого, лохматого Царя улицы всея, сперва посолонь, после противусолонь, и длиннющая, как рваная рыболовная сеть, из-подо льда без улова извлечённая, борода моталась туда-сюда, её жадный ветер нещадно крутил. - Всех святых мучеников помнишь?!.. Помнишь, как Егорья в кипящем масле топили?.. А помнишь, как Катерину-мученицу раскалёнными железяками ковыряли?.. Вот они, они Христа Господа любили воистину больше жизни!.. А ты, полоумец, ты, колченогий столец, вот ты можешь шаг шагнуть на площадь, где висельца твоя возвышается, петля на ветру мотается?!.. во сруб, где дровишки для твоея казни горой навалены?!.. кувырнуться в чан с кипятком пузырящимся... а?!.. За Исуса - в радости! - умереть в муках неизъяснимых?!.. Ведь Он помер на Кресте за всех нас!.. За всех! Эх, эх, визг да смех! А помнишь ты, мохнач-медведь, что Господь наш на Кресте, руки раскинув, нас всех, грешных, обнять собираясь, хрипло кричал... тихохонько шептал?..
Василий, пугающе тощий, рёбра сквозь кожу просвечивали страшно, по-рыбьему, нагота солнечно сияла и пугала детей и старух, оглядывался кругом, то закрывал красные, обожжённые морозом веки, то распахивал глаза, и нежданно посреди стальной зимы его юродивые радужки катились по снегу-метели двумя лазуритовыми кабошонами; боярышни отворачивались, стыдливо рукавом прикрываясь, да подсматривали из-под висячего атласного рукава, дико и хитро, любопытствуя, косились: иные из них голые мужичьи телеса видали впервые, иным сие было не в диковинку, уже на зимних гулянках да в шаловливых бешеных колядках, валяясь в обнимку с парнями в пушистом снежочке, девичью надежду растеряли жалкими полушками, медными алтынами, прожигающими сугроб до земли. Мороз исстегал алой краской нагую плоть Блаженного. Он плыл в белой зимней воде красною рыбой. Сам, как те боярышни, голой рукой, острым локтем закрывал лицо. От кого? От чужого взора? От коварного сглаза?
- Вон!.. Вон пошли, вон!..
Он схватил бороду в горсть и махал ею на скоморохов, как на безумных мартовских котов.
Птицы слетались к нагоходцу. Голуби спускались с небес сизыми Ангелами. Воробьи рассыпались под голыми голодными ногами хлебными крошками.
- Что стоишь, молчишь?!.. Не вопишь, не хрипишь?!.. А ты должен пощады просить! У нас молить жрать да пить! Славишь ты голодуху да ненастье, а мы славим пляс да счастье! Не ставь себя вровень с Господом, больно расшибёшься!.. В придорожном трактире горькой-беленькой напьёшься!.. А Москва не твоя, а наша, варим снеговую кашу, и тебя вдосталь накормим, тощой, ледяной ухой да восковой свечой!.. Нет у тебя, Васька, ни когтя, ни ножа, так и умрёшь в подворотне, под телегой дрожа!..
Нагоходец шарахнулся от крика, закрыл уши ладонями. Упал, будто под порывом ветра. Лежал на снегу. Ветер взвивал его длинную бороду. Трепал и вил космы. Закрывал ему волосьями скорбное лицо. А когда ветер отдувал лохмы с лица, всем было видно: он улыбается.
И улыбка эта горела ярче огня.
- Прочь! - крикнул он что есть силы. - Не нужны вы мне!
Скоморохи попятились. Один засвистел перепелом. Другой замяукал диким котом.
- Ну и гори сам в своём огне...
Унеслись. Завертелись красной каруселью. Только пурга клубилась им вослед. Василий тяжело поднялся, стоял в снегу на коленях. Узрел: по площади шёл Чужой. Он никогда не видал его на Москве. Чужой щурился, беспредельно сужались его глаза, от них оставались лишь хитрые жестокие щёлки, и сквозь кожные складки век не проникал свет расстрельных зрачков. Чужой шел медленно, хитроумно и осторожно. Зверем шел.
Человек есть зверь. Я всегда это знаю. Я всегда это знал. Я буду знать это и тогда, когда меня убьют. А разве меня убьют? Где это, когда убьют меня? Такого голого перед Господом, такого верного чистому небу?
Лик Чужого был прикрыт шапкой-лопухом. На лоб сползал меховой потертый язык, шерстяная лопасть прикрывала шею и загривок. Он схватил в кулаки зверьи уши и глубже, туже натянул треух на лоб. Тень волчьего меха легла на щёки, колючий подбородок. От всей фигуры Чужого исходил жар погибели, запах смерти. Да чужой смерти. Неродной. Не той, привычной, когда лежишь ты во намоленном гробе, а над тобой читают кафизмы в выстывшей избе. А другой. Слов для неё нет в людском языке.
Блаженный поднялся из сугроба легко, не по-старчески. Бесшумно и вольно. Всё он творил не думая, по наитию, ясно сияли в зиме васильками синие, слёзные глаза. Могуч синий свет! Таково небо; таков снег в солнечный слепящий день; таковы васильки в роскошной, Царской ржи. Где дразнящие его скоморохи, подлунные нахалы? Где площадной насмешливый люд? Всех как корова языком слизала. Никого. С Чужим его Бог оставил наедине. Тело пылало, и снег, едва коснувшись горящей изнутри голой кожи, таял на ней, слезами сползал. Василий наступил босою ногой на рваный квадрат холстины, валявшийся на притоптанном снежке. Сам, как собака, холщовый ковер ему под ступни сунулся. Василий наклонился и подхватил мешковину. Чужой остановился. Далее боле не шёл. Замер. Шёл теперь один Василий. Большие пальцы голых ног его раздулись, посинели. Спина содрогалась поверхностью реки в ветреный день, шла морозной рябью. День догорал. Чужой ждал.
И он сам, идя, ждал.
Как начинается борьба? Чем кончается? В борьбе всегда есть правый и виновный. Однако виноватый свято помышляет, что он-то как раз и прав. Василий стал слишком близко от Чужого, протянул руку, вцепился в его треух и одним резким рывком стащил треух с его башки.
И тут день в одночасье погас; будто разом дунули в церкви на все торжественно горящие, истово дрожащие свечи паникадила. Грудью наваливалась подземная тьма. Издали тёк гул, отодвигался, рос опять. Рожа Чужого корчилась, горела на морозе головнёй. Он разевал рот, клыки торчали, красные вывернутые губы усмехались и молча проклинали. Глазные яблоки вываливались из глубины глазниц, катились по воздуху на Василия, повисали в леденистом тумане, как серебряные орехи на чёрной, мрачной ели, выбранной сельчанами в тайге Звёздной Царицей в тот день, когда Солнце в небесах начинает рождаться заново, воскресать, петь людям лучами песню новой жизни. Чужой ухватил Блаженного за одно запястье, за другое. Толкнул. Василий устоял. Тощее тело, все звенящие смертные кости его налились забытой силой. Чужой был не просто чужой. Он был - Чужая Жизнь. И Чужая Смерть.
Василий прянул вперед, наткнулся голой грудью на грудь Чужого, извернул руки, выставил оба локтя и с силой воткнул их в тело Чужого, дышащее, хрипящее под мощным тулупом.
Чужой пошатнулся. Рука сама протянулась, схватила Чужого за глотку. Пальцы сами стали давить, душить. Василий не хотел. Тело иногда за нас всё делает само. Нашим приказам не подчиняется. Наших криков не слышит.
А может, не надо его убивать? Может, Чужой мыслит не как мы? Живет и дышит не как мы? И мы должны не уничтожить его, а понять и простить?
Чужой страшно хрипел. Из его рта шла бледно-красная густая пена. Он бил ногами по снегу и силился вымолвить слово. Василий отшвырнул хрипящего от себя. Поверженный медленно, целую вечность, падал в снег, и, когда упал, Блаженный шагнул к нему и наклонился над ним. Сознание ещё не покинуло беднягу.
- Прости меня.
Блаженный встал на колени.
Вокруг царила ночь. По всей площади горели костры. Во мраке - множество костров. Апельсиновые, золотые, Райские сполохи весело, безумно взмывали к непроглядно-смоляному небу. Меж костров ходили люди. Говорили между собой. До Василия и Чужого не долетали их голоса. Блаженному больно было стоять на коленях, снег прожигал коленные чашечки, белым мехом укрывал голени. Пятки торчали, кровили. Давеча ходил он по острым камням, а может, по разбитым печным изразцам.
- Я прощаю тебя. Прости и ты меня.
А разве возможно убитого - простить? Разве можно убийце испросить прощенья за то, что - убил? Как переплетаются, обнимаются прощенья? В них начинает течь одна кровь? И покаяний не различить? Тогда зачем преступление и наказание? Может, никакого преступления и нет на свете, а есть одно лишь прощение, только оно?
Чужой медленно закрывал угасающие глаза. Белки закатывались. Сплошь обвиты красными сосудами, алыми хвощами. Он становился недвижным телом, бескрылым, прощённым. Крылья отрастали у излетающей вон из тела души, и Блаженный её видел. Душа облетела стоящего на коленях, улетала паром изо рта на морозе, белыми дымными завитками из лошадиных раздутых ноздрей туда, выше, навсегда. Не вернёшь.
Василий поймал зрачками последний взгляд Чужого. Медленно перекрестил его. Исподний мех тулупа топорщился грозно, волчино. Треух лежал рядом, на снегу. Тропа, означенная на белизне каплями крови, гляделась дорогой алых цветов.
- Жарки...
Дохнуло любимой Сибирью среди Града Первопрестольного.
Где я? Сам не знаю. Что за люди бродят по Красной площади вдоль-поперёк, кругами? Возвращаются на круги своя? А костры достигают до смоли полночи; зачем народ их возжёг, не в честь ли нового Царя нашего? А может, Время настало иное, и надо Царство вдругорядь защищать, Царя грудью от врага заслонять? Сможем ли? Благословлены ли?
Спина ныла, как исполосованная бичами. Весь день ходьбы по закоулкам, шумливым улицам, устрашающе молчащим стогнам. Отхлынули с площадей люди. Огни гасли. Музыка, оголтелое пенье, суды-пересуды стихли, растаяли в ночном потусторонне-синем воздухе. Лбы и сердца прокололи швейные ли, пытальные ли иглы недосягаемых звёзд. Василий поднялся с колен, кинул взор на мертвеца. Наклонился, гибче краснотала, и строго сложил ему холодные руки на ещё теплой груди. На исцарапанной собаками коже тулупа обе руки гляделись убитыми в тайге зайцами-беляками.
Зачем я убил его? Какое зло я, убивая его, убил на Земле? А может, виновен я, и великий Бог накажет меня, не сегодня, так завтра?
Блаженный тихо пошёл по площади, мимо костров. Пламя то бесилось безудержно, то падало вниз в огненном поклоне, лизало площадные булыжники. Отменно вымостили Царскую площадь, дивно. Днем телеги гремели колёсами по гладким камням, а нынче, ночью, лишь горели в молчанье костры, издавая треск дров и хвороста, опаляя на звёздном морозе людям безумные лица, кричащие руки. Люди говорили телами, вопили глазами, благословляли друг друга дрожащими тихими ртами. Голоса возникали и уходили. Ночь молча рушилась с небес на землю, устилая мощёный выпуклый живот площади, беременный кровопролитием, коврами метели, кристаллами планетной соли.
Осоли меня собою, земля, и я повторю тебя; нет у меня пути другого.
В грозной ночной толпе передвигались, как во сне, бродяги и калеки. Нищие пытались просить милостыньку, сидя во снегу. Юродивый сел рядом с таковским; так же, как он, протянул руку, прося, умоляя, так же, как он, сложил персты, чтобы жалобно покрестить себе лоб. Всё сделал, как делал нищий, в лохмотья обряженный, точь-в-точь повторил. А не повторяй ничего ни за кем! Ни за кем не гонись! Не глядись во другого, как в разбитое зеркало! Покоя тебе не будет. Изведёшься, себя охаешь, избичуешь. Вины не избудешь. Всю жизнь будешь ходить и обезьянство своё помнить.
Не убий... не укради... Да, не укради. А я-то... я-то всю жизнюшку крал! Да! Крал! У ветра! У Солнца! У сребряного плеса ручья! У брусники, разбрызганной по тайге зверьей ли, человечьей кровью! У Царя на Москве, чей кафтан заморским златом вышит, чей бурнус мехом искристого соболюшки подбит! У последнего нищего, да, у этого вот, что предо мной во сугробе сидит, крестится жалко, молит упорно, плачет хрипло! Всё я собирал в лукошко памяти и боли своей, а лукошко-то дырявое! Все повытряс, пока сюда - к себе истинному - шёл! И что?! Опять красть?! Опять собирать?! Да я уж давненько, целую судьбу, целый век нескончаемый, не краду, а даю - даю - даю - всё даю и даю - всё дарю и дарю - и что?! Где желанная награда моя? Ах, жадненький, об чем, грешник великий, помышляешь, тебе что, награды нужно?! Пирога звёздного, сладимого, в сахарных осколках предвечного льда?.. Сорванного с зенита громадного мафория алого, сапфирного, златого Сиянья?..
Люди ходили по мрачной площади, перешагивая через петли позёмки, и не видели его. Мимо шли. Не все. Иной мимохожий застывал, его завидя, торопливо крестился и кланялся низко; а иной морщил обмороженное лицо под волчьей шапчонкой, отворачивался и во снег смачно плевал. Не все его любили. Иные и ненавидели.
Я давно это знаю. Привык к тому. Что же ныне тревожусь? Что жжёт меня, какой укус зимнего шершня?
- Ах, и стыдоба яво не берёть! Мужик-то голяком, глянь, плывёть! Сгинь, сгинь, пропади, нечистая сила!..
Подбегал неистовый. Такие звери водятся в толпе. Заносил чугунный кулак. Блаженный не отворачивался. Его ударяли. Он оседал в снег, опять на колени. Стоял на коленях и снизу вверх глядел на того, кто его бил. Неистовый пятился. В ужасе закрыв лицо ладонями, убегал. Василий поднимался. По мохнатому его лицу вилась нить крови, стекала по бороде, по голой коже, обтягивающей рёбра. Он не утирался. Кровь вымерзала сама, превращалась в хрупкую ледяную красную сладость; такие леденцы продавал сбитенщик, завлекательно выдергивая их из торгового короба, уставленного кружками горячего сбитня: алых петушков, красных рыбок, ледяную ягоду-малину.
Мне больно видеть горе чужое. Чего мрачные люди ждут? Об чём печалуются? Вон кот на снегу валяется. Его пытальщики-мальчишки жгли огнём, дивяся, как он мучится, корчится. Вон заморская птица попугай лежит, поджавши под жёлтое брюхо лапки, зелёные малахиты-крылышки бессильно распластал. Подойду к ним! Обгорелого кота поглажу! Воспрянет! Заледенелого попугайку дыханьем погрею! Восстанет! Всё мёртвое восстанет, если его полюбить! Воскреснут замученные и праздновать будут, а я буду рыдать горько, полынно, еловыми лапами лик мокрый утирать! Слёзы мои будут на зверьё и птичьё литься, их омывать, то будет их второе рожденье и инакое крещенье. Тварь бессловесная! Разве ж её можно крестить! На то сподобился лишь человек! Нет... всякая живность - Божия... Бог тоже плачет над мёртвым воробушком...
На полнощной площади не расхаживали бояре. Сидели они в теремах, напуганно выглядывали, занавеси дрожащей рукой отвернув, наружу; зрели Красную площадь, и Лобное место, и многие костры, горящие тяжело, упорно, преисподними пламенами.
Князья и бояре, не люблю я вас. Я вам ваше боярство - прощаю. Молюсь за вашу знатность. Да не вы в ней виновны. Род ваш - Крест ваш. Каждый свой Крест молча тянет. Каждый пьёт свою чашу до дна.
Он остановился около особенно могутного костра. Огонь размётывался из средоточия в разные стороны, торчал оранжевыми осьминожьими, Адскими щупальцами. И жарко же было тут! Василий глубоко вздохнул. Вдохнул пламя. Огонь беззастенчиво полез ему в лицо, целовал щеки, забирался в ноздри, проникал вглубь помрачённого ночью и огнями блаженного черепа. Он стоял и ничего не думал, ничегошеньки. Башку задрал. Чуть шею не сломал. Там, высоко, в воинственных разъятых ветром небесах, всходила, разрывая светом угрюмые снеговые тучи, вырываясь сиянием из небесной клети, огромная Красная Луна.
Такую Красную Луну он зрел впервые.
Огонь обнимал его и выл, свистел вокруг него, а он глядел на красный, военный свет высоко взошедшей Луны, а она лила угрюмую кровь на людей, бестолково бродящих кругами по стогнам, на гигантские железные туши неведомых машин, из них торчали гусьи шеи пушек, и гусеницы, внутри коих прятались колеса, лязгали коварными, изобретёнными и приваренными на неведомых заводах сочлененьями.
Танки, эти чудовища зовутся танки. Танки, они же для войны.
Василий повернул голову. Танк стоял рядом с костром. Огонь тоже обнимал его; огонь был отцом родным и Блаженному, и железному танку.
Справа и слева стояли танки. Спереди и сзади урчали танки, и, чем ближе они подползали, тем невыносимее становился гул и лязг. Когда гудение превращалось в вой волчьей стаи, а лязганье - в звук разбиваемой гигантским молотом Вселенной, наступала тишь. Это танк вставал посреди площади, как подстреленный, и притворялся мёртвым.
Мёртвым железом. Мёртвым боем. Мёртвой войной.
- Война, - выдохнул Василий, - это ты?
Прямо над Красной площадью висел шар, изрытый тенями. Красный, с одного боку оранжево-огненный, с другого исчёрканный кляксами бурсацких чернил.
Луна, над коей войной ты мерцала? Над коей замерцаешь теперь? Надо мной катишься, светишься угрюмо! Красная... Волчья... Нет у меня для тебя заклинанья. А у тебя для меня заклятье - есть?
Задрал бороду, поднял к Луне страдальческий, в коре морщин, обмороженный лик. Лунный свой лик на земле. И в небесах плыло в дёгте ночи, вспыхивало сумасшествием зеркало, его отражало.
Он видел, в небесном красном зеркале шевелились его губы.
Он шептал сам себе и всей земле: война началась.
Костры пылали умалишённо. И сам он, в который раз от сотворенья самого себя, ума лишился. Наилучшее состояние, наисчастливейшее; входя в него, не надо никому ничего говорить, не надо биться рыбой об лёд, петь песню, её же никто не слышит. Ты, без ума, есть счастливый зимний Дух; ты бродишь по льду, летишь вдоль иглистых звёзд, и тебя никто не простил, ты же простил всех.
Он опустился в снег на корточки, потом уселся в снегу, будто Царь на троне, захватил в горсть бороду и обтер ею щёки, лоб, рот и подбородок. Борода заместо рушника. Так ему и надо. Он припомнил нашествие татар. Северной небесной мантией встали тогда пред ним двери Успенского собора. Он видел в небе громадных железных птиц; он видел, а люди не видели. Небо подало ему милостыню безумного зренья, он провидел Время, а люди ничего не хотели о Времени ведать, они его боялись, презирали, шарахались от него, плевали в него, пожимали плечами, посмеивались недобро: ишь, Время! Подумаешь, владыка надо всеми! Ну и что, мы все уйдём! Попрощаться друг с дружкой не успеем! Никто не знает, что оно такое! Вот, в нём войны и Мiры, а нас кровавым маслом мажут на Богову булку!
Василий тогда втёк в собор вместе со всею толпою, опустился вместе со всеми на колени, иерей басом затянул Великую ектенью, и стал молиться и плакать народ, и он молился и плакал со всем народом. Так стояли, коленопреклонённые, и вдруг раздался стук и шорох и стал расти, и разросся неистово, и обратился во Вселенский шум и гул, и Василию чудилось, внутри громадной расписной клети храма летает необъятная, величавая, крылья на пол-Мiра раскинувши, скорбная Дева-Птица. Из уст в уста бросали коричневые старухи слух: зрели ту Деву-Птицу сидящей на кресте церкви Всех Святых на Кулишках, а потом на зальделом Черкизовском пруду. Волочила она крыло за собой. Прихрамывала. То ль ногами девичьими на снег ступала, то ли птичьими когтистыми лапами, не разобрать. Какой опричник ей крыло прострелил? С высоты страшной вниз летела, оземь грянулась, как не разбилась, а вот ножонку, видать, подломила.
Площадь горела огнями под смоляной крышкой неба. Василий обернулся. Среди сугробов явился Богородицын лик, он алел огненно, призрачно, румяно. Длинные глаза призакрылись, по щекам ползли слёзы с запахом мvра; и не богомаз нанятый такие ланиты малевал. Не руками тот образ писан. Василий замер. Площадь замерла. Костер полыхал рядом, опалял дыханьем дракона Васильевы космы. Из-за огня шагнул к Блаженному человек. Шум от крыльев. Огонь во снежном храме. Пронзительный, ясный голос Ангелицы, раненой, к земле на смерть с неба летящей.
Василий широко перекрестился. Из-за сугроба человек другой шагнул. Так оба подошли к юроду, из-под меха шапок не различить ни лиц, ни глаз, ни зубов в оскале улыбки либо ненависти.
- А что, люди, война?
Костер завыл сильнее, оглушительнее.
- Да! Зимняя Война! Молись, безумец, горячей! Авось нас всех отмолишь! - крикнул первый мужик и шагнул ближе.
- Бога громче зови, дурак! Авось Он зла не попустит! - выкрикнул другой.
Они подошли к юроду с двух сторон, он не успел и ахнуть, как один цапнул его руки и дёрнул их вперед, вытянув плетями, а другой, глазом не моргнув, накинул ему на запястья блестящие серебряные кольца и громко, звонко защёлкнул замки.
Огонь выл злее, горячей, густо-нефтяное небо надвигалось, придавливало к белой алмазной земле людей, кучно толпящихся на площади, медленно, горько идущих по её сковородному кругу. Василий поднял над головой обе руки, закованные в наручники, и сам себе он казался птицей с переломанными крыльями, братом той Ангелицы, что металась по церкви, летала под куполом, стараясь пробиться жалким свободным, жарким телом сквозь серебром нарисованные на погребальном ультрамарине яркие щедрые звёзды.
- Зачем вы меня...
- Много видишь! Много знаешь! Лишку!
Ночь стала обширною храмовой фреской. Людям в лицо бросила густое холодное варево метели, иглы льда-снега вонзились в скулы, в уши, во лбы, забили белой ветошью рты. Рты, разеваясь шире часового циферблата на кровавой башне, вопили, но метель бинтовала их, затыкала морозом, и воплей не слышал никто. Из-под купола, где важно, кругами ходили Марс, Венера, Мицар и Антарес, сорвалась крылатая Дева, про неё же гудели сплетнями старухи; из разводов солнечной охры, из сгустков крови слепящей киновари, из самородного злата темперы, полдневной синевы зенита, мазков междупланетной серебрянки, из густоты туч, беременных Адской грозой, летела прямо на людей Птица величиною с целый Мiръ, и все, кто зрел её в небесах, утверждали, что да, власы, лик и широкие, перламутрово-синие дурманные очи были у ней вправду бабьи, баба она и есть баба, хоть в небесах, хоть на земле, хоть в ногах у Царя лежащая, хоть летящая, и видишь, видишь, кричали люди, летит, летит!.. и руки сложила в молитве, и молится, глянь, рот шевелится, а очеса пылают!..
Ах, что брешешь, может, она сквернословит, Бога хулит...
Упала. В снегу лежала. Крылья на снегу распластала. Голову подняла. Глазами поводила. Василия увидала. Глаза закрыла. Будто огнём обожглась. Распахнула опять. Оба мужика стояли праворучь и леворучь юрода. Косились ненавидяще.
- Убежит?
- Куда ему!
- На что он уставился?
- А пёс его знает!
Он смотрел на Ангелицу. Она медленно встала со снега. Вся в белом снегу, усыпана льдинками-снежинками, исчерчена белой кистью вдоль и поперек, снегом навек окрещена. Тихо шла к нему. Подошла. Он опустил скованные руки, ощупал красными обмороженным пальцами лицо Девы-Птицы, как слепой. Медленно стал перед ней на колени.
- Перед кем это он?..
- Бредит! На то он и юрод!
- Долго то будем терпеть?
- Отведём, куда надо!
Люди молчали, у костров стоя. Танки молчали. Гул налетал, исчезал. Грохот надвигался и умирал. Суждённая война приблизилась, дышала рядом, она уже была так близко, что в неё не верилось, ведь не видать вблизи, что можно только издалека углядеть. Крылатая Дева стояла молча, перья осыпались на снег, сквозь пух-перо просвечивало голое нежное тело, она была совсем молода, ей так не хотелось падать с неба и умирать, но упала она, и кто мог поручиться, что она стоит перед Василием не мёртвая, а живая?
Я могу поручиться. Могу. Я тебя ждал живой, и вот ты прилетела живая. Шёпот пчелиным гудением наполняет воздух, это шепчутся люди о нас. Шёпот - свет мечты, молитва, реющая между мыслью и рыдающим голосом. Светится шёпот. Светом наполняется церковь ночной площади. Лобное место, для нас нет его, нет. Храм неба для нас. Нас не казнят. Мы лучше с неба падём, разобьемся, во имя друг друга.
Он себя ощущал связкой Пасхальных свечей, их монахи привозили из-за моря и гор, со Святой Земли: длинные, тонкие, белые, будто из снега слепленные, а зажжёшь, и аромат от них исходит тайный, катакомбный, такой дух, должно быть, в сокрытых от Мiра подземных часовнях. Он пучок святых свечей, и сейчас его подожгут, для этого руки ему заковали в серебряные наручники. Арест человека! Да разве можно полонить живущего! Бессмертна, свободна, вся в радости, в празднике предвечном душа его! Не закуёшь! Не избичуешь!
Он глядел на Птицу. Птица глядела на него.
- Ты помнишь? - спросила Ангелица неслышно.
Я всё помню.
Он одними глазами, широко открытыми, на безмолвной военной площади, на красном морозе сказал ей это.
И услыхала она.
УБИТЬ, ЧТОБЫ ЖИТЬ
Марина взяла в руки винтовку, подержала её в руках, потрясла, будто взвешивала. Потом побаюкала немного, так баюкают ребёнка.
Охота пуще неволи. А пуще охоты что? Воля?
Она охотилась давно, девчонкой, вместе с отцом. Отец её, Иван, слыл на селе медвежатником, так его и звали - злобно, настороженно, уважительно. Убить зверя непросто. Надо сперва у тайги прощенья попросить. Отец Иван, всюду ходивший в странном железном колпаке, так и прозывали его на селе: Иван Железный Колпак, научил её той первозданной мольбе, к природе обращаемой, ко всему живому: лесушко бажоный, речушка бажоная, дай вдохнуть тебя, дай напиться; зверюшко бажоный, дай убить тебя, а потом шкуру твою на тепло детям моим пустить, а мясо твоё дай старикам на пищу изжарить. Птиченька бажоная, дай подстрелить тебе в полёте, ибо нужны мне твои пёрышки для мягкой подушки, а белая грудка твоя для варева недельного, на морозе и дольше в чугуне хранится. Рыбонька бажоная, дай спымати тебя, крюк мой губищу твою крепко зацепит, дай вытащить тебя, ясная, живая, на берег да пронзить острогой; чешую твою златую дай ножом счистить, тело твоё солнечное дай в котле на весь крещёный Мiръ сварить. Ягодка бажоная, дай тебя собрать во туес берестяной! Дай тебя вкусить, в себе поносить! Блаженна ты, ягода, ибо ты есть красная кровушка Господня!
Марина наизусть шептала, повторяя, отцову молитву тайге. Вышептав её всю, до конца, она посмотрела на сына. Василий стоял около стола. Головёнка ниже столешницы, ножки в катанки смешные обуты, сама Марина из бараньей шёрстки скатала.
Марина не говорила сыну, что у них закончились запасы мяса, и долгая ещё зима, и до весны палкой не добросить.
Отец медвежатником слыл, и она медвежатницей сегодня заделается.
Во имя сына.
Чтобы выжить. Чтобы - жить.
- На добычу пойдём, сыночек.
- Что такое добыча, мама?
- Это наша с тобой жизнь.
Василий уже научился ходить. Малютка, он бегал по всей избе в короткой рубашонке, Марина криво, на руках подрубала их красной ниткой, купленной у коробейника за грош. Василий любил сидеть у ног матери, когда она ему мастерила игрушку - из сладко блестящих надкрылий толстого изумрудного жука, из чудовищной кедровой шишки, величиной с добрую тыкву. Мать катала его по сельцу в санях, сама же их сколотила из лиственничных дощечек, сама же и раскрасила соком конского щавеля, ежевики и брусники, меловой мукой, красной и голубой глиной с берегов бурливой ближней речки. Василий заходился в смехе и от смеха вываливался из радужных санок, мать подскакивала и вылавливала его из искристого жгучего сугроба, как осетра из-подо льда! И он хохотал у неё на руках! А она расцеловывала его в румяные щёки, и в подбородок, и в захолодавший на морозе лоб, и смеялась сама: "Ах ты, ванька-встанька мой!.. Держись крепче!.. А я тебя не покину!.. Так домчимся до Рая!.. До Рая!.."
Василий вечерами, когда мать укладывала его спать, обнимал ее ручонками за потную сильную шею и тихо спрашивал: "Мама, а что такое Рай?" Марина медленно, ласково расцепляла руки сына, нежно толкала его ладонями в грудку под холстом рубашки, он падал спиною на мягкость ночного ложа - мать сварганила ему Царскую постель из деревянного корыта; дно корыта завалила душистым шуршащим сеном, выстелила беличьими и заячьими шкурами, сверху укрыла домотканой рогожкой, наволочку набила нежнейшей, кружевной шерстью ягнят, и так получилась чудесная ладья для еженощного путешествия по снам и виденьям. "Рай, это, сыночек, такая небесная земля". Василий вздыхал прерывисто. "А разве бывает земля на небе?" Мать улыбалась тонко, цветочно. "Бывает. Или не бывает. Раю это всё равно. Если даже и не бывает, Рай всё равно есть". Василий соглашался с этой ночною песней.
Он просил ее: "Расскажи про Рай. Ты бывала там?" Марина опускала голову, и подбородок её касался яремной ямки. "Конечно. Всяк человек там бывает. Только не помнит, что он там был. А я помню. Рай красивый. Там всюду яблоки, ягоды, яхонты. Ярость зверя там превращается в тихую ласку, в умильное урчанье. Перловицы раскрываются сами, приглашая взять у них из их тайны, прямо из брюха великие жемчуга. Снег там идёт тёплый! Даже жаркий! Я там шла босиком по ковру, а ковёр тот был сложён из живых барсов и диких котов, они разлеглись на земле, обнажили пушистые животы, и я, босая, осторожно, легко так по тем диким кошкам ступала, и они блестели, сверкали туманными от ласки и медовыми от любви глазами, и обнажали в улыбках острые зубы, покусывали меня за лодыжки, тёрлись мне об икры лбами и мохнатыми щеками... Красота сама шла мне в руки! Рай, сынок, это такое Солнце с небес, бьёт в грудь, в лоб, и жарко... и томно, и вольно... поднимешь глаза, а Солнце-то белым гвоздём в ночное, угольное небо вбито! Испускает светы острые, танцует и крестит тебя широкими лучами! А всюду мандарины, лимоны златые, яблочки прячутся в тёмно-зелёной листве, маслено листья блестят, плоды ветки гнут... любой срывай... ведь это Рай... А навстречу мне самой из Райских кущей выхожу - я сама... я... матерь твоя..."
Василий слушал бормотание Марины над изголовьем и тихо, незаметно засыпал. Земной сон, это было то, о чём говорить не надо было, а только ждать, звать и предчувствовать.
Во сне мальчишке являлись звери и птицы, они спускались к нему прямо из Рая на невидимых, быстро трепещущих крыльях. Однажды прилетела птица с головою юной девушки. Дева-Птица раскрыла рот и запела Василию колыбельную. Она пела лучше, чем мать, и мальчонка протянул к ней спящие руки и выдохнул: люблю тебя, родненькая, ты моя молния, ещё ударь!.. ещё спой!.. Дева-Птица держала в когтях два сияющих яблока. От них исходил медвяный и мятный дух. Одно яблоко вывалилось из дрожащих когтей, укатилось под лавку. Утром Василий, проснувшись, яблоко нашёл и съел. Сладкий сок тёк по губам, по шее, по ключицам.
Однажды мать, гуляя с Василием по сельскому звонкому рынку, остановилась, замерла около охотника, что на вытянутых руках держал шкурки соболей, горностаев и куниц и тряс ими, зазывая, завлекая. Марина во все широкие коровьи глаза глядела на прокуренное, тёмно-медовое, деревянно-твёрдое лицо охотника, на искристые шкурки с белым и охристым исподом мездры, примечала: руки трясутся, и шкурки ходят ходуном, сейчас сорвутся, упадут в синий снег, звери оживут и бросятся врассыпную. Она зажмурилась и крикнула охотнику: "Продай! На шубу сыночку!" Торговец назвал страшную цену. Марина прижала ладонь ко рту. Отшатнулась. Оттащила Василия, лучезарно и жадно глядящего на раскосого зверолова. Придя домой, тихо и жёстко сказала сыну: "Двинемся с тобой на охоту, сами, в тайгу. Санки возьмем, винтовку, нож захватим!"
И Марина вскинула винтовку на плечо, обула катанки с обшитыми кожею пятками, засунула кривой охотничий нож за голенище, Василий обмотал руку ремешком, приделанным к расписным крошечным розвальням, и они побрели по узкой тропе, проложенной редкими людьми в диком снегу, сначала к реке, потом медленно, в сугробах увязая, шли вдоль реки, потом углубились в чащобу, где кедры в синей зимней вышине целовались с кедрами, где сосны плакали на груди у красноствольных сосен.
Как, когда выскочили мохнатые коричневые комья из-за сугробного стога, из белой ямины буерака? Три медвежонка раскатились по снежной таёжной скатерти. Застыла Марина, винтовку опустила. Мальчик поднял руку, заслоняясь, как от Солнца, от огромности зверя: на горе, на грех из берлоги выпросталась на волюшку алмазную необъятная медведица, хранящая внутри себя, в гулкой груди, под лохмами рёбер и обвислого брюха, память о родах, о том, как детки её появлялись на колкий лютый свет. Медведица увидала женщину и мальчика. Откуда силы взяла, чтобы, шатаясь, подняться на задние лапы - и пойти, пойти, высоко подъяв передние, грудью, болотным черёвом, всеми когтями, жарко разинутой бешеной пастью, всей грозой-жизнью лесной на жалких, бесстыдных людишек?
Марина поняла: надо стрелять. Выстрелила. Мимо! Пуля ушла мимо, как и вовсе не бывала. Василий не шевелился. Он обратился в пень. Важно было выждать, прикинуться лапником тяжким, веткой обледенелой. Стать всею природой, зимне обнимающей его и мать. Вот зверь; и он вышел навстречу им; и сейчас он на них нападёт и их пожрёт. А если они - зверя - убьют?
"Не убивай, мама!" - хотел он взвопить, но ужасом воли загнал, затолкал крик внутрь, в пряжу кишок. И он знал: мать сейчас зверицу убьёт. У неё просто нет другого выхода.
***
Я впервые видел смерть так близко. Марина выстрелила ещё раз, и опять мимо! Она до крови закусила губу, я видел, как кровь медленно и темно ползёт у нее по ледяному подбородку. Не убежать. Слишком вязкий снег.
- Беги!
Мать крикнула громко, так громко, что я на миг оглох. Она меня спасала. Я враз стал взрослым и всевидящим. Смерть даёт тебе второе зрение; она дарит тебе горькую древность земли и владение Временем. Я тогда это не до конца понял, зато сильно и страшно почуял. Но я не стал убегать. Ноги мои стали железными поленьями. Лицо стало перевёрнутым рыбачьим котлом. В него можно было бить молотком, как в бубен или набат. Медведица, вопя, неотвратимой тучей надвигалась на мать. Марина выхватила нож из-за голенища. Выставила его перед собою лезвием вверх.
- Надо было, дуре, к древку привязать... копьецо сладить...
Дальше я не разобрал, что она бормотала.
Два, три шага, и вот медведиха рядом с матерью, и незаметный, быстрый взмах лапой, и вот уже мать кричит, обливаясь кровью - медведица распорола ей когтями щеку, шею и плечо, легко и хищно стащив с головы шаль, разорвав овечий тулуп и ткань платья под ним. Мать моя, с голой красной, разодранной грудью, заорала медведицы страшней и сама, в крови, двинулась на неё. Зверица выкатила красные глаза и застыла. И тогда мать обеими руками вцепилась в рукоять ножа и, хакнув, резко и глубоко всадила кривое лезвие в шерсть, в плоть, в космы, под рёбра, во тьму.
звёздную тьму зверьей жизни, неведомой человеку.
Мать знала, куда целить: она попала медведице в сердце.
Нам не понять сердце человека, а зачем нам помышлять о сердце зверя? Красный, толкающий кровь комок! Он бьётся и бьётся! Я зрел, как зверь умирал. Медведица ещё чуть постояла на залитом кровью, утоптанном её лапами и материными катанками снегу, потом пошатнулась и стала, как во сне, оседать в снег, её задние лапы подломились, она рухнула на четвереньки, упала на бок, дрыгала всеми четырьмя лапами, а я бы поклялся - ногами и руками, так жутко, предсмертно она была похожа сейчас на человека.
Я не уследил миг её смерти.
- Счастье, что в сердце... счастье, что сразу...
Мать, заливаясь кровью, села в снег около рухнувшей чёрной, шерстяной горы. Гладила её по мёртвому затылку, по загривку.
- Сынок... давай мне кровушку остановим... перевяжем...
На морозе я сбросил с себя шубёнку, стащил меховую душегрею, потом нательную рубаху, одною ногой наступил на полу, двумя руками вцепился в холстину и потянул на себя. Крепкий холст не поддавался, не рвался. Марина, дрожа руками и окровавленной головой, выдернула у меня из рук рубашонку и зубами и сильными пальцами порвала её на длинные полоски. Я перевязал матери щеку и шею. Она отсиделась, отдышалась, встала, выдернула нож из тела медведицы. Я отвернулся, не смотрел, как Марина свежует зверя. Потом она полезла за пазуху и вытащила из-за пояса маленький острый топор. И не глядел я, как мать топором рубит дымящееся на морозе мясо.
А когда я насмелился и посмотрел Марине в лицо, я увидел, что оно всё залито слезами.
Слёзы мешались с кровью и стекали вниз, и таяли в шерсти тулупа, и скатывались на кровяной снег. Я понял, почему мать плачет.
- Мама! Они тоже умрут?
Я показал рукой на маленьких медведей, отчаянно раскатившихся по снегу чёрными шарами. Марина, прикусив губу, молча помотала головой: нет, нет, нет.
- Нет! Мы возьмём их с собой! В сельцо!
- А как мы их поймаем? Убежали они!
- Далеко не уйдут! Рядом берлога!
Марина накладывала красное тёмное мясо на мои санки и крепко приторачивала куски к сиденью и деревянной спинке пеньковой веревкой. Потом мы ловили медвежат. Приманить их нечем было, не захватили мы в тайгу ни кусочка сотового мёда из погреба, ни жимолостевой ягоды из вареньевой банки, ни застывших на морозе круглыми колёсами и жерновами сладких сливок. Мы гонялись за ними просто так, набрасывали на них мешок, я пронзительно кричал: мама, а вдруг они кусаются и мне руку насквозь прокусят! - а мать, слабая от потери крови, падала на снег и ползла по снегу, пятная кровью белизну, и смеялась сквозь нищие слёзы, и вопила, и молилась шёпотом, и крепко, любовно обхватывала руками зверька, залавливая его, к себе прижимая, целуя кровавыми губами в нос, в мохнатые уши, зарываясь солёным лицом в спутанную, унизанную сосульками волглую, пахучую шерсть.
Марина потащила домой медвежат в мешке, а меня оставила сидеть близ санок, сторожить разрубленную на много кусков медведицу. Останки зверицы валялись поодаль, в снегу. Смеркалось. Снега светились в пугающе-синих сумерках княжеским перламутром. Матери не было долго. Целую жизнь. Я прожил жизнь, пока её не было; и заснул на морозе; и замёрз; и умер; и опять родился. Когда я родился, я мать мою увидел. Она, качаясь, шла ко мне в снегу. Шла по снегу. Шла поверх снега. Я не понимал, что она мне снится. Что может понять новорождённый? Я только что видел Ад, там убивали зверя, живого, красивого, мать маленьких детей мохнатых, там лилась на снег кровь моей родимой матери, и я болел её болью, я кричал её криком, и это её, её слезы текли по моим щекам в морозных Адовых приделах. И я так помнил Рай! Мой Рай! Я же родился, чтобы идти и идти в Рай, всё в Рай и в Рай! И боле никуда! Назначено мне так! А кем, и не знаю!
И я, и я Рай мой тоже выучил на память! Всё там знал! Там вода играла жидким яхонтом под глинистым красным обрывом; там полосатые рыбы-вьюны, если их выдернуть из воды, могут жить в избе в глиняном горшке, и можно низко опускать лицо над горшком и годами напролёт следить, как туда-сюда ходит-плавает твоя живая мечта; там молоко ли, сливки застывают золотыми и серебряными слитками, и, чтобы они растаяли, надо посадить их в печь в чёрном, как ночь, чугуне; там две толстых, закрученных змеиной спиралью свечи горят под иконой, как два рыбацких далёких костра на полночном берегу; там коровы поутру мощною ребрастою, рогатой рекою переходят вброд голодное Время и входят во врата разнотравных лугов, сияющих красными жарками опушек. Мой Рай был смел и робок, он гладил меня по плечу, он подсовывал мне под ноги широкие лесные лыжи, похожие на разделочные доски - одна у нас в избе хранилась для лепки пельменей, другая, чтобы мелко и весело острым тесаком резать черемшу; Рай пел мне песни на сон грядущий и поутру - то голосом матери моей, то множеством птичьих дробных голосов, они речными перлами рассыпались вдоль и поперёк по восстающей каждое утро из мёртвых земле, и я непреложно знал: земля родная это и есть Рай, мой хвойный Рай, я вдыхал его, целовал, крепко сжимал, как маленький кедровый орешек, в потном тесном кулаке.
Я жизнь в кулаке сжимал. Она была слишком любима мною. Я не хотел с ней разлучаться ни на миг.
Так я сжимал жизнь в зимнем холодном кулачонке, и краснели на морозе маленькие пальцы, и я бредил Раем, не понять было, в нём я или вне его, вспоминаю я о нём или живу в нём, и никто меня из него никогда не изгонит. Потом я сел на снег и стал мечтать о костре. Потом стал тихо засыпать, клонить головёнку на морозе. И, хоть я был тепло одет, снаряжён матерью для дальнего в тайгу похода, мороз пробрал меня до костей, и стал я тихо замерзать, помышляя о том, что мороз - это просто сон, это только сон, и ничего больше, и вот он, Рай, рядом.
Мать явилась из ничего. Из пустоты. Я с трудом разлепил глаза. Мать качалась передо мной маятником старых часов, приколоченных к срубовой стене в нашей бедной избе. Тук-тук, тук-тук, - ходил-бродил хмельной маятник туда-сюда, и я сам превращался в маятник, я сам состоял из железа, из позеленелой меди и позолоченных винтов. Мать подняла меня на руки из сугроба и на удивление легко и быстро пошла по снегу, просто полетела; я понял, она скользила по снегу на лыжах. Ах, надо было сразу нам обоим на медведя на лыжах катить; тогда бы мы от медведицы той стремительно укатили, мгновенно.
Дома Марина раскутала меня, всё моё онемелое, железно-сабельное, обмороженное тельце. Я, взрослый, из-под потолка глядел на себя, малютку. Мать открыла зубами длинную бутыль синеватого мутного стекла, плеснула себе в ладонь зелья, оно пахло дико и страшно, и этим запретным раствором стала мазать мне живот, руки и ноги, втирать в мою обожжённую зимой кожу рукотворный огонь. Через малое время я застонал: тело охватило кольцом огненной боли, я дёргался, ныл, кусал рот, скалил зубы, как волк, как медведь, я становился зверем, а не хотел им быть. Мать растёрла меня до жгучей, печной красноты, я уже орал, не смыкая рта. За окнами, опушёнными горностаем снега, бесилась вьялица и вспыхивали и снова слепли плачущие светом звёзды. Свет! Я сам иной раз чувствовал себя светом. Я, свет, мог обращаться в звук, в дрожание хакасского комуза; мог становиться словом, и тогда мать, полосатый кот, цветная сойка за окном, яблочно-алые снегири, все разом, слышали-видели меня. Я горел и гас, и, когда меня заволакивала тьма, я боялся, что вновь не появлюсь в широкий Мiръ.
Я лежал, кричал под материными руками и под обжигающей плёнкой сине-мутного самогона, а по полу катались три чёрных живых шара. Медвежата, мохнатые комки. Сгустки шерсти, повизгивания и блеска глаз-чечевиц. Она валились набок, кувыркались, показывали брюхо - это был знак высшего доверия брату-человеку. Я забыл про боль, пялился на медвежат и перестал орать. Мать перевернула меня на живот и крепко, жестоко растирала мне спину. Шершавый рабочий наждак её ладоней расцарапывал мне кожу под лопатками и на пояснице. Медведики уселись возле корыта, где я лежал; мать, растирая меня, стояла перед корытом на коленях. Мать и медвежата восседали рядом. Только мать жмурилась, меня растирая, - самогон выедал радужку больнее резаного репчатого лука, - а медвежьи дети глядели во все чечевичные глазёнки.
Когда я весь запылал костром и перестал чувствовать мою плоть, а превратился в одно большое сломанное, без веса, крыло, мать накрыла меня волчьей дохой, вынутой из сундука, из-под леденистой чугунной крышки, обитой полосками красной жести. Вот тут я наконец согрелся. Разжарился, запылал. Засыпая, оживая, туманно, сквозь дрёму я почуял: тяжёлое на ногах, тяжёлое на животе, а вот ещё тяжёлое давит мне на локоть, а морда под мышку тычется. Это медвежата, все трое, запрыгнули ко мне в моё спальное корыто и укладывались на меня и рядом со мной, и прижались ко мне, прилипли, и я спал в Раю, и звери спали со мной.
А когда я проснулся, я света не взвидел. Божия Матерь медленно выходила смуглым ликом, нежными длиннопалыми руками из тёмного золота древней иконы в хвойный, восковой воздух земной избы. Глаза-сливины Пресвятой Богородицы плыли ко мне, приближались, сердце прожигали. Книга, близ коей всегда стояли две витые толстые свечи, сама собою раскрылась. И с её желтых, заворачивающихся в трубочки, измоченных дождями, высушенных ожоговым полднем, ломких страниц посыпались буквы, буквицы, буквочки. Семена, из них же соткана почва, из них прорастает белый свет, и они в нашей крови текут, иначе мы не говорили бы их, не выдыхали горячим паром изо рта?.. - нет, из сердца!.. - в мороз, не плакали бы и не смеялись ими одними.
И из этих мелких, живорыбных, осиянных, семенных буквочек вдруг стали складываться деревья, птицы, песчаные барханы, морские волны и павлиньи хвосты подлинного Рая. И те живые, кто ютился в Раю, все почему-то глядели в одну сторону.
Туда глядеть нельзя было, да они глядели.
И боялся я посмотреть; и знал я, что там - Ад.
Я выпростался из-под спящих медвежат и стал босыми ногами на ледяную половицу. Я знал: одного угла избы нет. Там пустота. Там Ад и ветер. Непроглядный простор. Свечи горели, испуская длинное, стрельчатое, узкое, змеиным языком, кинжальное пламя. Пламя стало рваться, бесчинствовать, клокотать. Фитили обгорели, плавились. Я наконец повернулся.
Ад пылал тысячью жадных огней. Ступить в эти огненные рои - и зажалят тебя до смерти, и воскресения не будет. И Мiра не станет, и войны; ничего.
А если туда побежать! Прыгнуть в Адский вой, в угольную, антрацитовую пустыню! Горло обхватит чернобуркой ночи. Станут душить дымы. Марина! Где ты! Мать моя! Медвежатница! Знахарка! Плясунья! Что ты мне предрекала! Кем я стану в жизни без тебя! Почему я один! Ад, ответь мне, зачем ты, зверь, сожрал мою мать, и косточки не оставил!
Впервые отчаяние охватило меня. Со страниц толстой истрепанной Книги про Рай и Ад доносились голоса. Это кричали мученики Ада. Голые их тела корчились и обращались в буквицы. И я сам становился буквицей, и меня можно было читать и петь, а можно было счистить кухонным ножом и гладко затереть ногтем, и никто никогда не узнал бы, что сожжённая буква мерцала когда-то живыми, слёзными глазами.
На одной звучащей странице пылал и стонал Ад. На другой, рядом, лишь перелистни, Рай. Сквозь облака прорастали златые апельсины. Красные шары мандаринов украшали малахит жестколистных ветвей. Жирафы, нежно изгибая пятнистые шеи, клали головы с фарфоровыми рожками на спины мирно спящим волкам. Волчьи сивые шкуры с грязно-сивым подшёрстком пахли перейдённым вброд болотом, раздавленной клюквой, свежей кровью. Снежные барсы и рыжие львы глядели смирно, просяще. Синие громадные бабочки с рисунком на крыльях в виде совиной головы сонно садились на сыро блестевшие, узорчатые спины ползущих к воде змей толщиной в бревно. И змеи смиренные, и бабочки смиренные. В Раю всё смирялось со своей участью. С тем, что все или сами умрут, или погибнут.
- Мама!.. От чего я погибну...
Мне некого было спрашивать. Матери в избе не было. Её не было нигде, я видел это. Я видел это не глазами. Внутри меня проснулось иное зрение. Я видел тем, что внутри меня билось глухо и гулко, бухало таёжным колотом в рёбра и под лопатки, и моё сердце валилось мне в ноги мощной, величиною с голову ребенка, кедровой шишкой.
Я был и кедр, и шишка, и колот, и сердце. Я был всем сразу и во всех временах. Мне больше не надо было печалиться о смерти. Я был одновременно и покойником, и вновь рождённым. Ад и Рай это были смерть и жизнь, такая дивная, обречённая на вечное катящееся колесо смерть-жизнь.
И они обе не хотели меня пощадить.
И я у них обеих не просил пощады.
ЦАРСТВО ОГНЯ
Медвежата визжали. А может быть, это визжал ветер Красной площади? Я стоял посреди площади, руки в наручниках, и не было никаких медвежат, медвежата привиделись. Да я сам себе привиделся, малой. Не удивлялся я этим прыжкам во Времени; я учился у Времени протягиваться, длиться, а потом вдруг враз рваться, истекать кровью, замирать, исчезать. Мы, люди, мало и плохо учимся у Времени его премудростям и уловкам. Оно не заставляет нас быть им. Оно приказывает нам быть собой. Хоть бы для этого и надо нам переломать все кости, распотрошить брюхо, вытащить кишки и намотать на палачью скалку. Человек всегда пытал человека. Всегда заковывал его в кандалы, в испанский сапог, в наручники. Тогда чему же я удивляюсь? Против кого восстаю?
Они сцепили мне руки железом, но они не поняли: я свободен. Наперекор всему.
Ибо юродив я и бешен, и светел, и петь могу во всю глотку, и сейчас... сейчас...
Понимаю, будет больно. Очень больно. Но ведь медведь лапу перегрызает, уходя из капкана. Медведь тоже понимает: будет больно. А зверь еще хуже переносит боль, чем наделённый разумом человек. Мы можем усилием воли загнать боль внутрь себя. Усилием боли. Когда мне будет невыносимо больно, я забуду свое имя, я не вспомню его больше никогда, но отгрызать себе лапу я не престану.
Я вытянул руки перед собой и склонил голову. Лохмы мои заструились по шее и плечам, мягко и властно, тепло укрыли спину, упали шерстяной зверьей волной на грудь, завивались кудрями на беззащитном, как у порося, животе. Какой уж я порося, брюхо моё подвело, рёбра все наперечет, костяная расчёска. Из жалости меня бабы подкармливают, корочку хлебца мне на площади тянут, кусок белорыбицы солёной дают. Я рыбу сосу, чмокаю, кровь ударяет под лоб, и я хриплю, обводя сумасшедшим взором площадь: пусть вам, бабы, Господь с Царского Своего плеча завтра пожалует осетра первейшего! Сазана астраханского! Судака васильского! А мы-то тут, в Москва-реке, и плотвицей пробавимся...
На меня никто не глядел. Сдался я им всем тут, на ночной широкой площади. Кругла, как циркулем её обвели, будто огромным небесным стаканом землю накрыли, потом стакан великан поднял вверх, и круг на снегу отпечатался; и я только и слышал вокруг, как перекидывались люди мусорными словесами: пельмени лепить будем?.. - будем!.. сначала споём!.. певичка знаменитая у нас, в бочонке сидит!.. - а теперь что, бочки - тюрьмы?.. а ты что творишь?.. - да наручники продаю!.. спрос нынче на такой товар!.. - а ты торгуешь чем?.. - красной рыбой!.. - а ты?.. - синей рыбой!.. - а ты?.. - я самой собой торгую!.. - сгинь-пропади!.. - а я - живыми зверями!.. налетай!.. вон погляди, полюбуйся, друг длинноволосый, какие у меня послушливые зверяточки!.. три медведика, как в сказке!.. ничего не говорят, всё больше молчат, иногда кряхтят!.. - а кто это там, поодаль, вдали от торговых рядов, руки на груди нянчит, а башку низко-низко опустил, на башмаки грязные залюбовался, что ль?!..
Я понимал: не так-то уж и много Времени мне будет отпущено на Адскую боль. Надо претерпеть. Претерпевший до конца спасётся. Я с детства это заучил.
Ещё ниже я наклонил голову. Ткнулся незрячим лицом себе в запястья. Ночь текла и утекала. Никто не глядел на меня. Никому я не был нужен. Только тем двум злыдням, что на меня наручники нацепили. Под мои губы толкнулись два сжатых кулака. Это я сам крепко сжал их и прижал их друг к другу. Если сейчас подойдет один из мучителей, я сдвоенными кулачищами так ударю его - век помнить будет. Или совсем ничего не будет помнить.
Рот дрожал, прижимаясь к собственной коже, как к чужой. Я раскрыл рот пошире. Первый укус меня потряс. Я не вынес такой боли, застонал и отпрянул. Из прокушенной руки брызнула кровь и забрызгала мне рот, щёки, грудь.
Медведь отгрызает лапу, уходя из капкана. Из капкана. Лапу. И ему не жалко. И ему не больно.
Я выплюнул кровь, наполнившую мне рот. Снег окрасился соком рябины, брусники. Снова сунул себе под зубы раненую плоть. И стал грызть, терзать. Вьюга выла громче, чем я стонал. Я откинул озверевшую голову от несчастной изгрызенной руки. Кожа висела красными лохмотьями. Я понял: я могу протащить мою раненую руку сквозь наручник.
Я стал тащить руку сквозь Адский круг стали. Большой кус человечьего мяса с трудом, но пролезал в железное кольцо. Я вытискивал, выдавливал искалеченную руку из металла. Я такого сплава не знал: никель, железо, цинк, алюминий, и названий таких я не ведал, но в толстобрюхой вечной Книге Адовы писцы старательно, каллиграфически записали, узорчато вычертили их. На спинах аспидов записана была эта морозная вязь. Иероглифы боли. Письмена ужаса.
Я глядел во все глаза на мешанину из крови и костей. Освободить. Выпростать. Вынуть.
Я выдернул руку из железного кольца, оставив лоскут мяса и кожи на серебряно мерцающем ободе. Ад на секунду выпустил меня из объятий. Я знал, через миг он опять сожмёт меня, обхватит. Но пока, сейчас, вот сейчас можно было постоять на ветру, подержать изуродованную руку на весу, и чтобы её, Адскую, обвевал метельный ветер, и вдыхать всею глоткой буран, и чувствовать: жизнь, да, ты живёшь, а другие умерли, умрёшь и ты, но не сейчас. Не сейчас.
А что - сейчас?
Они сказали, Зимняя Война началась. А может, не началась? А возобновилась? Ожила? Да, она просто ожила! Воскресла! Она, чёрная убитая медведица...
Я-то думал, никто, уж совсем никто не глядел на меня в людской мешанине площадной. Ошибся я. На меня из-за сугроба глядела девчонка, тощая грудка куриная, тонкие коски-сабельки. Таращилась, глазёнки застыли, напуганные, ладошкой рот прикрыла: чтобы не завопить, а может, чтобы не захохотать. Детишки жестокие бывают, с них станет. Страдалец-старикан на площади для таковских - забавка ёлочная. Да скрестились наши глаза. Пристально девчонка смотрела; и я не уступал. Вглубь ее очей очами втыкался.
Она шагнула ко мне раз, другой.
Указала пальцем на мою кровоточащую руку и глазами вопросила: что с тобой?
Я усмехнулся. Язык сам сказал за меня.
- Это, детонька, моя свобода.
Она пожала плечами, потом кивнула: поняла, мол.
Уж такая худущая! Может, голодная.
- Хлеба нету за пазухой, дитя, ты прости...
Теперь пришёл её черёд усмехнуться.
Она разлепила губёшки и тихо спросила, коряв, чужедален, звенел её выговор:
- Дяденька, ты Зимней Войны не бойся. Она всегда идёт. Не закончится никогда. И не надейся! Она ведь возвращается! Люди умирают, а она - нет!
Снег вокруг меня пропитался кровью. Я оглянулся по сторонам.
- Это мы ещё посмотрим. Повоюем супостата - да и остановим!
Девчонка сделала ещё шаг ко мне по снегу, теребила косу.
- Не остановишь. Я вот ночами не сплю, всё ищу пути. Я грамоте умею. Старые книги читаю, что умного в них начертано. Туда пойдёшь - беда, сюда пойдёшь - никогда... прямо пойдёшь... навсегда...
Одинокие люди меж кострами ходили - и одиночество исчезало, уступая место толпе. Людское тесто всходило. Народ прибывал. Рос. Ширился. Дома сгибались под тяжестью заваленных снегом крыш. Танки налезали, наползали, грохот стоял уже неимоверный, я не мог мыслить, только вздрагивал, слушая непомерный гул. Железные повозки на колёсах нахлынули на площадь из улиц и переулков, преисподними ручьями вливавшихся в неё, и острые ножи смятенных людских взглядов разрезали надвое, натрое, на сто кусков её белый пирог. Какую будущую терпкую, слёзную полынь в него запекли? Железо, несущее смерть. Огни, и за ними дыма шлейфы и шарфы. Гусиные, журавлиные шеи танковых пушек; полнилась Красная площадь железными журавлями, и это был не парад, это начиналась настоящая война, и три цвета царили в ней - черный, белый и красный, и какой был самый страшный, я ещё не знал. Мусор возвышался горами, и люди подходили, брали мусор голыми руками - банки, бумаги, мятые газеты, дырявые ящики, рваные тряпки - и бросали в костры, питая, кормя жадный волчий огонь. Я понял: Красная площадь - тоже дикая тайга, как та, моя, родная, сибирская. Просто вместо кедров и лиственниц здесь камни и пламя. Из окон домов, окаймляющих площадь, летели шкафы, шифоньеры, стулья, лавки, кровати - и разбивались, старые, колченогие, новые, с богатой изощрённой резьбой, с перламутровыми инкрустациями, падала мебель, помощница человеку в его скорбях, чтобы он мог устало посидеть в кресле, без сил свалиться на дно диванной лодки или, снулой рыбой, в панцирную сетку больничной койки. Да, жизнь людская летела, и падала, и разбивалась, и из её обломков плачущие по вчерашнему мирному дню люди сооружали препятствия, чтобы танки дальше не прошли, чтобы здесь, на границе мира и Зимней Войны, остановились.
Я держал освобожденную из капкана наручника руку согнутой в локте и следил, как из неё на снег густо, печально капала кровь. Другая рука томилась в железном кольце, в звенящем браслете. Кричали военные люди с красными погонами на плечах толстых тёплых шинелей, болотное сукно топорщилось и деревенело, люди хриплыми голосами отдавали приказы, а их никто не слушал. Народ оглох. Народ бежал, наполнял собою круглую миску площади, я видел командиров, видел солдат, они кричали друг другу одним им понятные слова. Народ запруживал площадь, я зрел его круговращенье, и я не мог его остановить, и никто не мог, да и зачем? Огонь, шептал я, огонь! Как тебя тут много! Тебя уже никто отсюда не выгонит! Ты - огонь войны! И зачем только мы все увидали тебя! И зачем я вижу тебя и славлю тебя!
Огонь вихрился красной метелью. Достигал небесного мрака. Лизал золотым языком созвездия. Заглатывал их. Пропадал в зените.
Господи, кто это? Кто там? Да, там, поодаль? Как ясно я вижу её!
Я увидел эту женщину, хоть она стояла на площади далеко, слишком близко. Будто кто незримый поднес её ко мне на прозрачной ладони, и я рассмотрел её всю через толщу призрачной зимней линзы. Она стояла, одетая в мешок, с дырою для головы и двумя дырами, чтобы руки просунуть. Босиком на снегу. Мне как кипятком потроха окатило. Моя! Родная! А как зовут, не знаю! И никогда на Москве её не зрел! А вот узрел! Судьба! В круге огней, площадных военных костров, стояла она, раскинув руки, чтобы обнять любимого, невидимого, а потом руки высоко подняла и так стояла с воздетыми руками. Ветер нещадно мял и трепал её сизо-желтый, цвета мёртвого волка, мешок. И ноги её торчали из-под мешка - две голубки. И руки птицами, качаясь и светясь, улетали в равнодушную небесную чернь.
Руки, худые... не емши давно... а власы, власы... так и летят по ветру, так и летят...
Я вернулся к тебе. Слышишь, я вернулся к тебе. Давай я вспомню, как тебя зовут! Если я вспомню твоё имя, я припомню, и я кто такой!
Лохматая, как и я же. Голая на морозе, как и я же, лишь мешковина на плечах, не греет ничуть. Мороз её не берёт. Ах, кошки да собаки ей подол мешка подрали! Обгрызли! Нити висят, влачатся по льду, по холодной грязи, по углям, скачущим вон из костров. Народ расступался перед ней, не видя её, только чуя жар, от неё исходящий. Она катилась в зимней толпе ночным Солнцем. Народ ворчал, ворковал, шушукался и рыдал вокруг неё, сзади и спереди, сверху и снизу. Народ единой мощью обнимал её, и, слепо видя её, вбирал её и становился её воздухом и землей у неё под ногами. Не народ диктовал ей волю свою, не Царь, не иерей, выбежавший вон из полнощного храма на сизый снег - ловить ноздрями, губами летящую птицу Зимней Войны и молиться за народную чудо-победу. Она народу велела, и народ волю её исполнял; не указом велела, а самою собой, своей маленькой, огненной жизнью.
Да! Как это я не понял сразу! Она горела. И нескончаемым гудом огня на морозе стонал народ. Люди жаждали борьбы с врагом. Люди не видели врага, как ни щурились, ни жмурились. Где враг?! Кто враг?! А, вот он! За неимением врага люди набрасывались на родных людей, давили друг друга, тискали, мяли, на снег валили. Рукопашный бой! Самый страшный; страшнее взрывов, выстрелов страшней. Скверные слова сотрясали слои снега и чёрное молоко туч, несомых полоумным ветром. Костры горели, превращаясь в пепелища, да люди-безумцы, распевая на холоду срамные песни, опять и опять натаскивали дрова, хворост, ножки столов и стульев бархатные сиденья, и бросали, швыряли, закидывали отломки бытия в вековечный ярый костер. И снова горела боль, и становилось жарко, и красные тряпки лёгких под часто дышащими рёбрами глотали гарь, чад и дух бесконечной смерти.
Дым вздымался, вился и клубился, и, танцуя, поднимался вверх серебряными кувшинками, перламутром дикого табака. Площадь курила трубку войны, и всё никак не могла накуриться. Беспросветную шахтёрскую чашку неба опрокинул над Красной площадью Бог, он склонял в царстве льда и бурана всеслышащее ухо к человечьим далеким крикам.
- Царь!.. Царь!.. Где наш Царь!.. Страданьем наелись досыта!.. От кровушки пьяны!.. А нам опять: ступайте на погибель!.. Умрём же за Царя!.. Где воскресение?!.. Житие насквозь пройдено, от века до века!.. А разве ты воскреснешь?.. То умеет только Бог!.. Никто как Бог!.. Устали мучиться!.. За муки - отомстим!.. Да покажи, кому мстить!.. Не узнаем вражину в толпе!.. Укажи на супостата, да не обмани!.. Слишком много обмана развелось!.. Обман на обмане сидит да обманом погоняет!.. Разрушим обман кровью!.. Лишь кровью ложь ко кресту пригвоздить можно!.. Кровь наша последняя правда!.. Истина!.. А что есть истина?.. Истина - вот она, в горсти у той девчонки, вон, у того костра!.. Стоит!.. Сиротка!.. Синеглазка!.. Видишь вон её!.. В мешке!.. В рубище!.. А может, у ней истину - купить?.. А ты подкатись да спроси!.. За спрос денег не берут!.. Эй ты, девка... да, ты, в непотребном мешке!.. Почем истину продаёшь?.. А?.. Не слышу!.. Что?!.. За так отдашь?!.. Что ты брешешь... так не бывает... всё на свете, слышишь, всё-всё-всё чего-то да стоит!.. Ну, давай, давай твою истину... беру... авось пригодится... да коли за так отдаёшь... даришь, выходит так... ну валяй, дари, не откажусь...
- А ты что стал?! Где острая сабля твоя?! Где ружьишко твоё без промаха?! Огнёмет где, базука, где связка гранат?!.. Кто не с нами, тот против нас!.. Мы - сила! Мы - слава! Мы - земля! За мир на нашей земле - убьём!.. Любого, кто сунется... кто подойдёт!.. Знаем мы ваш мир, вруны! Ваш мир - обман! Лишь ваша с нами война - чистейшая правда! А наша с вами война - святая истина! Тут мы сошлись! И батюшки не надо, чтобы нас на бой благословить!
- Рублю наотмашь!.. Режу... башку напрочь отсекаю... прямо в сердце целю! И стреляю, стреляю! Такова участь! Таков уж человечек на земле - стрелок великий, пуля и знамя насквозь прошьёт, и лик на хоругви, и кольчугу, связанную из рыбьей чешуи, и княжий атлас, и розовое, цветочное сиянье зари! Царь!.. Царь!.. Где наш Царь!.. Зачем вы отняли у нас нашего Царя!.. У нас же был Царь!.. Был!.. Зачем вы убили его!..
- Зачем мы... мы сами... убили... его...
- А ты что, спасения хочешь?.. Думаешь, Царь тебя спасёт?.. Сам учись себя спасать!.. Ах ты лжец!.. Не работаешь, а клянчишь денег!.. Палец о палец не ударил, а жаждешь сокровищ!.. Кровь твоё сокровище!.. Топор твоя святыня!.. А Царь, запомни, он всего лишь человек... Обряди себя в красный атлас, в синий небесный шёлк! Откажись от серебряного, соблазнительного динария, что тянет тебе мужик-бандит в смуглых кривых, грязных пальцах! Улыбнись и прошепчи ему, и пусть летит шёпот от уст твоих нежнее беличьего пуха: воздадите кесарево - кесареви, а Божие - Богови!.. Народ, мы всех поднимем на войну! Ведь она же Зимняя, наша Война!.. Ведь она же лютой зимой началась... А Царь, он так же погибнет, как ты, на войне! Он так же слаб, как ты! Так же грешен, как ты! Так же наивен, как ты, дитя! Так же смерти боится, как ты, ветхий деньми старик!..
- Дряни... гады ползучие, смерды, холопы... псы смердящие!.. кочергу ржавую, обгорелую вам в зубы, а не Царскую милость... Свободы захотели?.. Где она, ваша свобода?.. К чему она вам, стада безмозглые?!.. Вас под ножницы пастушьи, да чтобы всю вашу тучами клубящуюся, богатую шерсть под корень остригли, да дорого, за злато, на заморском рынке продали... Свобода, наша, ваша, чья?.. Свобода, ведь она как корона, она на чью-то головушку намертво надевается, на лоб надвигается... она ведь кому-то принадлежит. И она, как и Царская власть, наследная, ваша свобода! А вы только глотки надрываете: мы за свободу!.. за свободу!.. На деле вы - против свободы идёте! Вы - с нею - сражаетесь! Опять за тюрьму! Опять за гниение в ямах выгребных! Опять, дураки площадные, за лютую ложь, что буквицами по ноздреватой, как свежий хлеб, бумаге старательно, подобострастно выписывают узкие, ножом расщеплённые гусиные перья... Думаете, свобода - это роскошь?! Воля, где могут ночами напролёт выть волки, петь страшную песню шакалы, грызться рыжие огненные собаки?.. Мните, свобода - это есть на серебре, пить из хрусталя, вкушать изюм и пахлаву, обнимать красоток и красавцев?.. О нет! Безумцы! Свобода другого - вас по согнутым спинам плёткой-девятихвосткой хлестать! Вам в рожи плевать! Вас - на площади - колесовать и четвертовать, Адской пыткой пытать! Душить! В крови вашей вас же и топить! И всё это для того, чтобы вы крикнули, умирающую глотку надрывая: любим тебя, мучитель, враг! Мы не народ, а стадо! А народ истинный - это вы, наши пастухи! И так от века заведено! Чтобы осталась в Мiре свобода, должны пребыть в нём пастухи и овцы! И пастухи будут, овцы, владеть вами! И, когда придёт Время, заловит пастух барана, и пригнёт его башку к земле, и саданёт по горлу ножом! Вот и свобода крови течь! Вот и свобода народу плясать на великом празднике еды, жизни, молитвы Богу! Тушу разделают, мясо изжарят, и народ спляшет потом, после пира, на овечьих костях!..
Я отвернулся, дрожа, но я продолжал слышать крики. Набедренная повязка моя промокла от пота: я на морозе взопрел, слушая дикие вопли толпы. Овечья шкура на моих голых раменах тоже вся влажная стала. Сквозь сугробы и людей я пробрался к женщине, стоявшей в дырявом мешке на снегу босиком. Подойдя ближе, я мог хорошенько рассмотреть её. Да, я точно знал её. Ведал. А не знал, так то всё равно. Все мы знаем друг друга, видя друг друга во сне; или до рожденья; или после кончины. Вокруг поднимался в ночной зенит дым ругани, визги боли. Босая баба стояла на снегу плотно и прочно, чуть расставив ноги по-мужицки, так на железной клёпаной палубе стоит моряк. Зима ледоколом плыла во тьму. Плыла земля в Ледовитом океане множества горьких судеб. Стояла простоволосая женщина, а вокруг неё дымами стоял смрад и воздымался царственный огонь. Я опять поглядел на её голые щиколотки. Не давали мне покоя эти её босые ноги. Не мог я на это смотреть и молчать! Видел я, как её крохотные уклейки-пальчики, как голые её пятки прижались к чёрному зеркалу льда! Плакало сердце моё. Плакали очи, я сомкнул веки, но и с закрытыми глазами я видел её, босую. Ноги и лицо! Что же ты сильнее, крепче целуешь, огонь! Я открыл глаза и воззрился на её голый лик. Не я, ветер его целовал. Я её лица устрашился. Да, не лик, а страх и радость, красота и безумие. Скулы, инда кремень, тверды и остры, по лбу морщины бегут, волосы змеями вдоль щёк ползут, вниз, на плечи, ещё ниже, на грудь и спину, ещё ниже, вдоль по бокам, по рёбрам тощим, торчащим. Светлая ширь глаз! Разве можно, чтобы такими громадными озёрами глядели бабьи глаза на великой земле! Вглубь каждого её зрака падал я, они ввинчивали меня в себя, и каждый был узкий, без дна, лаз в преисподнюю, и Райские радужки обнимали смоляные пропасти подземного Ада.
С удивлением и жалостью я увидел морщины вокруг её рта: то ли ранние, а то ли Время поиздевалось, поработало жёстким резцом. Из всего её лица, круглого, как Луна в ковыльной, вьюжной вышине, текла, сочилась, лучилась любовь. "Это благодать", - так шепнул я сам себе и не шевелился, на снегу стоя и её бесстыдно разглядывая.
И вот она, поверх людских голов, перевела взор свой на меня.
Ткнулась глазами в мою обожжённую морозом грудь.
Косматая меховина сползала с плеч моих вниз, в прибой снегов.
Так вот ты какая, прекрасная, нежная. Откуда, с какой звезды сошла? Какие планетные туманы вброд перешла? Долго ждал я тебя. В небесах жила? Зачем тебе нынче земное прозябание?
Надо заговорить с ней.
Кровь на израненной руке застывала. Покрылась коркой. Коричневой корой остановленного Времени. Время этою ночью и впрямь остановилось: я давно хотел узреть в толпе мою Юродивую, и вот я её узрел, и вот я её вспомнил и к ней подошел, и теперь единственная загвоздка - чтобы она узнала меня.
А кто я ей? Сват, брат? Площадной нищий? Городской безумец? Святой длинноволосый старик, направо пойти - Царь скомороший, налево пойти - ещё немного, и столпник?
- Родная! Славна будь!
Ресницы её дрогнули. Длинные, густые золотые, с прожилами буранной седины, распущенные косы рвал ветер. Снег целовал. Звёзды валились ей в холстинный подол. Белая морозная крупка наотмашь била ей в лицо, остриями впивалась в щёки. Белые гвозди зима в неё, безропотную, на ветру распятую, забивала.
- Не знаю имени твоего! Не помню! Сохрани Господь тебя и спаси! Уйди ты с площади Христа ради! Исчезни! Ведь вот, видишь, танки! И винтовки у всех, и иное оружье... и, гляди, вот-вот палить начнут! Головы не сносить! Ни тебе, ни мне, никому! Станешь дровами, подбросят в костер, и не охнут. Не пожалеют! Это ты всех жалеешь! Это я... всех жалею...
Она глядела на меня - и сквозь меня. Взгляд её обладал такой силой света, что запросто прокалывал и живую плоть, и камень храма, и густоту палачьего ветра.
- Зимняя Война, это, родная, великая заваруха! Не расхлебать нам ту кровавую ушицу! Хоть ложки нам в грязные, дрожащие руки всунули, хоть заставили: жрите, а то оголодаете, и до края не дойдёте!.. До края... до Рая... Сожгут ведь тебя ненароком, Солнце земное! Хоть ты и сама есть пламя! Сгоришь дотла... до разброса костей... до горстки пепла... и не сумеешь, не успеешь содеять на землице всё то, к чему тебя небо призвало...
Ветер отдул густую злато-седую, сумасшедшую прядь от её плеча и кинул в меня; швырнул её власы на меня и залепил мне ими рот, лицо, глаза и всё чувствование. Я чуть в снег не упал, так меня её волосы ожгли.
Скажи мне хоть слово, родная.
И я услышал её голос.
- Ты всё сам видишь. Пуще меня всё знаешь. Одарил тебя Бог великим разумением, но то не ум, а чувство. Чуешь всё. Лелеешь мыслью и прощаешь всё грехи. Зачем я-то тебе? А оглянись-ка вокруг. Что с народом случилось? Зачем люди все передрались? Зачем они выцарапывают глаза друг другу, ногтями, как звери, полосуют друг другу нежные лица? Видишь ли ты, поймёшь ли, почему они все - воззри!.. - друг друга на сей площади, рыча и плача, убивают?!
Я, исполняя её приказ, обвел очами кружало площади. И я увидал.
Бабы нещадно друг дружку мёрзлыми кулаками молотили. Визги и вопли ввинчивались в седой колкий воздух. Мальчишки, сцепившись руками-ногами, катались по площади, подобно зимней колючке, сохлому перекати-полю. Древние деды замахивались слабыми руками и бросали друг в друга камни, вывороченные из мостовой булыжники. Булыжник в башку попадал - падал старик, кровью заливаясь, и пропадало под красным флагом крови его орущее лицо. Мужики друг друга наземь валили, скалясь, заламывали друг другу руки, топтали друг друга тяжелыми гирями-ногами. А уронив на булыжники площади, садились на корточки рядом с поверженным, хватали его бедную голову обеими руки и били, били о камень, и опять брызгала кровь, текла на голубиный снег и нефтяной лёд.
Как, хотел крикнуть я, разве друг дружку возможно вам уничтожать?!.. вы же все - народа одного! Мы же все - один народ! Гражданская то свара! Нет ей остановки, нет ей конца! Человек человеку не волк! Человек человеку - хлеб! Да, родные, тёплый хлеб, только из печи! Человек человеку - цветок! Даже зимний, сугробный, гробовой, ледяной... А вы друг в друга камни бросаете! А я знаю, чего вы на площади ждёте: оружия изобильного! Сейчас грузовики в ящиках привезут! На всех хватит! И ждёте - огня! Чтобы в бешеный костер палки просмолённые окунуть! А как возожгутся, с ними по площади побежать! На небо взбежать хотите?! Ничего у вас не выйдет! На небо убийц не берут! Только праведников! И, значит, вы, грешники, друг на друга войной понесётесь! Ну вот скажите, с кем Зимняя Война идёт? С кем?!
Мысленно я все эти словеса уже кричал людям в лица, а въявь не мог и рта разлепить. Будто мне рот зашили белыми ледяными нитками. А разрезать нить некому.
И тут сзади нас, меня и простоволосой златовласой бабы, раздались автоматные очереди. Ружейные залпы. И гулко, смертно ухали пушки танков, наставленные на дома, на толпу; огонь шёл стеной, огонь имел голос, он мог выкрикивать отрывистые, жалящие осами, бормотные слова. У огня было свое Писание. И я понимал: мы все его прочитаем когда-нибудь, сие безжалостное, пламенное послание Господа Мiру.
Я смог только судорожно вдохнуть морозную сизую хмарь и тихо, хрипло вопросить косматую Блаженную:
- Значит ли это, Блаженная, что Зимняя Война началась и не остановится... и перельётся во Всемiрное Огнище?
Она покосилась на меня из-под бури волос зверьим пылающим глазом.
- А ты думаешь как? Огонь, раз запалённый, не умирает. Он бежит дальше по шнуру... по сухостою... по веткам и полным ржавой прошлогодней травы оврагам... пока великой пищи себе не найдёт - и не вспыхнет могуче, не займётся во весь окоём! Ты слышишь, выстрелы ни на миг не прервутся! Люди как озверели! Звери, слышишь, звери жалостливее, нежнее бывают: и к врагам, и к друзьям, и к тем, кто, ворча, визжа и блея, сбился в родную стаю!
- А ты... ты же можешь... крикни...
- А я? Что я? Кто - я! Что - я - могу?! Против оскалившего зубы Мiра...
И всё же она нашла в себе силы.
Вскинула руки. Я знал: она так любила стоять, как Матерь Оранта, с высоко поднятыми руками. Только сейчас я увидал: мешковина на её груди обгорела, будто она стояла во храме и свечку близко ко груди держала, и пламя свечи ей мешок опалило. А может, в неё кто злобный бросил обмотанный горящей паклей камень, зимний огненный снежок. И прямо в грудь попал, туда, где у всякого человека нательный крестик птичьей лапой прячется.
С высоко поднятыми руками, на снегу стояла она, моя женщина. Я не осознавал тогда, что она моя; зачем мне было это знать? Такое знание не прибавляет ни сил, ни счастья. Всяк человек свободен. Он - ничей. Богов. И каждый человек - народ. Блаженная сегодня и всегда была мой народ. Весь огромный народ вместился в неё. Все люди, что толклись и плакали, дрались и били друг друга на площади, молились и целовались - это была она. Единая. Неделимая.
Сквозь обгорелую рыболовную сеть холста просвечивало её тело. Я не испытывал вожделения; оно давно покинуло меня, ушло к другим людям, занятым трудом продолжения рода.
И моя женщина, очами светяся синее Оранты, ладонями сияя сильнее Херувима, воина Небесных Сил бесплотных, вздёрнув над головою руки, начала усмирять ссору, на всю воюющую площадь кричать о мире посреди суждённой Войны.
А вокруг бесились, с ума сходили огни, люди жадно возжигали новые костры, и среди костров текли, притекали к ней, всё к ней, а она врыта была в камень площади живым островом, и люди входили кораблями в заводи её стонов, в закатную слепящую воду её вскриков:
- Родные! Братья мои! Сестры мои! Мать моя и отец мой! Да всякий здесь моя мать и мой отец! Узнаю вас и во тьме, в кромешном волглом мраке!.. Очнитесь! Опомнитесь! Всё на свете повторяется: и любовь, и роды, и вражда, и войны, всё-всё! Да кто же вас под локоть толкает, кто оскаленные зубы вам ядом насыщает!.. Кричите: он, он первый начал!.. На первый-второй рассчитайсь! Эх, вы... Первенства вам надо! Гордыню подавай! А если на колени кинуться в сугроб перед врагом?.. И взять его руку, и губами к ней, тёплой, прижаться, и покаяться, и понять: вот, под тончайшей кожей в той руке, по перевитым жилам, кровь течёт, и кровь та и сердце ваше омывает, и душу исстрадавшуюся вашу! Слушай вашу кровь! Кровь - это Бог! Недаром Он завещал Его кровь из чаши пить, когда вы, безумцы, к Причастию подходите... Да, бой свят, коли он идёт - за святое! Бой - в небе гремит, даже если косточки воинов истлевают в земле угольной, хладной, сырой! А вы!.. За что вы врага убиваете? Знаете вы? А за что - разите друга?! Ведь у него, как и у вас, сердце - живое! Сердце - ваше! Сердце - Бога! Где сокровище твоё, там и сердце твоё!..
Блаженная передохнула, и я неотрывно глядел на седые, золотые пряди её косм, что крутил ополоумевший ветер, на широкий, чайкин разлет бровей, на скорбно сложенные губы, на раздутые ноздри: она, часто дыша, ими ловила площадной воздух: гарь, ветер, смрадную вонь горелой бумаги и дух раскалённого железа.
- Нет вам Божиего закона! Вам лишь бы убить! Замрите! Умрите! Воскресните... Это единственный путь! Когда вы сами будете умирать, вы поймёте, что значит другому ложиться под нож, что значит чужому оголить грудь, чтобы полоснули по ней огнём! Вражда... ненависть... месть... Остановитесь! На всю убивающую толпу - одно сердце! На весь воюющий народ - одна молитва о прощении! Вы же всё равно помиритесь! Всё равно! Но горько, горько плакать будете о погибших... о тех, кто воскреснет лишь на Страшном Суде! Не убивайте друг друга! Не убивайте! Не жгите великие костры в ночи. Не проклинайте друг друга. Обнимитесь, народы! В поцелуе слейся, свет!
Зачем она им это говорит. Они же не слышат.
Она замолчала внезапно и страшно, будто ей кто на горло петлю накинул и быстро затянул. Дышала ещё чаще, ещё безудержнее. Воздух ртом втягивала, глотала. Так пьют воду. Так, возжаждав смертно, едят снег.
Безумица. Бедная.
Я стоял совсем рядом, и потому я мог рассмотреть, как на морозе по-детски заплакала она: слёзы золотыми искрами катились по впалым голодным щекам, лицо чернело от копоти, от дыма, от боли, которою все болели, а она всю ту боль, я видел, безропотно, молча брала на себя, на узкие, тонкие плечи и грудь, в нежные дрожащие ладони, и тяжко ей приходилось, да не было у неё другого пути. И я видел, как глубоко, словно бы ребёнок после горького долгого плача, вздохнула она, и вот она вытолкнула эти слова, огненные, радостные, смиренные, тихие, навечные, родные:
- Любите... друг друга...
Неужели не внемлют? Никто и никогда?
Она снова выпустила этих Христовых, древних птиц в Мiръ, а никто не услышал её.
Люди все делали своё дело. Кто Адскую работу творил - бил, убивал друг друга; кто выпускал пули из ружья; кто подбрасывал хилые щепки и ветки в костёр, жалко, щемяще питая умирающий огонь; кто, стоя на коленях перед пламенем, громко рыдал, на молитву уже не было сил. Я понял: все эти люди ввергнуты во Ад, и я вместе с ними, и Блаженная моя. Адовой дорогой мы сегодня идём. А надо, сжав зубы, стиснув губы, пройти эту тропу из конца в конец. Иначе мы не поймём наше Время, а оно, уходя, прощаясь с нами, не поймёт нас. Накрытая горним светом, его призрачным колыханьем, стояла Юродивая, сверху вниз глядела на копошащихся, снующих по дну Ада людей. Растерянных. Одержимых гордыней. Мрачных и сильных. Нежных. Кающихся. Кричащих на всю площадь, а крика не слышно: его засыпает безмолвный, неотвратимый снег. Революция! Война! В небе наша мать Луна. А эта баба-пророчица - живая башня; с неё, с её верхушки люди всё сущее могли бы увидать, всю юдоль обвести её глазами, вбирающими радость и скорбь, поющими, сияющими. Но нет! Не хотели люди говорить с ней и видеть её. И не видели. Зря у костров до неба стояла она. Сама костёр, с воздетыми руками-огнями. Эй, жена, гори! Сгорай!
И тут я закинул башку, и глазами повёл, и ужаснулся: то ли видение, то ли явь - но небо горело над Юродивой, и надо мной горело, и над крышами, и над людьми, и над соборами, и над храмом Покрова, чьи главы в синие, лимонные да карминные тюрбаны горделиво обёрнуты были, и над площадными кострами, меж серых устрашающих танков целуясь и обнимаясь огнями; пылало всё живое и неживое, и я поражался тому, как может огонь царствовать везде и всюду, отныне и навсегда; полыхал Арбат, сыпала бешеными искрами Никольская узкая, тонкая улица-свеча, катилась нам под ноги горящая ярко-золотая река Тверской, дома в Столешниковом переулке трещали громче дров в осенней печи! Трубная площадь взлизывала огненными языками! Петровка дышала гибельным жаром! Страстной бульвар сгорал навсегда и, сгорая, кричал, воздымал обожжённые руки деревьев! И вот рядом, совсем рядом, обочь нас, грешных, огнём занялся по ободу весь сковородный, блинный круг великой Красной площади!
Так вот почему она Красная... я догадался...
Над нашими затылками, надо лбами, над нашими ликами, открытыми ветру и гибели, доверчивыми, беспомощными, голыми, полыхала площадь, стонала во пламени, и я как наново увидел родной, любимый храм Покрова - все луковичные главы его горели, каждая по-своему, одна синим огнём, цвета плаща Пресвятой Богородицы, другая золотым, инеем на морозе крест-накрест схваченным лимоном, третья красным китайским яблоком, четвёртая перламутровой, сетью со дна реки вытащенной и жестоко вскрытой перловицей, пятая бесилась, в разные стороны выбрасывая танцующие щупальца пламени, шестая тихо, нежной свечечкой сияла, испуская лесной брусничный свет; седьмая брызгала тысячью сумасшедших зелёных искр, будто кто молотом разбивал в выси крепкие ядра пустынных египетских изумрудов; восьмая улыбалась россыпями малины из Царского сада; девятая источала огнь прозрачный, алмазный, так снег сверкает под скоплениями звёзд в широком и страшном Белом Поле; десятая горела тёмным пламенем, мрачным, страстным, подземным, посмертным, а одиннадцатая глава собора, что возвышалась над всеми нами и заглядывала в очи Бога, пылала бездымно, чисто, ясно, восходила ночным Солнцем, и понял я - вот он, огонь Рая. Одиннадцатая соборная глава глядела прямо в Рай, его обоняла и осязала, зрела его, истаивая в непроглядных небесах от яркого счастья.
Барма сей храм возвёл; а где тот Барма сейчас?
Ах, волхв Барма, знаю я тебя, знаменитый ты зодчий, да пьяница горький, помню, как сидел я на площади в сугробе, скрючив ноги, обмотанный чугунными веригами, молясь тихо да беспрерывно, а ты ко мне с ватагою каменщиков твоих, нагло шатаясь, подбрёл! Вся братия в подпитии, только из кабака! Окинул меня пляшущим взором, зрачками перекрестил, а глоткой хрипло насмеялся, изглумился: "Экий же ты тут мохнатый юродивенький восседаешь, дух медвежачий!.. А ты грядущее умеешь ли предсказать?.. Што башкой мотаешь, я-то ведь знаю - старцы прозорливы!.." Друзья твои загудели, завертелись: "Да ну тя, Барма, пошто тебе твоё завтра ведать, Бог-то так положил, што никто, слышишь, никто не знает часа своего!.. Не знаешь и ты!.." Ты с локтей цепкие пальцы мужиков зло стряхнул. Присел на снег рядышком со мной. Меня за окровавленную, изгрызенную руку взял. Его рука горячо пылала, а моя, обляпанная запекшейся кровью, холодом жгла. Смотрели мы друг на друга. Вглубь зраков наших безотрывно глядели. Насквозь меня глазами ты, Барма хмельной, просверливал. А потом тихо, тише золотого карася, в чёрной озерной воде меж водорослей плывущего, вопросил: "Ну... што зришь... балакай давай..." И вздохнул я, и выдохнул зиму из себя, и опять вдохнул - будущую Войну.
...вижу Зимнюю Войну. Вижу, строишь здесь, на Красной площади, красный Божий храм. Одиннадцать куполов. Многоглавие это полыхает, сверкает, сыплет искрами. Камень, знаешь, тоже может гореть. Излучать свет. Бить огнём. Ударять в бубен неба. Бог везде. В камне, в реке, среди звёзд. Вот ты пьяница, а все укажешь, что и как, и каменщики расстараются, и купола храма твоего, дитятки возлюбленного, воссияют ярче Солнца, мощнее Красной Луны - густо-синяя, морская, радужная, ханским тюрбаном богато наверченная, златая, инда заморский заиндевелый лимон, сияющая мельчайшей чешуей на хвосте быстрого, на заре в реке играющего леща, и красно-медная, покрытая иззеленью старых времен, и ярчайше-алая, закатной алостью побеждающая цвет людской и звериной кровушки, и болотной зеленью, водорослевым малахитом вниз, в Адово задыханье, затягивающая, всасывающая в невозвратный омут, и усыпанная звёздным ошалелым хороводом, и облитая медовой лунной сладостью, и слепящая вспыхнувшими, растопыренными дерзко, оранжевыми петушиными перьями - да, все главы засверкают, и ты закроешь глаза от их сияния, как от Солнца, и воскликнешь: никогда я боле не создам такой великой красоты! Это же, людие, Рай, Рай я со товарищи возвёл на грешной земле! И услышит те слова твои наш Царь. И выйдет из терема навстречу тебе. И встанет, свет тебе заслонив и красоту твою Райскую грузным телом закрыв, перед ликом твоим. Процедит сквозь зубы: что сказал, смерд, повтори! И повторишь ты, ибо отроду горд ты и в сугроб от Царского гнева прятаться не будешь. И бросит тебе в лицо Царь: никогда боле не создашь?.. так не создай никогда! И набросятся на тебя, пьянчужка великий, Царёвы слуги, схватят под локотки, на снег повалят, выхватят кинжалы да живенько, скалясь и кряхтя, невзирая на лютые крики твои, тебе подо лбом глаза - выколют. И на снег бросят.
И собаки, собаки глаза твои съедят.
Захохотал Барма тут, от смеха аж заколыхался весь. "Што языком-то вяжешь!.. отзынь, юрод, отлепись!.." Оттолкнул Барма меня тогда, и свалился я в снег, а ватага подбежала да сапогами, валенками в бока, под рёбра да в живот меня лупила. Потом утекли. Растворились во снежных вихрях. Я провожал их взглядом. Взгляд мой бежал за ними собакой, лязгал по-волчиному зубами, вился пламенем головни горящей, из печи выхваченной.
Вижу тебя теперь, Барма. Сидишь на снежочке, равно как и я же. Да не на Красной площади, а близ иного Кремля, за спиной твоей косогор, дальше крутояр, а дальше - длинное, из косы небесной боярышни истекшее, лентие сине-серебристой, многорыбной реки. Изобильна земля наша! Множество зверья в лесах, густо рыбы в водоёмах! Бабы хлебы пекут, оладьи жарят! Яблоки да вишни самоцветами наземь по осени валятся! Всё тебя, калека, не бойся, сердобольные бабы прокормят. Слепенькому милостыньку подадут. С голоду не помрёшь! Мы - нашим людом - живы!
А теперь, уж не узришь, храм Покрова жарко горит. Вопит огнём! Голосит, поёт, волчьим пламенем воет! Огненные длани к народу тянет! Спаси, мол, народ, сохрани! А что народ может? Что - мы - можем, если судьба пристигнет?!
На громадной, растопыренной площадной ладони стояла эта простоволосая баба, простирала голые руки к людям, готовым к Войне, и рады они были за правду и за Царя погибнуть, за небо родное, за землю родимую, а за что же ещё воевать, Господи, и рад был я вместе со всеми, в воинском строю, уйти туда, где ждали гибель и дым, да во имя Времени, что ребёночком родится и будет взахлёб, радостно и яростно жить, когда нас не станет, - а баба всё стояла, и всё кричала, и голос её нёсся над толпой, и широко подо лбом, как у коровы, стоявшие очи её излучали безумье любви, блестели слезами любви! Всё больше становилась она, живая и смертная, вечной любовью, ибо видела - не удастся ей остановить смерть, и уже всё равно, кто положил им, смерти и Войне, здесь быть, ведь Бог распят и воскрес и улетел на небеса, а мы-то тут, на пылающей площади, среди танков и гаубиц, по колено в крови, по колено в снегу! Глядела баба на людей зверино раскосыми глазами, а потом глядела на меня. Вселенский огонь шёл стеной.
Вот оно, Всесожжение. Вот Всемiрный Пожар. Вот он. Я вижу его.
Гул взвихрился, поднялся бешеной спиралью вверх, к ночному небу, ввинтился в россыпи звёзд. Звёзды, сёстры наши, летели пулями, свистели. Косые глаза женщины наблюдали конец света, царство огня. Жар усиливался. Я не мог дышать. Огонь опалял ресницы и брови. Шкура на плечах моих затлела. Босая баба сделала шаг ко мне. Быстро, крепко обняла меня. Будто прощалась со мной.
- Господь храни тебя. Ты под крылом. Бедный, милый блаженненький. Шкура-то на тебе медвежья. Сын ты медвежий, я знаю. Грамоте умеешь? Начирикай пёрышком гусиным, что здесь видал-слыхал. Огнь я успокою. Я слово знаю. Огнь меня любит. Он меня слышит. А ты? Ты слышишь меня?
Я задыхался в её внезапных объятиях.
- Да.
- Любимая земля. Родина. Погибнуть не должна. Не может. Запомни. Запиши. Кровью запиши, коли чернило не добудешь. Как на Войне будут умирать родные люди, помни. Мiръ не казнят на плахе. Мiръ выживет. Ты его спасёшь. Царь наш его спасёт. Да что там Царь! Нынче один Царь, завтра другой! Народ. Народ его спасёт. Помни! Наш народ. И больше никто. Ты и есть народ. Я народ. Спаси Мiръ. Ты сможешь. Ты юрод. Лишь юроды, во все времена, спасали Мiръ. Нарисуй внутри себя сначала гибель Мiра, а потом его спасение. Так и будет.
Я сцепил худые голые мои руки на её спине, страшно горячей под мешковиной, что нещадно, мощно рвал северный ветер.
- А я вдруг не смогу!..
Она все крепче, бесповоротней стискивала вокруг меня руки. Прижимала меня к себе, будто я и вправду был дитёнок несмышленый.
- Сможешь. Я вижу. Я всё вижу.
И я всё крепче, безумней сжимал её в кольце замёрзших рук моих.
- А я почему же не вижу?!
Я почувствовал её улыбку щекой, скулой, горячей шеей.
- Ты и не должен. Ибо ты делатель. Ты просто делай, и всё. Делай и молись. Юродивое дело угодно Богу.
Она разжала руки так быстро, я и не понял, как, когда.
Толкнула меня в голую грудь.
Шкура разошлась на груди, обнажился крест наперсный мой.
И она тоже рванула холстину; мелькнули молнией ключицы; высверкнул на морозе ярко-синий нательный крестик, бирюзовый. Бирюза саянская, наша, таёжная. Меня на морозе жаром обдало. Я понял, кого напомнила она мне, её коровьи, широко стоящие под высоким лбом глаза цвета неба в солнечный зимний полдень.
Мою мать. Марину.
- Ты...
Она взяла в пальцы бирюзовый крестильный крест, другою рукой схватила мой, приблизилась, крестики переплела. Мохнатый верёвочный гайтан и мою тяжёлую медную цепь. Тесно друг к другу прижала. Сжала в кулаке. Я снова слышал её горячее дыхание. От неё исходил запах спелых яблок и чёрной смородины.
- Вот. Видишь. Да. Так. Это наша клятва. Наше соединение. Крестами - целуемся!
Разорвала переплетённые кресты. Ветер ударял её в голую грудь. Бирюза ярко светилась на смуглом обветренном, розовеющем на морозе теле крупной, бешеной ночной звездой.
- Уходи!
- А ты?! Пожар идёт! Сгоришь! Вместе сгорим!
Она отступила на шаг. Её босые ноги прожгли в снегу тёмные зверьи следы.
- Останусь тут. Усмирю огонь. Если вдруг что, не страшись. Улечу. У меня крылья. Там, за спиной.
- Где...
- Ничего не боюсь. Смерть мою узнаю в лицо. А пока она не пришла - я бессмертна. Я бессмертна, слышишь?! Пуля - моя. Огонь - мой. Нож и петля - мои. Голод - мой. Весь на свете смертный ужас - мой. И весь праздник - мой. И ты - мой. Ты моя жизнь. Мы с тобой ночным небом повенчаны.
Босая повернулась, ветер взвил её густые перепутанные волосы пшеничным флагом, глаза сверкнули васильками, и я увидел за её плечами, за лопатками, два прозрачных крыла, они дрожали, тихонько шевелились, перья по ним струились, вспыхивали и гасли, светились и истончались и опять небесной волной набегали, и я закрыл себе рот ладонью, глядел на крылья, и шёпот сам выходил из меня и сам уходил далёко в горящее ночное поднебесье.
- Ангелица...
Она опять улыбнулась, и теперь я видел улыбку её.
Это была не улыбка, а Солнце во славе лучей. Лицо её воссияло, я видел такое светило однажды в моем Раю. Свет её лица катился в небесах и по земле, и я благословлял его безмолвно и радовался, что протянула она мне улыбку свою, как хлеб голодному.
НА ЛИТIИ СТИХИРЫ, ГЛАСЪ ПЕРВЫЙ:
Иже по благодати Божіи, даннѣй ти, преблаженне Василіе, яко премудрый художникъ, основніе положивъ вѣру, добродѣтельми на гору безстрастія возшелъ еси, мракъ, и мглу, и бурю отразивъ, премудростію вышнею весь облеклся еси, на высоту возшедъ, къ свѣту преложился еси. И въ народѣ живый, яко въ столпѣ пребывая, и ничтоже восхотѣвъ міра сего, ниже на тѣлѣ твоемъ что отъ тлѣнныхъ носивъ, Ангелы удивилъ еси и человѣки ужасилъ еси, бѣсы посрамилъ еси. И нынѣ во свѣтѣ пребывая со святыми Ангелы, моли спастися душамъ нашимъ.

ФРЕСКА ВТОРАЯ. ЦАРСКИЙ ПИР
Вся свобода будет тогда, когда будет всё равно, жить или не жить.
Ф. М. Достоевский, "Бесы"
(РИСУНОК В КНИГЕ ЖИЗНИ:
ГОРЯЩИЙ СВЕТИЛЬНИК НА СТОЛЕ, СРЕДИ ИЗОБИЛЬНОЙ СНЕДИ)
ПРОТИВОСТОЯНИЕ
Ну что, Красная моя Луна. Висишь надо мной, над моею бедной головой. Патлат я и кудлат, а всё туда же. Гляди, Красная Луна, как иду по московским сугробам, по мостовым и обочь широких дорог, по кочкам и буеракам, проваливаюсь в ямы. Плох тот путник, что в яму не проваливался, а всё по ровному-ровнёхонькому гордо шёл. И Москва моя нынче не такая, так тогда была, ещё вчера. Непроглядна чернота за спиной! В заспинное Времечко не всякому дано оглянуться. Взгляд там утопает, ум плавится, как железо в кузне.
Иду по Москве босиком. Кругом новьё, а я всё такой же. Иду босиком, и железо, мраморное подземье и оголтелые вопли молоди ложатся мне под ноги, тычутся под руки, под грудь. Благословенья просят? Многого хочешь, юрод! Не понял, как изменился Мiръ! И ты его обратно не перелепишь! Не сотворишь, каким он был и каким ты его любил!
Ангелица прилетела: к беде.
Хвостатая звезда посреди неба бесится - к горюшку народному.
Да ты тут ещё, Красная Луна, в синем дёгте туч торчишь.
Вся облита кровью, залита кровушкой твоя сковорода. Нет ничего ужасней. Задеру башку да гляжу тебе в рожу. Круглый красный лик. Глаза, нос и рот. Страх глядеть. А ещё страшней догадаться: тебя, тебя сей лик отражает.
Знаешь что, Луненька-Луна алая? К небу приговорённая, зарёй казнимая? Я скумекал. То не ты на меня из поднебесья глядишь. То Диавол на меня глядит. Жив Диавол на свете, да ведь и Бог жив. Оба - живы. И оба - нами - на земле - друг с другом - сражаются.
Диавол убивает тех, кто хохочет над ним.
Я шёл и шёл туда, куда ходить не надо мне было, да нельзя было идти никому: в Кремль. Переступать порог власти разрешено только во сне. Да то простому смертному. А я не прост. Нет! Не прост! Я же юрод. Мне - поперёд всякого человека на земле - дозволено. Ибо я, Юродивый, жил прежде всякой наималейшей жизнёшки на земле; я таился в камнях, по ним потом поползут гибкие гады; плескался в солёной тёплой воде, лишь завтра в ней поплывут, заискрятся амёбы; глядел со дна морского, где зарываться в древний песок, засыпая, станут трилобиты. Почему юродство впереди всей жизни бежало? Только ли потому, что юрод не просто зерцало Бога, а он себя пред Богом - никчёмным зеркалом разбивает?
Тайну сию никто мне не открыл. Я её и сам знаю. Изначально. В крови моей течёт-струится.
Вот подошёл я, пройдя все улицы бетонные и створы железные, к земляно-красной кирпичной стене. Кремль! Он. Знавал тут каждую гордую башню. Постоял немного. Подышал ветром. Надо бы войти через Боровицкие врата. Открыты! Люди могут тут гулять, меж собой о том, о сём балакать. Людей наблюдает Царская охрана: люди добрые, а торчат средь них волчьей ягодой и злые. Хищь везде. Всюду тьма. Не избыть.
Подходит ко мне страж. Погоны на плечах. Рот сжат в тонкую нить. Каменный лик; неужто воздух вдохнёт и слово изронит?
- Кто ты есть, босяк?
Я вздохнул шумно. Улыбнулся во весь рот, широко.
- Василий!
- Что значит Василий? Так просто - Василий?!
- Блаженный я Христа ради!
Страж онемел. Глядел на меня, на шкуру на плечах моих тёмную, медвежью, с прядями липкими, засохшими, на морозе инеем осолёнными, на мои босые, в цыпках, ноги. Потом голову поднял и сердито засмотрел мне в глаза.
- Почему у тебя зрачки красные? Как у зверя? А?!
Улыбка не сбегала с лица моего.
- Потому что я нынче на небосводе зрел Красную Луну.
- Ишь! Луну! Красную! А сейчас-то белый день!
Да, денёк был весёленький, лучистый, сплошной снежный праздник, снежные городки стояли впереди и сзади, один такой городок я безжалостно, нагло перешёл вброд, порушил его голыми ногами, снеговые башни коленями да локтями расшвырял, а городишко тот, видать, детки возвели, да повторенье точь-в-точь подлинного Кремля, вот башня Набатная, вот Боровицкая, вот Кутафья, вот Спасская. Из снега слеплены. Я разрушил, смеясь, негодяй, генерал уличный, а и сам по весне снежный Кремль растаял бы.
Синева льётся, лбы и плечи заливает! Небо ножом Солнца вскрыли, и синяя густая кровь хлещет! Прямо на наши затылки, темечки! Глаза в синь вонзаешь - а они в ней тонут, вязнут! Вмешивает синь нас, живых, в себя!
В Богородицын плащ - да чтоб не дышали - как младенчиков, заворачивает...
- Да я сквозь облака, солдат, зрю!
- Я не солдат! Я офицер!
- Да всё одно солдат! На Войне мы все солдаты!
- А ты, Василий, видать, не солдат! А бродяга нахальный в шкуре зальделой! Куда стопы направляешь?
- К Царю!
Страж сложил губы трубочкой и изумлённо присвистнул.
- Фью-у-у-у-у-у! Эка хватил! К Царю! А выше не метил? К Богу, к примеру?!
Я всё улыбался, и щёки мои от длинной улыбки сложились на морозе напряжённой, застылой гармошкой.
- Так я и так уже у Бога за пазухой! И там сижу, и на тебя нынче оттуда - гляжу!
- Экий безумец! - Я видел, мое юродство начинало стражу нравиться; он решил поразвлечься. - А ты, безумец записной, что умеешь делать? Фокусы Царю показывать будешь? Или что получше?
Я решил говорить правду.
- Я вижу будущее, солдат. Расскажу Царю нашему грядущее. Близкое и далёкое.
- Пророк, что ли?!..
Он удивлялся, злился, сомневался, бегал по снегу глазами, соображая.
- Ты сказал.
- Ты сказал, ты сказал!.. Разговорчики - отставить!.. Ах, чёрт, а где эта твоя Красная Луна?.. Небо - синь, аж глаза выжжет... а ты - Луна, Луна...
Пока он шнырял зрачками уже не по земле, а по слепящей небесной голубизне, я радостно сел в грязный снег. Скрючил ноги. Подсунул под себя ступни, чтобы собой их согреть. Предсказанья посыпались из меня, будто я был снеговое облако и щедро сыпал серебряным, сонным снегом будущего. Я тянул руки к громадной, уходящей далеко и высоко в небо белой колокольне, церковные окна со скрипом и лязгом отворялись, из них вырывалось древнее красное пламя; я издали успокоительно, нежно дул на него, как на великанскую свечу, и красный огонь тут же угасал.
- А мне, мне-то, юрод, попророчествуй хоть чуток!.. Мне-то хоть какую тайнишку открой!..
Я видел, страж хочет получить от меня доказательство могущества моего.
А может, он просто - хочет - будущее - узнать?..
- Изволь! Поведаю! Великий мусульманский хан вторгнется в пределы Руси. Зимняя Война разгорится, заполыхает на всю стонущую Русь и на все страны ближнего Западного Торга. Запорожская Сечь вся поляжет от незримой отравы, и молчать будет выжженная невидимым ядом широкая земля, плодоносить не будет, и тот, кто появится там, мимохожий или с целью вожделенной туда стремящийся, потеряет здоровье, от боли задохнётся, упадёт на землю, рёбра будут вздыматься, как у лошади, павшей в бою. А после и жизнь утратит. Восточный каган на крылатой железной птице прилетит, скалясь, вторгнется в русскую исконную святость, станет зверствовать, животы разрезать крестом, глотки рассекать, лить в рот расплавленный свинец, и люди, таково мучимые, будут даже крика боли лишены, ибо перейдён будет порог боли, а распахнутся двери небытия. Нет, не Сулхан-Гирей! Не Махмет-Гирей! Не Субудай! Инакое имя будет носить! А вот наш Царь как воцарился - так тут я и явился пред ним, Блаженный Василий, в поте и в мыле! Вот, видишь, крючу пальцы обмороженные, пою песни настороженные! Пусти меня, солдат! Пусти к Царю! А иначе я сам, мыслью да волей, врата отворю!
Я видел: страж не знает, что и сказать. Рука его к кобуре на боку потянулась.
Хочет покончить со мной разом. Хочет пристрелить. Чтобы не поднял я, смутьян, великую бучу в людьми и Богом хранимом дворце.
Я упал на землю. На живот. Растянулся на снегу. Раскинул руки и ноги. Превратился в живую голую звезду на покрове истоптанного людьми и лошадьми, изрезанного железными повозками наста. Замер. Застыл и страж. Я услышал щёлк передёрнутого затвора. Стал громко, горько, восклицая жалобно, плакать, стал молитвы читать, что знал и что не знал, и те, что не знал, а сразу, вновь я рождал, огнём на губах горели, - а люди, мимо идущие, медленно плывущие, задыхаясь, бегущие, завидев и заслышав меня, дивясь и страшась, быстро крестились и бормотали: ох, Юродивый в Кремль явился, что-то, знать, будет, беда-горе; большое горе, видать, воспляшет среди нас, и чёрная беда устроит Адский праздник на Москве.
И, лёжа на снегу, распластанный, стреляй не хочу, я так плёл языком:
- Беда, да, беда пробьёт! Куранты захлебнутся!.. Огонь неистовый нахлынет с небес! И всё-превсё в том пламени сгорит! Храм Воздвиженья воспылает первым! Китай-город языками безбрежного костра в небеса взовьётся! И Кремль, Кремль ведь тоже заполыхает! Так пылать будет - в иных странах узрят! Дворцы Великих Князей обратятся в жжёную пыль, в гаревой прах. Медь расплавится и рекою польётся. Людям жидкое железо ноги обнимет, и, стеная, упадут люди во Ад на земле. Вопли скрестятся над головами, слившись в единый вопль. Кулаки взметнутся к небу, сжимаясь в единый кулак. Многие проклятья повиснут чёрным вороньём под пологом грозы, став единым проклятьем! И я, я, Василий Юродивый, вам прореку тогда: не кричите, а веруйте, маловерные! Лики закиньте к небесам! Руки обожжённые воздымите! Видите там, в зените, красную стрелу?! Кровавая звезда хвостатая! Вестница боли! Летит ко Красной Луне! Прямо во всевидящий глаз ей метит! То знаменье я прочитал у Бога! Вам, слабые духом, его изъяснил! Имеющий уши да слышит!
Я поднял лицо от грязных потёков талого снега. Я снег прожёг телом моим и сердцем моим.
Я небо прожёг хриплым криком моим.
И люди стояли вокруг меня, грудились, сбивались в кучи, как больные пчёлы, кто крестился, кто смеялся, кто проклинал, кто плакал, но никто не уходил с заметённой снегом кремлевской дороги, а всё больше народу подходило, и слушали меня, и переставали блажить, и затихали, и молчали, и, безмолвно плача, обращались в слух.
***
Почему я здесь?
Почему я лежу на снегу, а вокруг меня удивлённая, исхлёстанная будущим горем живая толпа, и детей матери за руку держат, ещё не обожжённых Зимней Войной, а где-то уже гибнут, сгорают дети в её беспредельном, жадном огне; и старики стоят молча, изморщивая видавшие виды, сходные с корой дуба лица, а ведь там, далеко, гибнут старцы в великом пламени злобном, глядя на утраченный кров, на родимый дом, лежащий в головнях и руинах.
- Ты! Пророк! Что брешешь!
- Заместо ужаса - радость бы людям, дурак, подарил!
Я встал на колени. Потом поднялся с колен.
Потом поднял над толпой костлявые, голые руки мои.
- Я юродствую ради вас! Пророчу ради вас! Чтобы прозрели вы! Чтобы я в вас откликнулся, через года, через тысячи лет! Вам ваше время родное! А через меня, как через линзу живую, узрите все времена, и они вам станут - родными! Земная ось повернётся...
Рядом с моею босой ногой всплыл смоляной сом чужого сапога.
- Ну вот что. - Хриплый голос стража звучал мрачным покоем, погребальным медным звоном. - Отведу я тебя, так и быть, к Царю. Народ вот соврать не даст, отведу. - Он обвёл рукою в кожаной перчатке людей, что толклись вокруг меня, беззвучно хохотали, как в цирке, утирали ладонями слёзы. - Не всё тебе тут, на снегу Кремля, ручонками махать, толпу потешать. Давай распотешь и Царя. Он у нас любит необычное. Кто тебя знает, может быть, дар у тебя. Может, ты и вправду пророк! Распознать тебя надо! Раскусить! Как орех, разгрызть! Может, и правда пользу принесёшь! Царю! Стране! Народу!
Он выкрикнул: народу!.. - и народ, услыхав своё имя, стал пятиться, удаляться, расходиться, растекаться, исчезать на солнечных тропах, за тенями деревьев, в оснежённых кустах и подземных переходах, в закоулках и памятниках, в надгробиях, куполах и небесах Кремля.
***
Страж тихо и строго, осторожно ступая по снегу в тяжёлых, натертых ваксой сапогах, шёл впереди. Василий брёл сзади. Время от времени страж оглядывался, и тогда Василий замедлял шаг, а то и останавливался, и, задрав бороду, осьминогом качавшуюся в толще зимнего ветра, вопрошал:
- Думаешь, струшу, сбегу?
Страж махал рукой и опять шёл вперед. Снег хрустел сухим хворостом, вороны важно перелетали с ветки на ветку, деревья бешено, просяще сучили голыми ветвями, воробьи хлебными крошками рассыпались под ногами. Сапоги и босые ноги всё шагали и шагали, всё вперёд и вперёд.
Василий взялся рукой за грудь слева. Постоял. Сердце билось слишком громко, тяжко.
Страж обернулся.
- Ну, что застыл?
Подкрался к Василию осторожно, неслышней кошки. Лишь хрипенье снега под пятой выдавало шаг. Василий смотрел вниз, себе на голые ступни, военному на сапоги.
- Отдышусь.
- Плохо тебе?
- Одни хлопоты тебе со мной, солдат.
- Офицер я! Лейтенант!
- Видел ли ты, солдат, Красную Луну?
- Что-о-о-о?! Ты опять?!
- Погляди нынче ночью в окно. Спать не ложись. Изучай небо. Небо - это Книга Жизни. Важное там можешь прочитать. Что было, что есть и что будет.
- А ты что, посвящённый? Всезнайка?! То-то голяком по морозцу шастаешь! Видать, знаешь, как добиться славы и денег! И одёжки тепленькой, шкур богатых, башмаков заморских! И как в железной повозке роскошной по Москве разъезжать! Что встал?! Ногами шевели! К Царю, пред светлые его очи тебя приведу! На потеху! На развлечение! Шуруй!
Страж зашёл Василию за спину и резко, сильно толкнул его между лопаток. Василий еле устоял на ногах. Побрёл, загребая снег ногами-костылями. За ним, по следу его, россыпями чёрственьких корок ржаных скакали весёлые воробьи.
Теперь Василий вышагивал впереди, а офицер ступал сзади, ворчал:
- Красная, брешешь, Луна!.. Ну, красная, пусть красная, а какая, хрен, разница, просто высоко не выкатывается в небеса, а низко ползёт, красная черепаха... мерцает сквозь многослойный пирог воздушный... у меня по астрономии двойка была, так я ж ничего и не смыслю в небесных телах... в лучах света, и как они там, чёрт, скрещиваются и разбегаются... рефракция, туман, вспышка, двойные звёзды, пульсары, проклятье, кольца Сатурна... лунные моря-океаны... чёрт разберёт все эти премудрости... А чтобы Луна - Кровавая?.. да нет, такого видом не видывали, слыхом не слыхивали...
Офицер бормотал несвязно, как хмельной, только из трактира, мужик. Василий шёл. Люди, гуляющие в заснеженных садах Кремля, изумлённо, беспокойно оглядывались на странную парочку: кривоногого военного в мундире, при наградах, в расстёгнутом плаще, и на босого сумасшедшего, в накинутой на плечи медвежьей шкуре, а под шкурой голые телеса, глаза горят ярче свечей во храме, руки страшны и костлявы, из-под меховины чёрными чудовищными гусеницами ползут чугунные вериги, обнимают грудь и живот безумца: во сне приснится - испугаешься, на кровати привскочишь и благим матом заорёшь.
Я знаю, нельзя тянуть время. Надо не ползти, не идти, а бежать. Надо прийти к тому, кто тебя не ждёт. Надо предстать перед ним смело, будто ты - это он, поменять вас местами. И разинуть рот, и предупредить того, кто не ждал тебя ни в этой жизни, ни в будущей, о Великом Ужасе. Предупреждён - значит вооружён.
Последний снег гляделся, как первый. Давеча Солнце припекло, он подтаял, пополз, зажурчал, а чуть мороз усилился - землю жестоко схватило льдом, а с небес опять повалила на глазах густеющая белизна. Темнело быстро. Страж и Василий подошли к терему. Высокое крыльцо, каменные столбы с искусной резьбой: тяжёлые виноградные гроздья, разлапистые листья. Василию показалось - в холодном воздухе запахло виноградом, пустыней, солью моря, молодым вином. Он втянул ветер ртом и носом и закрыл глаза. Так стоял.
- Что замер! Ступай!
Оба подошли к белокаменному крыльцу. По ступеням вразвалку спустился охранник. На плече у него, на расшитом алыми шёлковыми звёздами кафтане, сидел сокол, поводил глазом, прищёлкивал крючковатым клювом.
- Кто такие?
- К Царю-батюшке пожаловали!
Охранник сощурил прозрачно-серые, светло-стальные глаза. Прищуром расстрелял пришедших.
- Вон отсюда! Отдыхает Царь!
Страж выпрямил спину, сдвинул ноги в сапогах. Погоны горели красным и синим светом. Тулья фуражки заиндевела и отсвечивала серебряной парчой.
- Это особый человек! Не человек, а зверь!
- Я уж вижу, - хохотнул сокольничий. - Зверь он с какой стороны? С переду или с заду? Ах-ха!..
- Он всё чует. Нос сунет во времена - и времена мыслью проницает! Такой дотошный! Сам про себя бает: пророк, мол, я. Ну, я ему на слово поверил! И ты поверь! Если человеку ни во что не верить, как же жить на свете!
Сокольничий сошёл с крыльца, переваливаясь уткой с боку на бок, подкатился к Василию. Василий смотрел вдаль. Через горы Времени. Бороду его радостно трепал и рвал ветер.
- Какой Царь, ночь уж скоро...
Василий медленно повернул к боярину голову. Пронзил взглядом. Сокольничий залепетал путано, как спросонья, как пьяный.
- Темнеет... небо-то чернеет ваксой... на клочья рвётся... неистовое небо, яростное, наше... Не отдадим... умрём за него... Чёрные лоскутья... ах, бородень у тебя знатная, бродяга... ветер как рвёт её, и сейчас всю вырвет... а ты, брат, видал Красную Луну?.. Я - сегодня - видал... она вон там стояла... глаз круглый, рыбий, громадный... глаз человечий, штыком выкололи, на снег швырнули... а получилось - в зенит... И мёртвым глазом, кровищей залитым, на нас на всех глядит... глядит... А глазница кровавая пуста... а где она?.. где тот череп, лик обесславленный?.. где...
Боярин молодой бессильно прикрыл глаза, в синих сумерках брык - и свалился в снег ничком. Сокол вспорхнул с его плеча, сделал над ним круг и взмыл, полетел радостно и ширококрыло в сумрачный, рваный ветром траур холодного неба.
Василий переступил через бездвижное тело сокольничего, офицер обошёл его, как кострище, оба поднялись по ступеням крыльца, и, прежде чем толкнуть кулаком дверь в Царский белокирпичный терем, обернулись назад и посмотрели на всё, что оставляли позади: никогда боле не будет такого дня, и такого вечера, и такого широкого, на пол-Мiра снега, белой зальделой реки, гуляющих и воркующих людей-голубков, то под ручку идущих, то в поцелуе замерших, а после ласки хохочущих, и такого Царь-Колокола, и такой Царь-Пушки, и таких погасших, меж деревьев замёрзших гирлянд, и таких домов-сундуков, и таких скворешен-шкатулок, и таких кремлёвских котов, с зелёными круглыми глазами и железными когтями, сидящих на Солнце важными сфинксами, и их, таких, точно таких, как сегодня, здесь и сейчас, больше не будет, не будет никогда.
И посмотрели на них они сами из уходящего дня.
И посмотрели они на самих себя, уходящих в ночь.
И переступили порог Царских палат.
***
По лестнице поднимались. Слуги Царя пялились на Василия, он шлёпал босыми ногами по драгоценному цветному паркету, и с его ног стекали грязь и влага, пачкая отполированные сандаловые плашки.
- Кого за собой тащишь?!
- Тс-с-с... он объясняет небесные знаки...
- Такие людишки являются на землю раз в тысячу лет!..
Это Красная Луна восходит раз в тысячу лет. И восходит она, и начинается голод повсеместный. И гибнут люди от мора всеобщего. И землетряс объемлет горы и долы, и нет спасения от гибели всеохватной. А я что. Я просто служу Тебе, Господи. Синему, звёздами расшитому небу твоему. Невестиному снегу Твоему. А боле и ничему.
А Царь? Зачем тут Царь?
- Доложите о нас!
- А как доложить?
- Скажите, офицер из кремлёвского квадрата эс-сорок-пять сумасшедшего привел!
- Сумасшедшего - не к Царю! Безумцев - в больницу! В своем ли ты сам уме, офицер!
- Да говорю вам, это необычный дурень! Редкий экземпляр! Он... он...
Почему они все тут, вся прислужная толпа, внутри жарко натопленного терема, в зимних одеждах? В шубах, тулупах? Шапки меховые, ушанки, треухи под подбородком лентами завязаны. И все напуганно в окна глядят.
- Вон, вон она! Красная Луна!
Я остановлю его. Остановлю Зимнюю Войну. Его генералы не поведут войска туда, на Запад, к морю, к россыпям винограда в лощинах. Я оборву его приказ, как нить.
Василий, стоя посреди огромного зала, закрыл глаза. Вокруг него по сводам потолка, по широким льдинам-стенам бежали росписи. Завивались в кольца, расходились кругами цветастых ярких хороводов: вот девка - красная смородина, вот баба-малина, вот три бабы-коровы, а вот тигрица из-за ёлки выходит, и с ней тигрятки выпрыгивают, а вот... вот...
Медведица. Моя медведица. Ведающая и мёд, и яд. Смертью - меня - помнящая. И я её кровью - помню. Она могла быть моею матерью. А моя мать её убила. Когда убиваешь живое, что, кто рождается взамен?
Он слышал тряску земли, грохот и гудение поездов, напролом несущихся под землёй. Никогда они не вырвутся на свет. Стоял, задыхаясь. Меж туч летел красный глаз, выхватывал из жизни всё, что надлежало убить, из смерти всё, что жить приговорили запоздалым приказом. Он видел железные повозки, тысячами несшиеся по городу взад, вперёд, наискосок, они катились и сшибались, и из их искорёженного нутра охающие и ахающие люди вытаскивали окровавленных собратьев, и лица, залитые кровью, повторяли лик Красной Луны. Он зрел, люди перебегали дорогу в неположенных местах, в запрещённых, и толпа заходилась в крике, и железные повозки испускали гудки, похожие на истерические вопли. Безумен град его древний! Да не безумней его самого!
- Армагеддон имя тебе...
Так она звала его. Она. Блаженная.
Я тоже так теперь звать его буду.
Вот и окрестили железного младенца.
Красная Луна взошла над высокой красной башней; её хорошо было видно в огромное стрельчатое окно терема. Все, кто толпился в зале в шубах и тулупах, протянули к Луне руки и повалились на пол. На колени, на животы. Ползли. Руки складывали просящей лодочкой. Орали недуром.
- Царь наш! Царь, батюшка великий! Владыка Полумiра! Славься! Господь тебя спаси и сохрани! Славься и царствуй и ныне, и присно, и во веки веков, аминь!
Дверь в стене, сплошь покрытая росписью густой травы и изобильных полевых цветов, открылась, чуть скрипнула, потом издала короткий сдавленный деревянный стон, и порог переступил ногой, обутой в изящный красный сафьянный сапог с узким, будто живым и нюхающим пространство носом, расшитым жемчугом и сердоликами, человек с бородатым-усатым надменным ликом, и другую ногу в другом богатом сапоге через порог презрительно перенёс, и себя всего через порог перевалил, и пред ним тут же все ковром полегли, живым, пугающимся и восторгающимся, дрожащим, потным ковром из плеч, спин, рук, затылков и вздрагивающих бёдер, и торчащих пяток, и гнущихся в раже поклонения шей.
- Царствуй и сияй!
И только Василий один стоял пожарной каланчой, возвышался надо всеми, на колени не валился, на пузо не ложился, стоял молча и печально, лоб его морщинами пошёл, будто после отлива прибрежный мелкий песок, и сквозняк в палатах Царских не гулял, а незримый и нечувствуемый ветер Васильевы космы вздувал и трепал, и слишком коричневой дубовой корой гляделось его угрюмое, со сжатыми в острое лезвие губами, иссечённое долгим страданием лицо, и слишком глубоко прорезал нож Времени его обветренные, избитые дубиной мороза кроваво-ржавые щеки.
***
Люди всё лежали на полу, а Царь увидал стоящего Василия, впился в него взглядом - да взгляд из него так и не вынул.
- Ты безумец? Мне про тебя сказали!
Василий молчал.
- Отвечай, когда Царь говорит с тобой, смерд!
Василий молчал.
Царь повёл рукой, и, как грибы из-под земли после дождя, выросли ухватливые, поворотливые слуги, быстро, толчками да шипением, подняли народ с половиц, угнали за настежь раскрытую дверь. Палата опустела. В ней остались только рассерженный Царь и мертво молчащий Василий.
Я узнал тебя. Я в жизни моей уже видел тебя. Узнаешь ли ты меня?
- Ну, так. Чем дольше ты молчишь, чем страшнее наказанье тебя ждет. Эй! Имени твоего не знаю. Разевай рот! Пошто так меня презираешь, губёшек не разлепишь?!
Василий раздул ноздри, рот его дернулся.
- Василий меня зовут.
- Василий. Так. Понятно.
Царь по гладкому разноцветному паркету не торопясь, аккуратно переступая заморскими изысканными красными сапогами с пятки на носок, подошёл к ему.
- Василий? Тоже Царь, значит? Только Царь улицы? Площади? Мусорных ящиков? Заваленных хламом задворок? Что молчишь?
Царь спрашивал тихо, да грозно.
Василий вздохнул. Внутри себя он уже всё, всё сказал Царю, что должен был сказать. А теперь надлежало всё это произнести вслух.
И он даже не представлял, как будет давить на плечи, на сердце эта близкая, суждённая речь.
Надо, надо это сказать. Не взвешивай каждое слово. Просто дыши. Выдыхай. Он всё равно не поверит тебе.
Он спокойно, медленно рассматривал Царя. Чуть ниже его ростом. В военной форме. Погоны ярко, павлиньими перьями, горели в полутьме палаты. Генерал. А погоны будто фосфором намазали, так сияют. Дышит часто, тяжело, будто бы бежал по дороге, убегал от кого-то страшного, неотвратимого, и вот добежал домой, и вот ворвался в покои. Лицо жёсткое, деревянное. Рот плотно сжат. Усы, борода старательно подстрижены: придворный брадобрей расстарался. Василий молча изучал его, а он молча изучал Василия. Два человека сошлись, глядели друг на друга. Вот она, жизнь: ты живой, и он живой. Вы оба пока ещё живые.
Лицо Царя исполнено решимости. Решимость жить. Решимость драться. Решимость побеждать. Красная Луна висела над ним в небесах, но он на небо не глядел. Ему нужнее была его воля. Раздвоенный подбородок говорил о глубоко, в недрах духа, спрятанной жестокости. Мужчина не может не быть жестоким: так считает Мiръ, к жестокости привычный. Василий повёл глазами вверх, и прозрачные глаза Царя, цвета холодного озера в солнечный осенний день, серо-голубые, ненастные, заволокнутые туманом и предчувствием первого снега, копьями зрачков насквозь проткнули скорбные зрачки Василия и гулкий призрачный ветер у него подо лбом.
- Ну что? Так в молчанку и будем играть? Лицо твоё измождено. Много ты страдал. Ночь надвигается на родную землю. А ведь Святая наша земля. Не всё Иерусалиму быть святу. Ты исходил босыми стопами всю Москву. А ещё в каких градах-весях побывал? Что про людей наших хорошего сказать твоему Царю можешь? Ты устал, но ведь и я устал. Мы оба устали. Нам обоим надо пожалеть друг друга. Я перед тобой не играю в Царя. Власть, это напускное, наживное. Как и деньги. Мы ими дорожим. Лелеем их, голубим. Но вот что странно. Мы не дорожим миромъ. Мы всё время начинаем войну. Ты знаешь о том, что Зимняя Война всё-таки началась? Я не хотел! А она началась сама. Я палец о палец не ударил. Но отвечать врагу придётся, и кашу придётся расхлёбывать. Юрод, ты ходишь по снегу, а на деле живёшь в небесах. Что шепчут тебе созвездия твои?
Василий переступил с ноги на ногу.
Царь глядел на его босые грязные, красные ноги.
- Я не астролог твой, Царь, и не придворный провидец твой. Я не умею читать по звёздам. Моя служба Богу состоит в том, что я, закрывая глаза, вижу Время. А Время, знаешь, Царь, материя такая... странная. Скользкая, летучая. Вырывается из-под мысли, из пальцев. Бабочка. Знаешь, как улыбка с уст срывается? Да, вот как бабочка, печально летит, улетает. Прочь. Заливают её слёзы. Это Время. Я его зрю, слышу, чую на ощупь. На вкус. Вдыхаю.
- И чем оно пахнет? Кровью?
Мгновенно лицо Василия помрачнело. Почернело. Царь понял, что сплоховал; он боялся спугнуть юрода; он чувствовал, дело тут нечисто, и нельзя этого голого придурка просто так из терема отпускать; закусил губу, усмиряя себя, излечивая от нежданной вспышки гнева. Слишком рядом лежал гнев, на ладони, в углах рта, в перевивах потрохов, а вот всепрощение моталось в небе, недосягаемое.
- Сядем, пожалуй. Эй! Слуги! Принесите халаты, тёплые покрывала!
Царь хлопнул в ладоши. Вбежали люди. В руках они тащили полосатые атласные халаты, кафтаны, подбитые собольим мехом, накидки, сшитые из бесчисленных горностаевых шкурок. Василий, видя такое расточительство и такую игру в роскошь, в россыпи рухляди, а на деле - выхваление безудержной охотничьей жадностью-жестокостью, отвернулся от жаркого мехового великолепия.
- Не надо мне твоих шкур, Царь. У меня - моя есть.
Он кивнул на грязную, свалявшуюся медвежью шкуру у себя на плечах.
Царь, осердясь уже по-настоящему, выхватил из рук у ближнего слуги беличий длинный кафтан и насильно напялил на Василия. Василий решил не сопротивляться, стоял, послушно растопырив руки. Руки торчали в прорезях рукавов, а сами рукава ниспадали до полу, расшитые крупными яхонтами и смарагдами величиной с голубиное яйцо. Голые грязные ноги высовывались из-под беличьих пол, пальцы крючились в судороге. Стыдился площадной юрод никчёмной роскоши такой.
Рядом сейчас стояли они, Царь и Юродивый. Василий видел затылок Царя. Он чувствовал себя летящей фигурой на иконе, и они оба, Царь и он сам, чудились Василию тенями на иконописном клейме; клейма, на коих намалёваны события из жизни святого либо преподобного, по ободу иконы текут; передвигаются потемнелые квадраты; тихо светятся; и там, внутри, в их ночном свечении, они оба, нынешние, сиюминутные, навеки спрятаны.
- Садись. Вон диван.
Царь указал пальцем на обитый атласом цвета зари широкий диван.
Сам крупными шагами подошёл и сел. Пружины зазвенели. Царь хлопнул ладонью по обивке рядом с собой.
- Давай! Не робей!
Василий шёл к дивану, будто реку по льду переходил.
Перешёл Время. Уселся рядом с Царем.
- Ну? Опять молчишь? Неразговорчивый ты.
- Ты, Царь, - Василий уперся зрачками в лоб Царя, - тоже не особо любишь языком мотать.
Помолчали оба. Царь обернулся к раскрытой в ночь двери.
- Эгей! Нам сюда яств, да повкуснее! Рыбы красной! Осетрины копчёной! Кизила спелого, ананасов резаных, сыра с плесенью... вина французского! Шабли! Нет, лучше аргентинского! Или того, ну, мне вчера привезли... люди мои прилетели... с острова Тасмании!..
Люди, улыбающиеся во всё лицо, в колпаках с бубенчиками, в розовых атласных халатах и вышитых нежным золотом тюбетейках, внесли на подносах чернёного серебра кисти синего, покрытого сизым налётом винограда, тонко порезанную севрюгу, осетровую икру в маленьких хрустальных вазочках, и чайные ложки с витыми позолоченными ручками торчали в ней. Винные бутыли возвышались древними башнями. Вавилон должен быть разрушен, а мы где? В Армагеддоне?
- Армагеддон, - тихо произнес Василий, - это Армагеддон.
Царь держал в руках виноградную гроздь и озорно, как пацанёнок, скусывал с неё чёрно-синие приторные ягоды.
- Что?.. Что ты сказал?..
- Армагеддон. Град Армагеддон. Ты в нём живешь. Ты в нём правишь. И ведать не ведаешь, что завтра тебе придется с ним расстаться.
- Как это расстаться?! Я что, помру?
Царь расхохотался, бросил виноград на поднос, схватил кусок осетрины и затолкал в рот. Жевал. Жмурился от восторга.
- М-м-м-м, превосходно закоптил мой друг Анатолий!.. Коптильня для красной рыбы - это, брат ты мой, высочайшее искусство! Я-то вот ему не обучен. А мастерство не пропьёшь. И совершенству, ну, ты догадываешься, небось, предела нет. А ты-то что не ешь ничего? Ведь наверняка оголодал! В героя играешь? Брось! Никто тут тебя не съест! Я - не хищник! Я - просто Царь! А ты - мой гость! Вот и всё! Всё так просто! Жри!
Василий протянул руку к подносу, будто ею проткнул густые облака, взял витую ложку за ручку, как рыбу за хвост, зачерпнул икру и сунул ложку в рот. Положил ложку на серебро, она зазвенела.
- Благодарствую, Царь.
- Что так мало вкусил? Ешь вдосталь!
- Не буду. Слишком красиво.
Царь тихо засмеялся. Отломил от пахлавы липкую щепоть.
- Не привык ты к прекрасному, к сладкому. Ну да ладно. Расскажи лучше про себя. Про то, как ты дошёл до жизни такой.
Царь обвёл рукой воздух вокруг Василия.
- Изволь, владыка. Я обычный человек. И обычным ребёнком рос. Так мне казалось. Мать моя знахарка деревенская была. Травы в Сибири собирала. На медведя мы с ней ходили. И медведицу - убили.
- Медведицу?.. Мать?.. С медвежатами?..
- Так вышло. Не суди нас. Голодали мы. Медвежат спасли. Да, знаешь, в детстве я начал предчувствовать неизбежное. Перед тем, как прийти великому горю, беде всеобщей, я зрел на небесах таинственные письмена. Не мог я разгадать эти символы. Не понимал, что они означают. Тогда не понимал. А подрос - и стал понимать. Кто мне это понимание дал? Бог? Или Тот, Кто стоит за Его спиной? Вечный вражина Его? Я обучился разгадывать звёздные узоры, складывать кресты из лучей и ладить охотничьи стрелы из алмазной ночной сутолоки. Я в себе силу ощутил. Огромную, Царь, силу. Не знал, что мне делать с ней. Не мышцы силой наливались; не мозг мой лопался под выгибом черепа; эта сила гнездилась глубоко во мне, там, где я перетекал в то, что было в Мiре до меня. Каждый из нас состоит не только из собственных телес, но из плоти, крови и духа тех, кто жил на свете до тебя. Вот ты, Царь! Ты - тоже из прежних людей сложён. Не хочешь об этом думать, знаю. Я учился видеть Время. И я видел его. А Время видело меня. Мы видели друг друга. Мы друг для друга были - зеркалом.
- Зеркалом?..
Царь посмотрел в лицо Василию, как в зеркало. Искал там отраженье свое.
- Время то заслоняло мне мою жизнь, то раздвигалось передо мной снеговой занавеской. Я-то знал: нет Времени. Цифирь, буквицы... всё стремится остановить Время, и никогда не может. Его не втиснешь во знак. Призрак оно. Улетает, чуть вздохнёшь и помыслишь о нём. Оно есть, и его нет. И мы одни сидим, и сами на себя в зеркало глядим. Вот Война. Она гремела сто, тысячу лет назад. И сейчас идёт. Вот человек. Дитя рождалось сто, тысячу лет назад. И теперь рождается. И впредь будет рождаться. И умирать. Любовь, ненависть, ужас, боль - всё было. И всё есть. И всё будет. Так где же разница? Всё же вечно. Выходит так, Времени нет? А что же тогда течёт, и длится, и мучит, пытает нас - вместо него? Вот ты, Царь. Ты веришь, что Время есть?
- Я в Бога верую, во Христа, - тихо и сердито сказал Царь.
Виноградная кисть лежала на его ладони чёрным котёнком.
Он смотрел на ягоду, и волнами боли покрывалось его ухоженное лицо с гладко выбритыми щеками, с золотым руном бородки, обнимающей скулы.
- Я тоже, Царь, верую во Христа.
- Странный ты, непонятный юрод. Зачем ты послан мне? Не бойся меня. Я не прикажу тебя казнить. Все вокруг преступники, обманщики. Я вижу, ты чист. Вижу, хочешь мне важное сказать. Говори!
Василий исподлобья глянул на Царя.
- Хочу! И скажу. Царь, почему опять началась Зимняя Война?
- Да она и не прекращалась. Она идёт всегда. Всюду. Необъявленная и без видимых причин.
- Необъявленная... и без видимых... причин... Есть причины у Войны, Царь.
- Есть? Открой!
- Ты знаешь их.
- Нет!
- Ты окружен у себя в тереме народом, Царь. Тут тучи людей. Они копошатся, жужжат, бегают, ползают, валяются у тебя в ногах, корчатся под твоими плетями. Завтра они умрут. Ты ли их умертвишь, смерть ли иная за ними придёт, правда одна - их не станет. А ты будешь. Тебе мнится, ты будешь всегда. И это хорошо. Человек не помышляет о смерти, когда живёт, ибо не знает часа своего. Но пропадаешь ты тут, в тереме твоём, иной раз от великой тоски. И тогда ты бьёшь в ладоши и вызываешь шутов. Скоморохов. Закадычных друзей. Пьёшь с ними коньяк, ешь сёмгу и кефаль. Танцуешь, играешь на белом гладком ящике с натянутыми медными струнами. Гонишь прочь тоску. А она не уходит.
Царь скривился. Сжал ягоды в кулаке. Виноградный сок закапал на паркет.
- Всё так. Правду говоришь. Но зачем мне твоя правда?
- Царь! Ведь и Зимняя Война - тоже правда. Ты меня заловил, и ты на меня надеешься. Кто я тебе? Думаешь, я тебе вечное Царство и безсмертное счастье напророчу?
Царь отбросил раздавленную ягодную кисть.
- Да!
- Ты так нуждаешься в вечности? Тебе мало быть смертным человеком? Хочешь безсмертным стать?
- Да!
- Станешь!
- Неужели!
- Для этого нужно один лишь шаг сделать.
- Говори!
- Останови Зимнюю Войну!
Царь резко, стрелой, поднялся с дивана. Набычась, стоял перед Василием, злее сторожевого пса.
- Безумец!
- Ты же знаешь, я безумец.
- Преступник!
- Если я закон преступил, казни меня.
- Ты... - Царь прислонил перепачканную тёмным ягодным соком ладонь ко рту, к щеке, к подбородку. На гладкой чистой коже щеки отпечатались кровавые пятна. - Я-то сам не раз закон преступил! Да, грешен человек! Но если человек на благо родины его трудится и не изнемогает - велик он, а не грешен! Чист и ты, сумасшедший! Слушай, где я видел тебя! А ведь точно видел! Рожа твоя мне знакома до страсти! А вот скажи мне, ты любишь Родину?!
Зачем он меня об этом спрашивает. Меня, русского человека. Плоть от плоти Родины моей.
Василий тоже встал. Глядел на Царя горько, внимательно.
- Любому моему ответу ты не поверишь, Царь.
- Я ничему и никому не верю! А тебе, юрод, поверю!
Василий опустил голову, и густые его космы упали с затылка на изморщенное лицо его, на грудь, на висящие вдоль тощего тела тяжёлые руки-кочерги.
- Люблю.
- Я тоже люблю! И любовь мою на выделку ей неразрушимого щита - обращаю!
- Значит, Царь, ты хочешь смертью победить смерть.
- Да! Так!
- Войной победить Войну.
Царь хотел воскликнуть: да!.. - но некто невидимый мощной рукой заклеил ему готовый к воплю рот.
- Войной... победить... войну...
- Так все думают. Так все верят. У людей один путь. Стреляют - давай стрелять в ответ. Задумался ли ты, Царь хоть раз один в жизни твоей, почему люди воюют? Почему начинают они Войну? Убивают друг друга? А рядом с воинами и других людей, и детей, и стариков, всех, кто чувствует и мыслит, радуется и плачет? Тот, кто умер, девять дней реет над собственным телом, озирает любимое место, где жил и страдал. Сорок дней посещает родных и, стискивая незримые руки над ними, скорбящими, плачет вместе с ними. А потом исчезает душа. Куда? Задумался ли ты хоть однажды, куда она улетает?
- Нет.
Василий видел, как Царю с трудом далось это "нет".
- Ты не раз хотел задуматься об этом. И в этот миг всегда велел принесть тебе на расписном подносе заморский коньяк и хрустальный бокал. Тебе наливали услады в дедов зимний хрусталь, и ты пил. Забывался. Забывал. Война казалась тебе необходимым условием жизни. Ты не мог от неё убежать, но ведь и она тебя не покидала. Ты поднимал когда-нибудь бокал, великий Царь, за то, чтобы ты никогда не умер на Войне?
Царь молчал.
- А за то, чтобы никто и никогда больше не умер на будущей Войне?
Царь молчал.
Василий сцепил во смуглом костлявом кулаке прядь длинной зимней бороды.
- Впервые испросил у тебя твоего повеленья остановить Зимнюю Войну. Другого раза может и не быть!
Царь повернул голову и поглядел в окно. Его профиль лег на ночное синее стекло бледной ледяной скульптурой. В палату вошел прислужник, в руках он держал поднос, на подносе стояла бутылка и две искрящихся рюмки красного хрусталя.
- Царь, ты владеешь мысленным приказом?
- Нет. Просто время пришло.
- Какое?
- Выпить за военное счастье.
Прислужник, горбато склонившись, разлил коньяк по длинноногим рюмкам. Царь ухватил рюмку за ножку, приподнял и стукнул о другую. Тихий печальный звон разнёсся по палате, умер в дальнем углу, там, откуда глядели дикие, дивные росписи: молодец в красном кафтане срывал с зелёного изумрудного древа алое яблоко, протягивал девице, а девка заслонялась широким рукавом, рукав трепал ветер, девка хитро, тонко улыбалась из-под рукава, из-под синего небесного сарафана босую ногу зазывно выставляла.
Василий осторожно взял наполненную зельем рюмку. Он глядел на роспись.
- Что же, великий Царь. Давай выпьем за счастье военное, сокровенное. Вот у тебя на стене Рай наоборот: не Ева кормит яблоком Адама, а Адам Еву. Парень обхаживает девку, а не девка парня. Может, так оно и было в Раю-то? А потом парень соберёт мешок, взовьётся на коня и ускачет на Войну. Опять на Войну. Война-то всегда! Нет от неё избавленья! О каком же счастье тут речь, а, Царь? Где оно зарыто? Где покоится? Где пирует, празднует?!
- Пирует... празднует...
Царь поднял хрусталь. Древесно-коричневый коньяк плеснулся, капля пролилась, покатилась по золотной вышивке Царского кафтана чистой слезой. Пока Царь выпивал рюмку, Василий тихо поставил свою на поднос.
- Не пьёшь с Царём?!
- Не гневайся, Царь. Слишком многие гневались на меня. Не уподобляйся им.
- Я - выпил! Я - не умру на Войне!
- Не умрёшь.
- Мужчины воюют не только потому, что Родину защищают! А ещё и потому, что им Бог велит убрать с лика земли лишних людей!
- Царь, зачем ты врёшь сам себе? Ты сам себе разум и рот обматываешь прозрачным, поддельными жемчугами унизанным, кружевом лжи. Чем чаще лжёшь - тем гуще язык твой и разумение твоё ржавчиной покрываются! Сохрани себя! Спаси себя! Ты же наместник Бога на земле! И ты же не безумец, как я! Ты - мудрец! Только безумцы призывают всеобщую гибель на головы насельников родного государства. А мудрецы то государство спасают! Руками заботливыми, громадным объятием от вьюги кровавой закрывают его! Грудью любви заслоняют его!
- Брось. Заткнись. Лепечешь, как дитя. Негоже мужику таким рохлей быть. Цари, полководцы спасают государство именно тем, что - полки в атаку ведут! Да, люди ложатся наземь, деревьями падают, корни в крови из земли выворачивая, в страшной схватке! Да за спиной Родина остается! Её - спасаем! Ею - молимся! Ею - исповедуемся перед грядущим! Грядущее единое нас поймёт! А не ты, полоумный, юрод!
По лицу Царя тёк сердитый пот, брови сдвинулись, дёргались, на скулах вздувались железные желваки. Он цапнул бутыль, плеснул себе коньяк, да мимо: напиток разлился по подносу, выплеснулся на пол, запахло остро, пряно, пьяно.
- Смерть...
Василий стоял прямо, как солдат в строю.
- Смерть на Войне. Не избежать её. А не думал ты, Царь, что военная смерть стоит денег? А деньги эти отсчитывает на неё - жизнь? Жизнь-война... жизнь - Война...
- Что зыришь? Как я пью?! И что?! Два мужика собрались и пьют. Обычное дело! И я, между прочим, погибших в недавнем бою моих родичей - поминаю! И всех незнакомых, неизвестных солдат - поминаю! А ты плетёшь языком миротворные речи! Мvро, мнишь, изо рта твоего по губам твоим польётся! Сейчас! Держи карман шире! Трусов в войсках наших не держим! Взвод, рота, батальон, дивизия - все смельчаки! Все изготовлены, взращены убивать врага! А те, кто канючит, плачется, вроде тебя, те а ну-ка, прочь пошли! Вон пошли! Вон!
Василий отступил на шаг.
- Я уйду, Царь. Я не скажу тебе больше про деньги. Не скажу про твоих мертвецов. Да ты больше не пей. Не охмуряй себя давленым виноградом. И меня не прогоняй так скоро, жестоко. Кто тебе ещё правду скажет о Войне?
- Не хочу ничего слышать! - Царь схватил недопитую бутыль, припал к горлышку, глотал жадно, как взалкавший в пустыне. - Замкни рот на чугунный замок! Война! Война! Гадкая! Дрянь такая! А ведь нужна! Нужна! Без неё - никак! Самолёт мой будет завтра снаряжён. Я снова прыгну туда! В этот чёрный, дымный Ад! В грохот и огонь! Я не хочу! Да, это правда! Не желаю! Но я военачальник! Я должен быть там, с моими генералами! С войсками моими!
Василий сделал шаг к Царю и тяжело положил костлявые длинные руки ему на парчовые плечи.
- Чтобы отдать новый приказ - идите в бой, сражайтесь, умирайте! Умрите все, во имя жизни! Уничтожьте вражеских солдат, во имя торжества родной армии! Так, скажи, Царь? Ведь так?
- Так!
- А иного приказа ты отдать не можешь?
- Юрод! Мерзкий! - Царь ударил Василия по рукам, и руки Блаженного опять плетями повисли. - Гадёныш! Что мелешь! Разве ты военный человек! Ты же ничего не смыслишь в Войне! Ты только смерть в её нутре красном, взрезанном, видишь! А не видишь, дурак, что она - жизнь рожает! Война - баба! И в пелёнках боли и страха она нянчит - великое Солнце! Война - это не юродово дело! Не суйся! Я Войной занят! Не ты! И никогда занят не будешь! Никогда ты, голопузый, голопятый нагоходец, воевать не будешь! Солдат в атаку не поведёшь! Примолкни!
Зачем он так страшно кричит. Криком правды не добьёшься. Ни от себя, ни от меня. Ни от Бога. Ни от кого на свете.
Царь бил глазами по Василию, будто камни бросал в него, Василий глядел на Царя спокойно, светло, как вышедши из храма после молитвы.
- Знаю я, Царь, чего ты хочешь, воюя.
Царь аж визгнул, так взвизгивают пойманные в капкан звери, нелепо взмахнул рукой, задел початую бутыль, она опрокинулась и покатилась. Царь шагнул к Василию, и бубенчики на носке его колдовского сафьянного сапога зазвенели.
- Да что ты ко мне пристал?! А если ты мне надоел, как горькая редька?! И я велю тебя сей же час - выгнать! Вон! С глаз долой! И забуду через миг! Всё запамятую, как ты тут разглагольствовал о том, чего ведать не ведаешь!
Василий не тронулся с места. Стоял, будто нагие ноги его столбами вкопали в паркет, землёй присыпали.
Он смотрел на Царя, плыл во сне-яви, качаясь, на льдине по синему холодному морю, а Царь с берега глядел на него, прищурясь, из-под руки, глаза ладонью от дикого потустороннего Солнца заслоняя, и долго, долго, провожал его взглядом. Всю жизнь.
- Я всё ведаю. Всяк человек знает то, чего другой, даже если сильно возжелает, не узнает никогда. Врачи на Войне режут тела людей. Вырывают их у смерти. А иных не спасают. В смерть провожают: со старательно зашитыми ранами, со смазанными маслом ожогами. Царь, я вот такой врач. Только я врачую не тела, а души. И ты болен. И тебя я могу уврачевать. Я спас много жизней на Войне, там не быв. Расстояние для меня не помеха. Я молитвой земли преодолеваю. Людей издали вижу. Лечу духом под облаками. И к раненым с небес схожу. Иные меня видят, иные не видят. Я к ним со скляночкой. Там снадобье. Я умею варить бальзам из лепестков шиповника. Мать моя была знахарка и меня травам научила.
- Шиповник... скляночка... что ты мне брешешь тут!..
- Я вижу: бинт кончился у санитарок. Им лохмотья тяну - раны замотать. Вижу: йода нет. Бутыль тяжёлую йода, лебединой ватой заткнутую, в обеих руках, плача, несу. Тайно подсовываю. Они обнаружат, орут от радости. Главного хирурга за заботу хвалят. А я тут же, невидим, стою. От радости плачу, как и они же. Йод в бутылке цвета вишневой настойки: коричневый, смоляной, земляной. Кровь земли. А за пазухой у меня мvро. Я мvро вытащу, пробку зубами выну, разольётся дух по лазаретной палате. Солдаты глаза позакрывают от наслажденья, от изумления. Чудо! Детством пахнет! Лесом! Сиренью! Донником медоносным! А я в мvро палец окуну, к каждому неслышно подхожу и каждого помазую. Так и живу на Войне, Царь.
Царь повернулся к Василию задом. Размашисто, злыми огромными шагами, подбежал к окну. Кулаком в раму ударил. Створка вылетела, стекло, треснув, звякнуло.
- Донник, проклятье!.. Йод, заткнутый ватой!.. Кому еще байку сочини!.. Мvро святое приплёл... грех на башку твою зовёшь!
- Правду говорю тебе, Царь. Услышь.
Василий потемнел ликом. Стоял и глядел Царю в широкую спину под блёсткой кровавой парчою, расшитой золотыми папоротниками, как в зеркало; и опять там отражался.
Он отражался везде, во всех стенах Царской палаты, на потолке, в разбитых оконных стёклах, в синей ваксе ночи, в радужном сказочном паркете, в мисках с яствами, в укатившейся в мышиный угол коньячной бутыли.
Царь обернулся. Из распахнутого окна бил ветер, как родник на горе.
- Да услышал я! Только не то, что хочешь ты!
- Дело твоё, Царь.
- Но не твоё, юрод!
- Воля твоя, Царь.
- Что ты в смиренника играешь! Ты же не смирный, юрод! Ты - воин! Повстанец ты! - Царь сглотнул слюну, и кадык его резко дёрнулся. - Бунтарь!
- Как хочешь, так и именуй меня, Царь. Ты вот мыслишь: один он тут на Москве, сирота ползучая, ходит-бродит. Одинёшенек! Во снегу восседает! Цирк зимний народу показует! И никто не знает, никто, что у меня на Войне умерла мать. Моя мать. Марина. Ибо Зимняя Война не вчера началась. Всегда шла. И всегда пойдёт. Не закончится. А ещё у меня на Войне зазнобу убили. Сначала ножами всю изрезали, потом в лоб ей выстрелили. Я мыслями это увидел. И перелетел бы туда, к ней, да воскресить из мертвых только Бог может. Никто, как Бог. Человеку это не дано. Она мне письма с Войны писала. О том, как стреляют. О том, как она хочет жить. Как молится за то, чтобы я жил. Вот, живу её молитвами. А её убили. Так жестоко, и я...
Он не мог говорить. Слёзы залили ему лицо. Царь, не отрывая глаз от его тёмного, солнечным золотом на подземной доске прорисованного лика, сделал шаг к нему, другой, третий. Он так медленно шёл к нему, что Василий подумал: пол липкий, вареньем небось залили, подошвы Царских сапог к паркету приклеиваются, примерзают.
- А что твоя любимая делала на Войне?
- Воевала.
- Понятно.
- Что же ты с ней, за ней не поехал? Что в Москве торчишь, по улицам босиком слоняешься, голубям да торговкам на рынках глаза мозолишь?!
- Я Москве нужнее. В Москве, Царь, тоже Зимняя Война идёт. Ещё какая! Неостановимая. Только я её покамест утишаю. Утешаю. Чтоб не ревела на весь Мiръ белугой. А будет и на Москве великая битва. Попомнишь меня.
- Да я...
Царь всплеснул руками совсем по-ребячьи.
- Да я вспоминать тебя отнюдь не собираюсь! Я тебя - от себя - никуда и не отпущу! Всё, перестанешь бродяжить по столице! Будешь у меня по двору гулять! Мне - будущее - предсказывать! Мне - раны - лоскутьём обматывать!
Василий стоял, молчал. Потом закрыл глаза. Тихо качался перед Царём, под ветром иномiрным.
- Опять в молчанку играешь. А вот ответь, что ты умеешь делать? Ну, руками, пальцами, работёнку какую обычную? Какому ремеслу обучен? Лекарей у меня и других полным-полна коробочка. Иноземные! Одного звать Бенвенуто, другого Федерико. А третьего недавно с острова Британии выписал, по прозванью мистер Фьюче. Ловкий, змей, оборотистый! Всё в ручонках так и играет, искрится! Куда там твои склянки... там целая россыпь стеклянных, ядовитых огней... пузырьки, фляжки, мензурки... в одну наливает, из трёх выливает... смешивает, дым клубится, вонь, гарь, а то аромат Райский, неописуемый... Отвечай! Не понял ещё, что ли! Я тебя - на службу к себе беру! Сюда! Во дворец!
Василий стоял в ночи молча, и ночь со всех сторон обнимала его и тихо танцевала вокруг него.
- Я умею жарить и парить. Еду приготовлять.
Пришла пора изумлённо замолчать Царю.
Молчанье он нарушил громоподобным хохотом.
- Да что ты говоришь! Еду варганить! Повар ты у нас, значит! Повар! - Царь вытер вспотевший лоб тыльной стороной ладони, не переставая смеяться. - У-ха-ха-ха! По-о-о-о-овар! Вот это номер, чтоб ты помер! Повара мне Бог послал! Да у меня поваров на кухне знаешь сколько... - Осёкся. Измерил Василия взглядом вдоль-поперёк. - Повар, говоришь. Повар... Быть по-твоему, бродяга. Чую, особые блюда ты будешь готовить мне. Чудодейные. Единственные. За то тебя и беру, слышал! Ты чудесник, и еду из рук мага получать - не то что из рук остолопа. Хочу и беру! И - взял уже! Эй!
Громкий хлопок в ладоши спугнул двух синиц, примостившихся на стрехе теремного окна. Раскрылись двери, ворвались слуги, бояре, спальные, оруженосцы, воеводы, те, кто ждал вечернего Царского приема; влетели, втекли, расползлись по палате, прятались под расписными лесными сводами, под пологами и занавесями, склонившись, умильно глядя Царю в лицо, ждали приказа.
Царь развернулся и мощным, богатым, всевластным жестом указал на прямо и жёстко, как мёртвая жердь, стоящего Василия.
- Вот! Видите этого человека? Ага! Видят все! Все созерцают! Смешон, да! Наг, нищ и бос! Однако воля моя - и с нынешнего дня именно он становится главным поваром на моей Царской кухне! Привозить ему лучшие яства! Отборные овощи! Свежевыловленную драгоценную рыбу из моих морей и моих рек! Закалывать откормленных свиней, молоденьких теляток! Свежевать только подстреленных на моей Царской охоте зверей! И новоиспечённый мой повар будет готовить мне оленину, козлятину... медвежатину!.. Вы!.. Слышите!.. Доставлять крупнейшие, вкуснейшие садовые ягоды: сливу, вишню, смородину, а также ягоду лесную: бруснику, голубику, чернику, землянику, иргу! Яблоки румяные, румяней девичьих щёк, в мешках на кухню приволакивать и в чаны ссыпать, чтобы повар мой те яблоки ножом резал и из них, смешавши с сахаром и мёдом, начинку делал для могучих, во весь Царский стол, пирогов! Добыть и установить на кухне моей бутыли прозрачные, бутыли вместительные, громадные, для изготовления домашних вин, бражек, настоек и наливок! Вы слышали?! Всё поняли?!
Кулак подъятый Царь, выкрикивая это всё и веселяся, над головой держал.
И все, вся челядь, донельзя напуганная, глядела на тот массивный, крепко сжатый кулак, величиною с великанскую кедровую шишку. Такие на старых прибайкальских кедрах, сгибая тяжестью иглистые ветки, висят. Их только колотом сбить. Сами наземь не упадут.
- Всё... всё, всё, всё... Царь-государь наш... великий Царь!.. о, поняли, поняли, конечно, поняли... и всё исполним, как надо... повара, повара нового, как надо, обиходим... на кухню препроводим... в одеяние облачим поварское... белое, белоснежное... без единого пятнышка... без черноты, без кровушки, без жира потёков... чисто выстиранное, крахмальное... белизны родильной, крестильной, свадебной... погребальной... а в результате - поварской, ибо жизнь человека - что она?.. она вечная еда... еда туда и сюда... без еды мы никуда... едим, едим, а потом всё рассеется, как дым... еда... рушник - Божия борода... а у этого, у юрода-то, глянь, какая богатющая бородища, даром что нищий... отращивал её года...
Царь близко подошёл к Василию. Положил руку ему на плечо. Приобнял покровительственно, невесомо, кичась им перед свитой, как охотничьей добычей.
- Ну что, дурак? Доволен ты судьбой твоей? Что стоишь столбом, меня не благодаришь?
- Я не должен быть приходить сюда.
Василий стоял, глядел и не видел. Он не видел ни толпы, ни Царя, ни разбитого в осколки стрельчатого окна.
Царь рассмеялся.
- А хоть бы ты и отказался! Тебя бы насильно, под белы рученьки, привели! А коли б не пошёл - застрелили, и дело с концом! Простой у нас приговор!
- Царь, ответь. Ты жив или ты мёртв?
Толпа, наводнившая палату, замерла. Замер и Царь.
- Ты что это...
Юрод шагнул к Царю и повалился на колени.
- Если ты жив - напои меня вином, накорми меня пирогом и отпусти. Война идёт. Не хочу я тебе во время Зимней Войны твои изысканные яства стряпать. Я хочу...
- Жить хочешь?!
Царь заорал так, что треснуло и другое стекло в раме другого окна.
- Отпусти.
Нагоходец стоял на коленях с закрытыми глазами. Он всё и с закрытыми глазами видел.
- Сумасшедший! Милость ему предлагают! Приказ сейчас велю написать гусиным пером! И на площадях народу зачитать! О назначении нового Царского повара нашим великим Царским соизволением! Хватит тебе босиком по снегам шлёпать! Не сожгут тебя на площади! Не сочтут святым! Не будут в церкви пред твоей иконой, юрод, бить поклоны! Свечи не будут возжигать! Акафисты голосить! А будешь ты у меня на кухне... между кастрюль и плошек... между тарелок, зелени резаной, лука и черемши и перца... между бочонками с северной сельдью и мешков с пшеницей, гречкой и ячменем... между горами ситной и ржаной муки... сновать!.. стонать!.. сидеть!.. хрипеть!.. на вкус варево из ложки пробовать!.. от усталости валиться!.. мокрый лоб и рожу красную тряпкой отирать!.. всё на свете проклинать!.. а готовить, готовить мне, Царю твоему, такую еду - м-м-м-м... вкуснее не сыщешь в целом свете!..
Царский люд на каждое слово кивал.
Василий терпеливо ждал, пока Царь перестанет словами-семечками сыпать.
Говори, говори, да не заговаривайся. Я уже наслушался. Надо смириться. Останусь тут. Такова птица-судьба. Ангелица, ты махнула крылом. И вот я здесь. Слушаюсь тебя. Жду - тебя.
Он раскрыл глаза.
- Что на ужин сегодня вкусить изволишь, великий Царь?
ОГОНЬ. ПЛИТА. ЕДА
...он осторожно и беззвучно, половица не скрипнет, будто по проволоке над бездонной ямой, перешёл ночную тьму и увалился в кровать, на кою указали ему Царские спальные люди. Люди откинули гагачье легчайшее одеяло чужими руками-крючьями, согнули чужие спины колесом, кланяясь, приглашая к долгому отдыху. Василий лишь в незапамятном детстве спал в корыте, что Марина приспособила ему взамен колыбели. В корыте пахло сеном и сушёной малиной. Ему тогда виделись травные, лучисто-цветочные, полдневно-жаркие сны. Царский повар, это же надо, а. Зачем такое с ним случилось? Он не хотел. Не звал. Всё произошло помимо него; и сплоховал он, не успев провидеть Время; и оно подшутило над ним, вволюшку насмеялось.
Разоблачаться ему не надобно было - и так нагой он, только шкуру медвежачью с плеч скинуть, вот и вся одёжка. Он узрел себя в длинном, высоком, во всю стену, венецианском зеркале - от пола до потолка, с ног до кудлатой звериной башки. Стоял, долго смотрел, пока не замёрз. Поёжился. На морозе не мёрз, а в Царских покоях зуб на зуб не попадает. Лёг. Вытянулся стрелой. Ощутил твердыми костылями ног дубовый край кровати, пятками упёрся в него. Натянул на себя одеяло. Борода лежала поверх одеяла чёрно-седым спутанным мочалом.
Надо бы спать, да не спится. Неможется. Гул в ногах. И над бровями гудит. Сейчас кость думная треснет, и душа вылетит. И поминай как звали.
Он думал о людях, коих оставил на широких площадях.
Как там они живут-могут... как без меня - меня зовут, выкликают... А я и отозваться не могу. Лежу вот тут, полонённый. Куда я без моей свободы? Без троп моих по снегу, без стогн, народом по края запруженных?
Ему слышались эти вопли, эти стоны, этот скрежет, этот хрип, этот рык, этот лепет.
...Василька!.. Васятка, ах же ты Блаженная душа... Держи полушку!.. вот, возьми!.. в кулак зажми... не выпускай... не птичка, а улетит...
...Васята, поцелуй трикраты!.. Открой всю правду!.. Нас враг одолеет или мы врага одолеем?!..
...Василий, площадной ты Царь, Божие сердечко, хоть на ушко мне шепни... мужа моево родимово освободят ли из тюрьмы, ить на всю жизню, почитай, туды упекли...
Веки навалились на глаза, что глядели денно и нощно и устали глядеть. Живому нужен роздых. Он то ли спал, то ли бодрствовал, то ли виденье видал. Будто бы он сам медленно, страшно поднялся с кровати, гагачье одеяло на пол сползло. А он подошел к стене, взял в угол приткнутую канистру, отвернул затычку, наклонил железный сосуд. Стал изнутри хлестать вонючий бензин. Юрод заливал бензином пол, вокруг себя, вокруг кровати, вокруг украшенных деревянной резьбой шкафов и многоценных китайских фарфоровых ваз, величиною с добрые розвальни.
Он лил и лил бензин до тех пор, пока не вылились из железного бочонка последние капли.
С грохотом бросил канистру в угол. Она откатилась, шумно процарапав паркет.
А теперь поджечь.
Он не думал, что, поджигая терем, и себя подожжёт.
Мне просто хочется поглядеть, как пламя полыхает. Я соскучился по огню!
По бензинному озеру протопал к погасшему факелу, воткнутому в старый медный шандал.
Нет. Негоже. Будет довольно и малюсенькой свечки.
У иконы Божией Матери Хахульской, висевшей в красном углу, тихо, красной ягодой, горела лампада. На железном ржавом кануне лежали три тонкие свечи. Он взял одну, встав на цыпочки, от лампады затеплил. Все острее, невыносимее пахло разлитым бензином. Божия Матерь Хахульская, сидя на иконе тонкого письма спокойно, важно в расшитом рубиновыми кабошонами и спелыми зернами речных перлов хитоне, печально глядела на него громадными, без дна, глазами-водоемами.
Неужели я всё это сейчас, вот сейчас подожгу? И займётся огнь! Запляшет!
Свечка разгорелась. И он увидел.
***
...Пожар полыхал огромнее, чем звёздное небо над Белым Полем зимним. Громаднее, чем целый белый свет. Москва стонала, метались руки-тени над объятыми огнём домами. Пристанища бедняков, дворцы бояр - горело всё, и в огне нагими женскими отчаянными телами поднимались к небу, крича всеми колоколами, плача златыми куполами, белокаменные барабаны церквей. Купола прогорали, отрывались, их срывал ветер и корёжил жар, обнажая скелет арматуры; сусальное золото валилось на землю, плавилось, растекалось по булыжникам золотыми ручьями. Шёл, плясал огонь по Москве, и было от него не спастись. Жизнь есть огонь. Смерть есть огонь.
Рождение есть огонь. Мiръ есть огонь. Война есть огонь. Грех есть огонь. Прощение есть огонь. Любовь есть огонь. Ненависть, Господи, есть огонь.
- Боже, Ты еси огонь! - Выше, выше взметнуть руки. Обожжённые руки. Пока ещё живые руки. Мудрые, всезнающие руки. Спасающие руки. Видящие, слышащие руки. - Зри, руки мои - огонь! Огненные руки вас всех обнимают, люди! Огненные живые языки мои - до неба достают! Увидьте меня! Услышьте!
Люди толпами вздымались и опадали в ночь и смерть вокруг Василия; но они внимали тому, чему хотели внимать, и зрели то, что хотели узреть.
- Красное Солнце умерло, люди! Закатилось за окоём! Красная Луна взошла и зажгла бешеную вьюгу! И повалил красный снег! И Красная Луна...
***
...он стоял со свечой в руке, и вдруг громадная старинная книга, обтянутая коровьей ночной кожей, сама собою раскрылась на тайной странице, и сами зазвучали буквицы, ему не нужно было даже разбирать чернильные письмена в полумраке: выжжены каракули, стиснуты руки, вырван язык у колокола, язык у земли, лохматые края бумаги завивались, крошились, обращаясь в хлопья сажи, и сам собою, вечно и неколебимо, звучал полнощной музыкой словесный ряд, и выстраивались слова, подобно солдатам перед боем.
Обними меня крепче. Обними. Война священна. На земле мы остались людьми. Остановить сию Войну нельзя. Она пойдёт до конца Мiра. Гляди мне в глаза.
...ты остановишь эту Войну, Царь. Власы пылают на моей голове. Власы горят на твоей голове. Ты прячешь Птицу Мiра в атласном рукаве. Тело твоё потно и тяжело. А над сердцем твоим Солнце взошло. Да, я Блаженный, такова участь моя. Стою на краю бытия. Я всем моим телом врастаю в жизни чужие. На мою жизнь, Царь, держи! Не дрожи. Огнём предо мною не бейся! Властью твоею - в дым упейся! Всё в округе дико горит! Баба плачет навзрыд! Всё дотла сгорает, а икона, зри, в огне воссияет, а мальчонка малый близ иконы сидит, плачет, молчит... это я, Царь, я, твой малый юрод... это я, твой народ... отдай приказ... не прячь глаз... и враг поляжет, и пробьёт час... все остановится... раз и навсегда... ты выведешь войска... отзовёшь года... да, я дурак... не пойму той звезды, за кою бьются, заметая следы... Что шепчешь?.. Царь, да ты - пьяный в дым... а, слышу... только после того, как... мы... победим?..
***
...на сожжённых страницах он видел самого себя, и как он кричал, огнём взбрасывая руки к непроглядной небесной смоли, вопил бесконечно, исходил слепой музыкой крика, страшной и прекрасной, хриплой музыкой, вопил яростно, полоумно, безустанно, ловил воздух ртом, как вытащенный рыбаками на снежный берег гигантский древний усатый осётр, и опять блажил, раздувая лёгкие при кратком вдохе, а пламя обхватывало его, катилось вокруг него косматым золотым колесом, и его лохматая, болотисто обросшая волосьями-камышами башка торчала над народом, над всеобщим пожаром, колокольней вонзалась в звёзды, он запрокидывал лицо, звёзды сыпались ему в глаза и раззявленный рот, и воплем вырывался из его груди и рта огонь, и захлёстывал великий Господень Мiръ - так хлещет из стеклянной четверти неупиваемое кровавое вино, - и заливал огонь страшным Причастием снег и вороньё, костры на площади и крыши теремов, купола колоколен и обгорелые хребты деревьев, речной изумрудный, густо посыпанный солью инея лёд, сани-розвальни, подводы, телеги, железные повозки, окутанные духом бензина-керосина, стальные туши танков и их гусиные сиротьи, голодные шеи, лодки и барки, катера и пристани, что намертво вмёрзли в старую, мирную судьбу, собачьи морды и тяжелые лапы, и головы, главы людские, бедные, нищие, богато наряженные, кто в бархате и горностае, кто в пёсьей шапке, в шали, траченной молью, кто в нежнотканом посадском плате, развышитом розанами, васильками и алыми степными маками, а у кого и голая головёнка, напрочь открытая ветру и вьюге, мёрзни, башка глупая, дурота великанская, ветер-то понизу дует, уши оторвёт!.. глотку застудит, потроха льдом опалит...
...он всё это читал при свете бедной, тончайшей свечи, и губы его шевелились в мохнатой оправе усов и бороды, пламя свечи дрожало и рвалось, и он понимал - теперь, вот теперь ему надлежит швырнуть сию свечу вниз, на половицы, сплошь залитые горючими слезами, чтобы вспыхнули слёзы, запылали безумием и надеждой: последнее пламя на земле, и больше никто, никогда любимый Мiръ не подожжёт, не...
- Вы не верили! Не верили! Потому и страдаете! А верить надо! Маловерных огонь сжирает вмиг, и Богу взмолиться не успеете! Господь рядом! А вы - хохочете во всё горло! При вас Его ко Кресту прибивают! А вы... отвернулись... ухмыльнулись... и так мните: цирк, кино снимают... театр играют... Распятого - пожалейте! Крест - обнимите! Завтра - вас же - на тот Крест - возведут! Верьте в Бога! Верьте Богу! Верьте мне, я кричу вам о Боге! А вы... а вы...
Он разжал пальцы. Свеча покатилась из его пальцев на пол. Огонь вспыхнул и крепко, вмиг, обнял его. Загорелась борода. Занялись пламенем длинные космы. В раскрытый рот влился огонь и залил хрипящую вечное Слово глотку расплавленным бредом. Красная Луна взошла не на небесах: прямёхонько в спальне. Стояла, вбитая в потолок, надо лбом. Лила кровь на юрода. Он стоял весь в крови. Огонь обращался в военную память, стекал с него золотыми, красными пылающими прядями. Он слышал, как женский голос плачет рядом. Незримые люди наводняли Царскую спальню. Он глядел через головы. Огонь обнимал безвинных людей; они орали недуром. А женщина тихо плакала; и сквозь великий ор и ужас он слышал тихий, нежный плач. Наконец нашёл её глазами. Он думал, это она, Блаженная. Суждённая ему. В её мешке полоумном, с прорезью для башки, босая, ей и плач - радость, и праздник - лития. А вот нет. Не Юродивая то была. Стояла поодаль, в тени толпы, боярышня, чуть пьяненькая, он ноздрями чуял дурманный винный, малиновый запах, от неё веющий на ветру; красные и зелёные шёлковые ленты свисали у неё с кокошника, ветер их ласково, вкрадчиво перебирал; веки подмалёваны сурьмой, серьги величиной с избу тяжело болтаются в красных на морозе мочках. Личиком нежнейшая, нежнее ландыша. И зубки - ландыши; чуть улыбнулась, раскрыла пухлые от слёз губы, и блеснули зубы, а слёзыньки всё лились, всё заливали нежную, цветочную юную жизнь. На лоб спускалась жемчужная низка. Крупные перлы, с ягоду крыжовника. Женщина себя украшает, чтобы от смерти спастись. Наложит краску, притиранья, белила-румяна на щёки, на губы, и всё ей кажется, она сама Кремль, красная кремлёвская красавица-башня, врага не боится, красой выхваляется, солдат на бой воодушевляет, сама собою, красясь перед зеркалом, картину малюет. О жизни. О счастье.
...Господи, да почему же ты всё плачешь... плачешь... не сгораешь в огне...
...пока тонкая жалкая свечка летела вниз, на залитые бензином половицы, она мигнула и погасла.
Василий стоял в полнейшей, густой тьме. Будто его в ржаной хлеб запекли. Ничего не видел очесами. Видело сердце. Сердце плакало вместе с той хмельной боярышней. Он сделал шаг, другой к застеленной снегом кровати, подогнул колени, свалился, расплющился на смертельной белизне. Руки-ноги раскинул, будто плыл.
...таким вот Христа сняли со Креста; и я такой пребуду; и я такой нынче есмь.
***
Стоял у громадных плит. С подобных огнедышащих железных, ржавых плах могли взмывать в небо юркие истребители. Ангелы, отнимающие жизнь. Ангелы или дают жизнь, или её отбирают. Длят её себе только люди; и зачем иной раз длят, в толк не возьму; ибо пуста и никчёмна она, беспомощна и жалка, но ведь даже и наипустейшая жизнь свята у Господа, наималейшая тварь, в грязи распластанная, у будки тоскливо воющая, а будка завтра сгорит во пламени всемощного костра, - единственна и отмолена в вышних.
Стоял у плит, да, у одной-единой могучей плиты, и горели четыре синих огня на её залитой супами и соусами поверхности, с виду ледяной, а на ощупь жгучей. И думал, думал, что в шкворчащее яство сыпануть, перцу ли чёрного али белого, а может, красных обжигающих стручков в варево накидать, чтобы глотку воспаляло и язык крутило, как при пытке; а может, адыгейской соли, с молотыми сушёными горскими травами, либо лимон велеть принести, да так взять его в руку с подноса, крепко сжать в кулаке, и чтобы слёзный сок, кислый, вырви глаз, закапал из кулака на жаркое, в булькающую, ворчливую селянку, и да, да, дайте-ка мне с того стола, вон, со стального, оливки, да, в блюдце малюсеньком оливки лежат. Зелёные терпкие шарики. Ложка пасты томатной. Постное масло, щедро плеснуть. Оливки бросить из горсти. Поплывут зелёные кабошоны в котле, нырнут, исчезнут под слоем резаных почек, ломтиков свиной вырезки, кружков варёного говяжьего языка. Это я-то, юродивый Василий, по площадям скиталец, и вдруг - на кухне Августейшей - Царский повар! Это надо где-то записать. Думать не думал, во сне не видал, по ладони не гадал! Да ещё какой повар! Главный. Напялили на меня пухлый, белый, высокий льняной калач, поварской колпак. Стою в колпаке середь кухни! Улыбаюсь! Велели, для возни с едою, бороду и власы остричь ли, сбрить; да я воспротивился, отказался наотрез, а всё одно пришлось бороду в полотняный мешок упрятывать, а волосья под белую поварскую митру запихивать, когда на кухню трудиться шёл.
И так стоял я у жаром пышущей плиты, видом сходный с конём, из торбы овёс жующим.
Стоял у великанских плит, на лавках чугуны да кастрюли расставлены, котлы над живым каминным огнём на рогульках, на медной проволоке качаются, иные величиною с доброго телёнка, с отрока-бурсака. На гвоздях, по стенам, обложенным искусно сработанными изразцами, ложки-поварёшки висят, половники, шумовки, вон сито, а вон решето, а вон ножи воткнуты в распил широкого бревна; рукоятями вверх торчат, выхвачу один - лезвие сверкнёт на всю кухню, аж глазам больно. Проведу ножом перед носом. Сам себе не поваром - лекарем кажусь. Сейчас нарыв воспалённый накрест разрежу и боль уврачую. В человеке много гноя, Адова брожения. Чистоты мало. А ведь человек рождён для чистоты. Для радости. А вынужден жить в страдании. Потому он его, страдание, возлюбил. Выхода другого нет.
А любовь - видать, единственный от страдания к радости путь.
Стоял близ котла, и теперь стою, и мысленно повторяю, что мне молвит-шепчет Юродивая моя, имя же её нынче знаю хорошо: Ксения. Зачем я, Ксения моя, Царю наврал, что тебя убили на Войне? К чему я сию глупость наболтал языком? Что я видел в тумане Времени, чего не видел? Не убьют на Войне тебя, ты не бойся! Давай лучше говори-ка со мною на расстояньи! Люди друг другу письма на бумаге каракулями пишут, пёрышком птичьим царапают, а нам-то того не надо, мы можем и так, без писем всяких, мыслями переговариваться, улыбками целоваться, рыданьями меняться. Вдохнул, выдохнул - и выдох полетел, выдох достиг, выдох обнял! Ту, что дорога, дороже Господня назначения. Так ведь она и есть Господня благость; не уйти, не покинуть.
СЧАСТЛИВЫЕ ЛЮДИ МЫСЛЯМИ ГОВОРЯТ
Милый, далёкий! Как тебе сказать про себя? Грады открываются мне. По земле иду. Ноги сбиваю в кровь, да это мне и привычно. Не знаю ведь, сколько мне лет, да тебе это и незачем знать. Много, мало, всё равно. Нет Времени, зато есть мы, и как же ты там, родной мой? Вижу тебя, у огня стоящего, у красного, с жёлтым подшерстком, пламени. Висит в печи на стальной нити котёл, и ты в нём мясо варишь. Солишь, перчишь, приправы бросаешь, а сам мыслями, босой, ступаешь по снегу всё вдаль и вдаль, всё ко мне и ко мне. Признаться тебе хочу. Я тут потихоньку стала с ума сходить, это значит - совсем свободной становиться. Свободней меня нынче только птицы в небесах. А на люди свобода моя не хочет выходить. Прятаться хочет. Уединяться. Всё боле ищу местечка для сокрытия себя. Забиться в закут, во тьму погрузиться, как в шубу, во мрак запахнуться, очи сомкнуть и замолчать. Слишком много слов. Слишком много площадей. Люди на площадях и раньше-то меня не особенно любили. Кто прислушивался, и слёзы по щекам текли; а кто скалился, глум чинил да сапогами-каблуками в щиколотки, в пятки ударял. Кто кричал: вон отсюда, умалишённая!.. что языком крутишь, что небылицы в лицах перед нами расстилаешь!.. так мы тебе и поверили!.. Вера - батюшке в церкви, а не тебе, площадной дуре! Ишь, размахнула крылья, сова! Мудренькую из себя корчишь! А ты будь обычной! Такой, как все!
Милый, кровушка моя, сердце... А не желаю я быть такою, как все. И никогда не желала. Мне тут больно. Мне кажется, жизнь моя закончится завтра. Она такая маленькая оказалась на деле, жизнь. Я-то думала: у!.. сколько еще поживу!.. Белый свет уменьшается, ужался до вида голой ладошки. Подношу ладонь к лицу - прижимаю к щеке, к губам - не даю вырваться крику - боли, жалости, прощанья. Я прощаюсь с Мiромъ! Не смейся надо мной! И не отчаивайся! Да, прощаюсь. Много ещё сил во мне, много сладкой жажды, много радости, несу её людям цветочными охапками! А под сердцем живёт, растет малый плод, тёмный ребёнок по имени Смерть. Прости, что я так тебе об этом прямо говорю. Шепчу... такое ведь надо шёпотом. Люди боятся о Смерти говорить. А я не боюсь. Я всю жизнь о ней людям кричала с площадей. А теперь вот тебе: тихо, на ухо. Губами к твоему сердцу прижавшись. Прямо в сердце говорю. Сердце услышит. Не вини меня. Не кори. И не уводи от чувства Смерти. Я её сама вынашиваю. Ещё никто в целом свете не знает, как, когда и где она - для всех - родится.
***
Милая, счастливая! Верно ты меня увидала: стою в поварском колпаке у кухонного огня, вода ворчит в котлах и кастрюлях, безумствует крутой кипяток, кого ошпарить, кого опалить, кому лапы отрезать, кого маслом полить щедро, свято. Масло, догадайся, оно ведь святое. Масел сколько, не счесть! Подсолнечное, оливковое, амарантовое, облепиховое, темнее крови, тыквенное, кукурузное... не говорю уже тебе о звериных жирах, их сорок сортов, и коровье масло средь них не самое знаменитое. Жир барсучий, жир куриный, жир зубатки, жир кефали, топлёное тюленье сало, белужий жир, от него же по глади ухи плывут оранжевые звёзды... Я весьма поднаторел в поварском искусстве, сам от себя такого не ожидал. И что же тебе скажу сегодня? А то, что понял: вся челядь Царская - безумцы. Все - сумасшедшие! Мне возразят: все, да не все! Нет. Все. До единого. Понимаю, нет одного закона жить, непреложного для всех. И нет двух равноценных человеков. Каждый со своею причудой. Со своим огненным, одноногим петухом в дрожащих руках. Но, Ксения, всмотрись! Приди во дворец да вглядись хорошенько в страшные рожи! Оторопь возьмет. Как рассядутся за обедом - а меня наподобие заморского гостя на знатное место усадят: в дубовое кресло, спинка красным деревом обделана, подлокотники расписаны венецианской лазурью. И гляжу - прямо в лица! О нет, в зверьи рыла, в свинячьи хари! Один хрюкнет, другой зубы обнажит все до единого, и зубами теми - клац, клац, так он ими Мiръ ест, Ксения моя. Спросишь: да неужели среди всех тех рыл не отыщется хотя бы одного человеческого лица? Умных улыбок, зорких глаз, нежных, вразлёт, вольных бровей? Неужели же нами правят безумцы? Место им в госпитальной палате. Гляжу, как пьют и едят! И жду: а ну как заговорят! Речь выдаёт тебя с потрохами, человек ты или только притворяешься. Язык открывает нам твоё нутро. Твою подноготную. Сердце твоё. А если сердца нет?
Вот тут, тут тайна.
Ксенья! Постоять бы нам с тобою вдвоём, тесно, бок о бок, и чтобы я твоё тепло, милая, чувствовал всем телом моим, на Божественной Литургии! На Литургии Василия Великого, тёзки моего, али Иоанна Златоуста! Как бы ясно, светло нам стало, облачно, широко, разнотравно! Морды... рыла... Да ведь и они все, Ксения, человеки. Не вправе мы их отвергать! Презрением нашим, болью нашей и отторжением от нас - обижать! Ведь они во власть - из нас вышли. Ведь они, чудища те придворные, - народ! Были когда-то народом. Были - нами. Как, когда они превратились? Как происходит превращенье человека во зверя? А как же быть тем, кто - в Мiръ людей - от зверя родился? И этою лествицей прошёл: от пещеры мрачной, от камней и складок земли, через боль, кровь и слёзы человечьи - к небесам, к океану синих гроз, ко дворцам великих кучевых облаков, к Солнцу, Луне, к Богу?! Я постараюсь. Я расстараюсь и не буду помышлять боле об уродливых лицах их! Я буду помнить о том, что под хитрою, льстивою, лисьей оболочкой у них - там - глубоко - никогда никто не увидит - только почуять возможно и заплакать в тиши - навек от всех зародышем Страшного Суда сокрыта - ДУША...
***
Царь наш одиноко жил на земле; когда-то была рядом с ним царица, и продолжил он род свой, трех сыновей на свет Божий породив, да не остались те дети на Родине милой; все трое уехали в страны иные, один сын пребывал у германцев, другой ударился в художество, стал малевать на холстах и на стенах яркими красками ночь и день, войну и миръ, отчаяние и праздники, и так в живописи преуспел, что пригласили его в землю художников, Италию, и там, под Солнцем Юга, средь померанцев и пахучих роз, он красками сплошь замазывал стены и купола массивных храмов; а третий, младшенький, подался за тридевять земель, аж в Мексику, и там сперва бродяжил, ходил по улицам городов вместе с марьячис, пел с ними под гитару, потом рыбу ловил сетями в бурном океане, а после, образумившись, стал рисовать скелеты самолетов, ну, его и пригласили самолеты строить, и стал он родителем быстрых железных птиц небесных. Царь страдал: наследника хочу! Наследника настоящего надо, чтобы при мне был, и я ему бразды правления, как положено, передал!
Царица, мать трёх его сыновей, давно умерла, когда детки ещё под стол пешком ходили; поминал ее Царь ежегодно, и на ночь не забывал об её душе помолиться и свечу на медном кануне зажечь.
Свита Царская подумывала мечту его о наследнике исполнить. Для начала надо было свести Царя с будущей супругой. Никто не ручался, что девица приглянется ему. Однако день и час смотрин был назначен. Меня вызвали в тронный зал. Впервые узрел я Царя моего на троне. Гляделся он на престоле роскошно. Широкая, как крылья, куничья шуба, от ворота до распахов длинных пол расшитая уральскими каменьями. Под шубою кафтан: красная парча, златые узоры в виде жёлтых волосяных водорослей и виноградных листьев. Под кафтаном - красная рубаха: Царь есть заря, Царское Солнце всегда восходит. На каждом пальце по крупному перстню.
- Здравствуй, повар мой! Как живёшь-можешь?
Я поклонился земным поклоном.
- Здравствуй и ты, Царь великий! Жизнь твоя дороже моей, жалкой и малой!
- Ах, юрод... - Царь сжал в правой руке тяжелый золотой скипетр, опустил руку с круглой планетой державы на колени, укрытые виноградной парчой. - Правду ли говоришь? Или просто потому, что надо так говорить?
Я не опустил взгляда.
И он выдержал мой взгляд.
- Знаешь ли ты, что я готовлю торжество?
- Знаю, Царь.
- Смыслы того торжества понятны тебе?
Усмехнулся я.
- Делай, что должен делать, Царь. Но помни: Зимняя Война идет. А любовь сильна, она побеждает смерть от века. Иди за любовью. Роди стране цесаревича!
- Погоди, рано ещё родить, - он усмехнулся, и прозрачные, серо-синие, озёрные глаза его подёрнулись осенней дымкой, - надо сначала нам с моею суженой в очи друг другу глубоко посмотреть. А вдруг не суженая она?
- Всяко может быть, - отвечал я, пытаясь внушить себе: перечить нельзя, не надо, не положено.
- А ты, ты понимаешь своё при сём назначение? Чуешь, что играть тебе придётся главную роль на кухонном театре твоём?! Попробуй только, пересоли, перевари!..
Старая пословица так и вылетела у меня изо рта, весёлая голубка.
- Недосол, Царь, на столе, пересол на спине.
- Ах ты!..
Царь привстал на троне, замахнулся скипетром, держава выпала у него из шуйцы и со звоном покатилась по полу. Он грозно свёл брови, потом глубоко вздохнул и засмеялся.
- Ты же не шут мой гороховый, юрод, чтобы меня прибаутками потешать!
И я повернулся, чтобы уйти.
И Царь глядел мне вослед, и я ощущал его тяжёлый, горячий взгляд у себя на спине, на загривке, между лопаток.
ЯСТВА И ЛЮБОВЬ
Блюда мясные. Блюда рыбные. Блюда крупяные. Разобраться бы. Всё до чего хитроумно. А я из себя всё здесь повара корчу. Ничего не попишешь, приходится исполнять Царскую волю. А дожил я до таких годов, милая, родная, что я и смерть приму, и пулю приму, и пощаду приму, и пытку приму, и даже венчанье на Царство приму, коли вдруг сподоблюсь; да ведь не сподоблюсь, я, юрод, житель одной звезды, Цари - другой; и никогда в смоляном ночном небе не пересекутся наши златые пути. Смотрины, оно, конечно, не сочетание браком, однако чудища-люди, свита-прихвостни, уже сидят за поставленными буквицей "П" столами, уже ждут, перемигиваются, вертят в пальцах вилки-ложки, облизываются. Еда! Человечья еда! И отличаешься же ты от зверьей! От той добычи, что зверь в тайге али в пустыне настигает, наваливается на нее, когтями прожигает, зубами терзает! Зверю никто не даёт попить: он сам к реке бредёт, сам в ледяную водицу морду окунает. А вам, люди, мы, слуги ваши, всё на стол выставляем: и брусничный морс в кувшинах чешского стекла, и квас ячменный да изюмный, из погреба только, в расписной хохломской братине, и кофе африканский в дымящемся кофейнике; а уж о винах да наливках и речи не ведётся, как их тут богато, на раскидистых столах. Мне кричат: наиглавный повар!.. почему мясо-птицу не велишь подать!.. И то правда, думаю. Сладостями сыт не будешь. Яблочки без кожи да без семечек, отваренные в сахарном сиропе, варенье из ирги вперемешку с тёрном, мелко нарезанная сушёная свекла, вяленый чернослив в мисочках рядом с чищеными грецкими орехами. Закрыл глаза на миг и вспомнил кедр, его дары, орешки его мелкие, молочные, меж зубов втыкай и - щёлк!.. - и ядро, оно уж твоё. Маслом растекается по языку. Эй, мальчишки, всунув голову в раскрытую кухни дверь, воплю, вы несите скорей к Царскому столу дичь темномясую да приручённую птицу, кормленную варёным яйцом да старым огурцом! Взваром шафранным рябчика жареного полейте, окропите брызгами лимона. Вон она, фарфоровая тарелка с паштетом из гусиных потрохов, живо в залу тащите! А и самого гуся не забудьте! Ножонки на сребряном подносе вот как бесстыдно расставил! Жарили беднягу на вертеле, и жир капал с него в живой огонь, и на весь дворец умопомрачительно пахло праздником. А порося ведь тоже у нас прямо с вертела! Не гаснет огнь живой! Пища огня требует руками разожжённого, дровами насыщающегося, а не того, что течёт по запрятанным под землёю трубам! Ах, поросёночек, обложен ты стрелами лука изумрудного, усами капустки квашеной, дольками яблочек Райских... да румяненький же ты какой, да жалко же тебя как, а потом не жалко, а только, люди-люди, слюнки текут! Не утрёшься! Не подберёшь!
Несите, други, рябчика в гречневой россыпи! Несите куру во щах густейших! Несите утку, печёной грушей до глотки набитую! А Государю, Государю-то ставьте прямёхонько напротив его лика Августейшего - блюда рыбные! Рыба дорога. Рыба свежа. Ох, рыба знатна, только на Руси таковская в реках да морях и ловится!
Рыбонька с Волги, только сетью вытащена, ещё в телеге на морозе хвостами больно била, когда везли её во дворец, и тряслась телега на булыжниках, на замёрзлых камнях, и прекращала живая рыба биться и дрожать, застывая на лютом нашем холоду, выпучивая жемчужные, алые, небесно-синие глазищи. Рыбий глаз алмаз. Мешки денег иноземные купцы отдают, чтобы нашего русского, каспийского осетра купить, чтобы нижегородского судака или казанского сазана на кукан вздеть да к ногам повара швырнуть!
К моим... ногам...
Ах, Ксеньюшка, громаднющая та рыба была, просто невиданный, неслыханный Левиафан, когда её пятеро сильных, мышцами мощных мужиков мне на кухню под жабры волокли! А после как её топорами рубили те мужики, видела бы ты! И кровь из неё лилась, как из быка, разрубаемого пополам. И не было у нас таких чанов и котлов, чтобы погрузить её туда и сварить, на радость почтенной публике; и пришлось распиливать её на куски, и каждый тот кус еле в чан влезал, и бросал я в кипящую воду чёрные шарики перца, лакомства индусов, и лавровый лист из Киммерии, и серую горскую соль не щепотью - горстью, а рыба та зовётся белуга, в Сибири водится подобная ей рыбица таймень в сильных, бурливо текущих реках - Енисее, Вилюе, Каа-Хеме.
Я орал на всю кухню:
- Стерлядь, приготовленная на пару! Щука, на куски разрезанная и по иудейскому обычаю мясом, маслом и резаными овощами фаршированная! Пирог во весь Царский стол с сомятиной и луком жареным! Горбуша красная, солёная с брегов Амура, из неё же вытащена и наспех засолена икра алая, алее рубиновых сколов, всё на блюде длинном тащите, не уроните, посреди стола осторожно ставьте! Лещи копчёные, только в корзинах из Василя на Суре привезённые, подрумяненные, цвета коры дубовой, к поглощенью готовы! Сёмга да лосось! Где сёмга да лосось?! Где форель?! Мальчонки! Втихаря сожрали?!
Мальчишки смеялись, Ксеничка, да лосося резаного тащили, да балык сёмги на фаянсовом синем гжельском блюде из кухни выносили, по коридорам и переходам несли, в пиршественный зал, потупясь, смиренно вносили, а чудища уже ножами взмахивали, изо всех сил притворяясь людьми; да что там звери-чудища, человечек и сам поесть не дурак, еда - главное, что удерживает на земле даже безучастного, даже умирающего. Отчаявшийся человек объявит сам себе голодовку: умру от горя!.. - да час наступит, поест, и легче ему станет. И дальше живёт.
А я, Ксения моя, все дивился на изобилие пищи, челядью дворцовой потребляемой. Ведь только отзавтракали! И вот обед, сытнее некуда; а ведь и ужин впереди, и десять смен блюд должен я подать за часы ужина. Как в их утробы всё это влезает? Не было мне ответа. Я, особо стряпать не учёный, обучился за это неназываемое Время всему, что с едою связано.
Стоять некогда. Надобно лепить, резать, бросать в пузырящееся на огне масло, пробовать из ложки обжигающее варево, и снова кромсать, гладить, рассыпать, солить, поливать, брызгать, мешать, отбивать, и опять лепить, резать, кровью заливать, любить.
Так готовится в жаровне Мiръ.
Так быстро, жадно поедается он челюстями, клыками, жвалами, языками, глотками.
А Дух? О Ксенья, где же возлюбленный Дух?
По Духу, по воздуху, видишь, медленно Царица Небесная нежно ступает; идёт, руки раскинув, по снегам и пескам, по горящим углям и площадной брусчатке, вот на кухню мою, к раскалённым плитам, забрела. Тает в мареве страстного жара. Не спеша обходит вдоль стен закопчённый кухонный квадрат. Плиты золотом горят. Яства пылают, дымятся и зреют в кастрюлях, на сковородках. Есть ли Дух тот подлинный эфир междупланетный, что мгновенно разносит по созвездиям все мысли человека, все его жалкие сетованья и горючие слёзы? Оборачивает ко мне лик Божия Матерь. В руках Её лилия, тоньше льда, дрожат лепестки. И я закрываю глаза.
- Курник с ревенем и яйцами! Плов самаркандский с отборной бараниной! Пироги из теста песочного, рассыпчатые, с ломтями сыра внутри! Блины тонкие, будто китайская рисовая бумага! На деревянное блюдо блины кладите! Маслом, маслом топлёным не забудьте полить! А вот птички, воробушки да жавороночки, эй, пареньки, разложите на подносе как следует, красиво, чтобы как живые! Глазки ведь у них чечевичные! Клювики из корицы! А вот, да, летит ко мне сковорода! А на ней, осторожнее, масло ещё кипит-безумствует, помогите мне, гора жареных карасей из Царского пруда!
- А вина каковского прикажете к трапезе подать, господин Царский повар?
- А вина-то? Да вин у нас в Царских подвалах - пей не хочу! Вот и выберем сейчас!
- Вы и выбирайте! Вы тут главный!
Ксения, Солнце мое ясное. Я ведь до сих пор не привык, и никогда не привыкну к тому, что я на виду. И ко мне поворачиваются лица людей, как подсолнухи к Солнцу. Я не Солнце. Это ты Солнце моё. Но ты вот живёшь, по дорогам в мешке своём бродишь и о том ничегошеньки не знаешь. И не надо, чтобы ты знала. Любовь есть тайна великая. Она тайна для самого любящего, не только для любимого. Обоняй на расстояньи дух молитвы моей: смирну и ладан, и воскурения жаркие, там, за поросшим снежной полынью храмовым оконцем. Кто и когда нас повенчает в церкви? Может, никто и никогда. Солнце, Солнце нас повенчает. Ты странница под Солнцем. А Солнце есть звезда. Мы оба днём скитальцы под ближней звездой, ночью - странники под несчислимыми звёздами Рая.
- Романею добывайте из ящиков! Рейнское вот недавно купцы из Ганзы привезли!
- А наших, наших-то родных разве нету?..
- Как же нету, когда есть! Наливка вон малиновая! Настойка смородиновая! Красной смородины и чёрной! Водка хлебная! Водка яблочная! Водка сливовая, лучше водок всех!
Пусть возблагодарят Бога, что нынче не пост. И тем паче не Великий. Иначе никаких мясов-курей не волокли бы на пир!
Ксеничка, душа моя. Ты вот жизнь прожила, как и я же, по площадям шастала, по градам и весям слонялася, а не то чтобы не едала - оно понятно, - а и слыхом не слыхивала про такое ество: ни взвар сладкий с пшеном и с крупными ягодами черешен, сдобренный сладким южным перцем и шафрановым яблоком, ни горошек отборный, политый маслинным маслом, ни булка витая, щедро маковым зерном посыпанная, ни патока с резанным мелко свежим имбирём тебе, родная, неприхотливая, бедная моя, неизвестны навеки остались. И застыла бы ты, верно, в изумленьи перед трапезным столом, накрытым вышитой мелким жемчугом скатертью, где те яства в ряд выстроились бы, как на Войне солдаты: так и вижу тебя, глядишь на ту еду удивлённо, брови твои золотистые вверх, на лоб птицею летят, и радуешься ты, что человек сам себе такой радости наготовил, и понимаешь лучше меня, что это не радость, а прелесть, ибо чревоугодие, милая... и мать мне так из той толстой Книги Судеб читала... есть смертный грех... а кто же знает, какой из семи смертных грехов наитягчайший...
***
Солнечный мой, ты слышишь меня, услышь меня сейчас, мне худо одной, я устала переселяться в тела и души иных людей, устала странствовать по людским звёздам, мне внятнее теперь звёзды небесные. Василий! Я жизнь прожила. И живу сейчас, и я устала считать, которая она по счёту. Если бы ты попросил меня обозначить тебе твой путь по земле, я бы тебе с радостью рассказала. Но беда в том, что я вижу и твой путь потом, ПОСЛЕ. После того, как нетленныя кости твои засыплют землёй, мёрзлыми, твёрдыми как кирпичи, последними комьями земли-матери, и она обнимет тебя со всех сторон. Вдумайся! Люди погибают на Войне. Падают, подстреленные. Разлетаются в стороны, взорванные. Ложатся наземь с искажёнными болью лицами, отравленные газом. Люди людям дарят Смерть. А ты? Ты, провидец, носишь свою смерть в кулаке. Она тебе камень самоцветный. Она не даёт тебе сойти с ума, а удерживает тебя на острой опасной грани между мудростью и безумием. Безумие! Меня повсюду, где иду босою, безумкой называют. Я не ропщу. Я радуюсь. Всё иду и иду вперед. Вот сегодня ногами измерила землю между Градом Обречённым и сельцом безвестным. Люди в городе, среди каменных громад, не видели меня, а те, кто видели, плевали в меня и гнали меня. А когда я перешла по грязной скользкой дороге ночь и боль наискосок, я вышла на бедные избы сельца, и крестьяне выбрели из ветхих изб навстречу мне, охватили меня живым кольцом и пошли вокруг меня в хороводе, будто я была Рождественская елка. Как этот уличный праздник, в грязи, при дороге, отличался от враждебности каменного Града! Сельчане несли мне пироги с грибами, солёными огурцами и зеленым луком, варёные яйца, только из-под курицы, домашнее вино, горячие оладьи. Я ела у них из рук, как зверёк. Я и была в тот час зверьком, лесным, неприручённым, но так смело верящим людям! Я не вызываю ни в ком ненависти, милый! Тогда почему меня иные ненавидят? Может, я их зеркало, и я их отражаю, несчастных, и они ненавидят не меня, а себя, наблюдая себя во мне?
СМОТРИНЫ ЦАРСКОЙ НЕВЕСТЫ
Множество гостей собралось в Царском тереме на смотрины невесты.
Сначала Царь объехал на белом коне все площади Москвы; он желал их обозреть со времен возобновления Зимней Войны: горят ли костры, толпятся ли люди, бьют ли друг другу морды, встают ли друг пред другом на колени, рычат ли, яко медведи, танки, на площадь из серого волглого тумана вползая. Всё было, как предписано: костры горели, люди толклись мошкарой, нещадно лупили друг друга из-за повода пустяшного - кто у кого из кармана напёрсток стащил, кто кому в мочку рыболовный крючок продел; на колени друг перед дружкой вставали, прощенья просили, и танки из мрака надвигались, резали воздух ножевым визгом и пещерным гулом. Царь взирал на град свой Первопрестольный и радовался тому, что и он жив, и город жив. Москва не собиралась умирать. Как обычно, город стоял на краю Войны, над пропастью гибели; и, как всегда, смеялся радостно, встречая в виду смерти новое Солнце и встающий день. Это привычно было, и Царь не собирался менять традицию. Царь хорошо видел врага, даже не видя его воочию; он оценивал его силу, сравнивал его со своей, и сам себе говорил: да, сила родного его народа поборет любую силу, что накинется извне, пытаясь Царство Русское подмять и пожрать. Находились советники, нашёптывали ему на ушко: Царь, ах, Царь, да ведь никто тебя и наш народ не собирается резать-убивать! Прислушайся к послам иноземным, приглядись, бормотали, зришь, как вежливы с тобой они, как мёд неподдельный из уст их кувшинами льется?.. ну да, да, понимаем, дипломатия враньё, но нет в судьбе сплошного вранья, кое-где да истина ослепительно блеснёт! Ты, Царь, их не на поле боя перехитришь - умаслишь здесь, на голубом паркете, на полнощном, с синей искрой, лабрадоре дворцового бытия! Речью, речью побеждай! Кровью победить всегда успеешь! Зальёшь поля широкие кровушкой солдатской - что прорастёт?..
Царь морщился. Играл желваками. Улыбался тонко. Царедворцы не понимали только одного. Там, где сражение, там и победа. А победу после боя далёко видать. Слишком яркая она. Реет в ночи знаменем. И засмотришься на него, и оно, вымоченное в крови тяжёлое знамя, бархат красный, рытый, вдруг взовьётся, ветер его подхватит и затреплет, сомнёт гневно, а потом развернёт мощно, расправит. Всяк увидит. Даже слепой.
И вот, чтобы слепой - то знамя - увидел, и веду я, Царь, войну. Уразумели, приспешники?!
Кивали. Мелко подбородками трясли. С коня снимали, чтобы сапогом за стремя не зацепился. Под локти в терем вели, и одна за другой распахивались двери в расписные покои. Вот прошли спальней страха, вот миновали келью казней, вот прошли комнату Ада, все девять его кругов, прошагали коридором, где пушечные ядра и китайские ракеты летят со стен над живыми головами, и вот раскрыта настежь последняя дверь, и нога через порог перенесена, и в резкий обильный свет надо войти, и оглядеться, и торжественно, в приветствии радушном, поднять руку, и шире, шире улыбнуться, и увидеть все лица, кривые-косые, смуглые и иссиня-бледные, измождённые и кругло-сытые, кукольно размалёванные и зеркально-бритые, головы в касках и будёновках, карнавально завитые на горячие спицы и седые, старые, цыплячье-общипанные, жалкие; увидеть всех, кто видит его, и послать белозубую снеговую улыбку каждому, кто тут в его честь ест и пьёт, а ввели ли в зал и усадили ли за стол невесту, ах нет, великий Царь, с минуты на минуту ждём!
И ещё раз дрогнула закрытая дверь. Разошлись створки деревянными крыльями. Её не ввели на пиршество под белы рученьки; она шла сама, бесконечно, беспредельно, неостановимо улыбаясь, такой длинной улыбкой, что она срывалась с её раскрашенных рябиновой краской губ и медленно, радостно уплывала в темень за окнами, в слепящие грозди нависших над бокалами и салатами люстр, а сделав круг почёта по искрящейся хрусталём и фарфором зале, облетев круглый, рокочущий ропотом стол, возвращалась к хозяйке и намертво приклеивалась к дрожащему, ждущему рту.
Василий, в поварском белом халате, как не Царский повар, а простой московский лекарь, стоял близ дверей, борода его гуляла на свободе, а темя все равно покрывала высокая белая башня кухонного колпака. Он склонился в поклоне, когда невеста, в длинном платье ярко-синей парчи, вошла в залу. Она, не задерживая взор на слуге в белых одеждах, шествовала дальше, с пятки на носок, каблучок цок-цок, по радуге искусного паркета, по деревянной мозаике веков, и он увидел - спина красная, и кринолин сзади красный, и шлейф.
Цвет небес и молитвы, цвет Богородицы сменился огнём. Миръ поменялся на Войну. Ей всё понятно. Она знает тайну Двойного.
Свита еле поспевала за ней. Шаг её был весёлым и широким. Она сразу увидела Царя. Он стоял возле кресла, украшенного красными лентами и бантами: будто сотни красных птиц спорхнули с люстры и уселись на спинку и полированные подлокотники.
Стоял и будто ждал её. Или и правда ждал?
Он привык, что все всегда его ждут.
Невеста быстро подошла к Царю, прижала руку к груди и низко поклонилась. Не земным: поясным поклоном.
- Здрав будь, великий Государь.
- Здрава и ты будь, красна девица.
Она выпрямилась. Василий видел её профиль. Зелёный глаз горел аквамарином, ярко-рыжие волосы заплетены в косу, коса лежит на груди красной лентой: алое на синем. Красная молния в синей грозе.
- Твоими молитвами, Царь.
- Твоими молитвами, красна девица.
Как жадно она глядит на него. Обглядывает всего. С головы до ног. Глазами вонзается в глаза. Знает, как обиходить Мiръ Невидимый. Не еда, не питье ей не соблазн. Она сама соблазн. От неё самой Царь с ума сойдёт.
- Царь... бойся... по лезвию бритвы осторожно иди... невесомо беги... я тебя проведу...
Василий не слышал, что и зачем он бормочет бессвязно. Царь взял в обе руки руку невесты, наклонился и тихо поцеловал.
Василий видел, и все в застолье видели - девчонка ему понравилась.
Знатного рода? С улицы взята, приблудница, лицедейка? Давно ль её готовили Царю показать, так стряпают торт, пирог, ахая, охая, обмазывая верхний корж мёдом, старательно посыпая клюквой в сахаре?
Царь не стал тянуть кота за хвост. Схватил руку девицы и высоко поднял над пирующими.
- Внемлите все! Перед всеми в Царском дворце, перед всей Москвой белокаменной и краснокирпичной, стеклянной и оловянной, перед всею родною землёй, богатой и грязной, великой и нищей, ненавидимой врагами и нами до смерти любимой, объявляю: эта девица нарекается моей невестой и вскорости наречётся венчанной женой моей, великой Царицей!
Все повскакали со стульев и кресел. В руках замелькали бутылки шампанского. Пробки летели в потолок. Ударялись в стекляшки итальянских люстр. Бояре подставляли бокалы. Шипучий напиток лился, струи перевивались, запах давленого винограда разлился по шумной зале. Голоса сливались, катились, и Василию казалось - гремел, падая со скалы, водопад.
Жениху и невесте поднесли полные бокалы. Царь зазвенел бокалом о бокал наречённой. Она улыбнулась. Опять длинная, тянущаяся вдаль улыбка, тоньше нити, нежнее музыки, убегала с её лица.
- Не помнишь, как меня зовут?..
- Почему же. Помню. Здравие твоё, Катерина.
- Здравие твоё, Царь Иван.
Выпили.
Запрокинув головы, пили заморский смешной, пузырящийся напиток из цветных бокалов, в руке у Катерины ядовито-зелёный, в руке Царя огненно-красный, и, допив, невеста сказала:
- Ты будто кровь пьёшь. - Вздохнула. - Божию. Причастие. Кагор.
- А ты зелено вино. И очи твои зелены. Змеиные.
Оба тихо засмеялись, ласково. Смехом ласкали друг друга.
А потом сели за стол.
- Чего желаешь, Катеринушка? Всё у меня в Царстве есть, всё для услады и живота, и духа. Посуда, гляди, заморская, стекло да белая глина, а наша-то родная, древняная, сплошь ветками Эдема золотыми и клюквой камышовой разрисованная, тоже на столе! Блюда и тарелки отчего-то все любят оловянные. Я велю их расписывать по ободу позолотой. Художников много под мышкой держу. И богомазов, и посудников. Вина сегодня тоже буду пить, и велю то вино наливать в серебряный кубок, фиалом его иноземцы кличут. Гляди-ка, и рог изобилия нам с тобою водрузили! Вот, прямо перед нами! Золотой рог. Кисти винной ягоды из него до скатёрки свисают! Мандарины катятся... орехи золотыми глазёнками глядят... эй! - Хлопнул в ладоши. - Жареного павлина сюда! Моя суженая проголодалась!
Слуги, подобострастно приседая, внесли на огромном, как площадь Красная, блюде жареную птицу, румяная корочка маслено блестела, в жир гузна были воткнуты роскошные, темно-синие и слепяще-зеленые перья, на каждом пере горела, плыла, уплывала круглая, брюхатая, золотая китайская рыба.
Невеста повела глазами. Глаза тоже стремились уплыть с её побледневшего лица.
- Да ведь это же Птица Феникс, великий Государь. Она из огня возрождается. А ты её в огне сжёг. Огонь к тебе в гости, разгневанный, явится. Берегись.
Царь выслушал её, беззвучно смеясь. Одним глотком допил шампанское.
- Не боюсь огня. Я и тебя из огня вынесу, если огонь тебя обнимет.
Из-под стола, отогнув снежный водопад камчатной кистепёрой скатерти, вылезла девчонка. Тощие коски по плечам прыгают; тощие лопатки из-под холстины платьишка торчат; острые локоточки душный винный воздух бьют живыми молотками. Глазёнки слишком светлые. Такие у чаек-альбиносов бывают, оттого, что слишком долго, на лету, глядит птица в слепящие небеса. Девчонка, стуча по радуге паркета босыми пятками, резво подбежала к Василию. Дёрнула его за искалеченную руку.
- Эй! Дяденька! Ты тут Царю еду варишь-паришь!
Василий наклонился к девчонке и погладил её наждачной ладонью по гладко причёсанной русой головёнке.
- А ты откуда знаешь?
- Знаю!
- Угощайся! За стол садись! Прикажу тебе фарфор да хрусталь подать!
- Не надо, дяденька! Я сыта!
Глядела хитро, глазёнками посверкивала.
- Откуда я тебя-то помню?
Он лоб потёр, припомнить силясь. Пир гудел, стонал, охал, бокалами-рюмками звенел и ржал лошадино.
- Ниоткуда. - Она плела языком, будто чуть подпила и забывала, и коверкала, и на ходу вспоминала слова. - Ты по Войне всё плачешь? Брось! Она была, есть и будет! Её никто не убьёт! Даже я!
- Ты?.. - Он рассмеялся. - Ну ты богатырша!.. Я тебе - копьё подарю...
- Не надо. - Её лисье личико опечалилось. - Оставь себе копьё-то! Ты - на Войну пойдёшь! А я тут останусь, во дворце... и буду думать, думать, думать, думать... как Войну победить... нет!.. как людей победить... ну, чтобы они совсем-совсем другими стали... и воевать перестали... Правда... правда, для того люди должны жить не здесь... не на земле... а в другом месте...
Василий ниже, ниже наклонился к бормочущей небесную чушь девчонке.
- А где?.. Где?..
- В Раю...
Внесли два блюда икры - икры осетровой, цвета нефти, и икры красной, лососёвой, с Дальнего Востока, - и в квадратном железном коробе, покрытом цветной эмалью, студень из телячьих и свиных ног. Вносили окорока, кровяные колбасы, связанные тёмными липкими кругами, копчёную грудинку, нарезанный говяжий язык, залитый маслом, чесночным соусом и посыпанный мелко резанным репчатым луком. Вносили дыни и арбузы, среди зимы дивные; изумлённо, чёрными овалами открывши жадные рты, глядели на бахчёвые пахучие, громадные ягоды облачённые в атлас, кружево и модные смокинги важные придворные господа.
- Ух ты!..
- Ах ты!..
- Взрезать, взрезать вон ту дыньку, золотистую!..
- Господа, повремените, похлёбки несут...
Василий глядел внимательно, печально на всё это великолепие. Поднял седые брови домиком. Все мысли, которыми он думал думу теперь, отражались на его лице, бежали волнами, били в лоб прибоем морщин. Он глаз не сводил с невесты и жениха. Вон оно и произошло, вот и случилось. Когда свадьба?
Они сейчас шепчутся о свадьбе. Нельзя ему её за себя брать! Нельзя!
Он слышал, о чём они говорили, и не слыша их.
- Когда назначим свадьбу?
- Да что тянуть. До конца месяца. Зачем ждать!
- Ты права. Я не люблю ждать. Хотя ведь Царское ремесло таковское. Выжидать да внезапно стрелять. Чтобы все ахнули.
- Поняла. Если ты близко, покажи, что ты далеко. Если ты далеко, покажи, что ты близко.
- Что это?
- Китайская доктрина Дзэн-Шу.
- Уважаю китайцев.
- То-то на Москве любишь гулять, Царь, по Китай-городу.
- А ты меня там видала?
- Не раз. Я поблизости гуляю.
- Во храмы Божии заходишь? Службу стоишь?
- Нет. Я сама себе храм.
Она усмехнулась долго, нежно. Молчала.
Тощая девчонка с белыми косками подмигнула Василию и уползла под скатерть; из-под вьюжных камчатных кистей мелькнули её босые пятки.
Василий не осознавал, как от двери, где он стоял навытяжку, наподобие стражника с алебардой, он медленно, как во сне, в зазеркалье, нога за ногу, приближался к Царскому столу.
- А! - Царь обернулся, поигрывая серебряной вилкой. - Повар мой! Искусник! Умелец! Вообрази, Катерина, - обвёл весь круг стола растопыренной пятернёй, - он это все сам сварганил! Ну, не без помощи поварят моих, разумеется. Но какова живопись ества! Какая роскошь! Размах!
Рыжекосая невеста измерила Василия зрачками: туда-сюда, вверх-вниз.
- Ты молодец. Тебя как звать?
- Василий его...
Царь не успел договорить. Василий поднял десницу. Его будто кто вёл, под руки подталкивал, голос в нём пробуждал.
Ксения, спасибо, родненькая. Час пробил.
- Царь! Да, я повар твой! Но, Царь, пробил мой час! Разреши покинуть, Царь, кухню твою! И в ней дело поварское моё! А вели, Царь, мне пойти на Зимнюю Войну!
У Катерины глаза расширились, болотная зелень так и хлынула из них, затопила юрода; Царь плотнее сжал губы и зубы, молчал.
И Василий молчал. Он доподлинно знал: не надо слово ронять, ежели не просят.
- Будь по-твоему. - Царь сказал это слишком тихо, но через общий застольный шум и гам Василий всё равно услышал. - Времени не теряй. Собирайся. Нет ничего тяжелее и легче Времени. И камнем давит, и крыльями дрожит. Ступай!
Через всю пиршественную залу Царь перстом указал на дверь. Невеста тронула жениха за рукав.
- Кто же у тебя на кухне поварским делом будет теперь заправлять? А?
Царь усмехнулся, молнией мелькнула полоска зубов.
- Я сам.
- Не шути! Дошутишься!
- Пугать меня?!
- Я любя!
Лунно-круглое, румяное лицо Катерины сыпало смех, зелёные стрелы из глаз, щедрую, жемчужную, потустороннюю красоту. Рыжая коса развилась, красные волны заструились по плечам, по спине. Она взяла в горсть тяжёлые волосы и откинула за спину, как сноп.
Василий шел к двери.
Все, что происходило, было уже записано тяжелозвонкими, сыро-земными письменами в толстобрюхой Книге Судеб, что любила читать знахарка Марина: всё вышептала лекарка перед двумя жарко горящими свечами в мятной, ладанной полутьме нищей сибирской избы.
ВАСИЛИЙ НА ЗИМНЕЙ ВОЙНЕ
Солнечная моя Ксения! Ни сном, ни духом не чуял, что окажусь в сердцевине ужаса; но такова она, наша нескончаемая Зимняя Война, и таково, видать, мое предназначение - есть непреложный закон, по коему живого, с нежной кожей, с кроваво, пылко бьющимися потрохами, растерянного человека Бог помещает внутрь того, чего человек боле всего боится; так и я был помещён в точку наибольшего пламени и наисчастливейшей смерти. Счастлив на Войне тот, кто сразу умрёт. Без мук. Без проволочки. Быстро словит пулю, или на мине подорвётся, или бомба сверху накроет, всё равно. Тела нет, а душа либо в Рай, либо в Ад улетела. Да солдатские души в Ад не идут: грешник лютый, бияся в войсках, уже заведомо прощён, если он воюет за правое дело. Правое! Левое! Умные восточные люди не раз учили меня: есть и третий путь. Срединный. Италийцы именуют его - золотое сечение, либо число Фибоначчи. Золотое, серебряное... да хоть холщовое, да хоть угольное. Я нарушаю все законы.
И на Зимней Войне я законы нарушил.
Перво-наперво осмотрелся; должен был понять, почему я на Войне не солдат простой, а генерал; и в чём моё генеральство заключается, и как я должен окормлять моих солдат и офицеров, и в чём вся соль Зимней Войны, необъявленной и без видимых причин, и то и дело она накатывает чёрной волной на землю, заливает её кипятком, и, очнувшись в дыму и горечи разрушенья, понимают земляне непреложно, что не они тут хозяева, вовсе не они, а Тот, Кто выше их и сильнее, Кто не говорит, а только делает; и, понявши это, плачут люди горько, но тяжкого, необходимого труда Войны не оставляют. Всё для фронта, всё для Победы! Это и есть геройство. Без него на Войне нельзя. Как и без трусости: и солдаты, и офицеры тоже слабодушны бывают; но не может быть трусом генерал, и не может быть трусом адмирал, и не станет дезертировать с поля боя маршал, и никогда высочайший владыка, ведущий Войну, не сложит оружие перед врагом.
Ксенья! Что есть враг! Аз есмь грешный Василий, и жил я на земле, и по снегу босиком шагал, навроде тебя, родная, и воду пил из лужи, аки воробей, и сухою корочкой питался, и подавали мне из жалости. И гнали меня, и пинали в бок ногою, будто пса смердящего, и помоями из окна поливали, и пальцами под рёбра на морозе тыкали: ты, нагой дурак, спляши на снежку вприсядку, спляши! Но я чувствовал себя некоронованным Царём моих площадей, не венчанным на Царство владыкой всея Москвы, и ходил я по Москве, любовно раскинув руки, в объятии сём вечном от счастья тая, сердцем всё обнимая - и голубку малую, и башню высокую, до небес, алую, и ночь великую, звездноликую! Иные люди кланялись мне земно либо в пояс, а иные почитали меня врагом; но я-то ведь с ними не сражался. Моими врагами не были они! А я молился так: ну, ребята, коли я вам враг, так изничтожьте меня, забейте до смерти камнями, зарубите саблями на Красной площади, засеките алебардами, исколите кинжалами, - смерть мощна, смерть Царица одна, и меня не станет, и покойно вам будет, милые! Не слыхали они.
И тогда я об том молился молча. Неслышно.
А тут, на Войне, я генерал, и предо мною враг. Вижу ли я того врага в лицо? Вижу. А подо мной мои подначальные - железные танки и парни в них, танкисты. Когда-то войны вели всадники и лучники. Те войны и теперь идут; они просто, Ксенья, переселились в кудри облаков, в широкое слёзное небо, там тучи дождями плачут о них, молнии мечами сверкают и шашками, топоры ветров обрушиваются и миръ от Войны отсекают. А мы здесь нашу работу ведём.
Танк встает против танка. Железную броню обтекает вихрящийся снег. Танк такой горячий, что снег тут же тает, прикасаясь к нему, превращается в воду, и слёзы горячей воды стекают по железному, в окалине, корпусу, и не высунуться сейчас из люка бедняге танкисту, ибо идёт бой. И бой тот, Ксенья, веду - я.
Самое страшное, родная, на Войне, это атака. Ты солдат, впереди твой враг, и между вами никого, кто бы вас защитил. Нету миротворцев. Есть Тот, Кто превыше всех. Никто, как Бог. Бог устрояет войны. Я это понял лишь на Войне. Хоть и нёс я всю жизнь крест моего огня пророческого, но только здесь, в хаосе и жути, я понял ясность и судьбу.
Я ничего не знал про пехоту, про артиллерию, про сапёров; я узнавал это ценою крови, и я путал собственную кровь с пролитой кровью воинов моих. Так на Войне заведено. Крови мешаются. Нет различенья. Ты еси армия, и армия есть ты. Вас уже не разрубить. Твоя пехота должна дойти до линии обороны. Твоя пехота должна защитить твои танки. Смешно звучит, правда - живые маленькие, беззащитные люди должны защищать железные страшные громадины! Но это так и есть. Бескожие всегда защищают тех, кто в панцире.
Я научился прикрывать фланги. Я научился закреплять удачу моих танков.
У продвижения танков есть маленькие победы; настанет день, когда все победы соединятся и обратятся в одну большую, и железо рассядется, и из гигантской чёрной, бездонной ямы вымахнет к Солнцу нежный цветок. Победа не громоподобна, а нежна. Знай, Ксения, что Победа вся залита слезами. Вся мокрая, отчаянная, солёная. Живого места нет.
Движение! Танки мои движутся. Они идут только вперёд. Огонь! Танки мои стреляют огнём. Война это огонь, и надо это крепко запомнить. Первые дни, прибыв на фронт, я таращился на огонь, как на те ночные костры на площади Красной, помнишь? А надо мной втихаря хохотали солдатики: что, забоялся, генерал?! Гляди, любуйся! Это тебе не флажки на карте передвигать. Это - живая Война! Она в наш зимний Мiръ, как кошка, влюблена!
Только Бог всё видит и всё может, Бог всё знает-ведает, и на Войне каждую минуту и каждую секунду прощается со всеми.
Вера моя в тебя, родная, тоже Война. Вера моя в твоё прощение. Я всю мою предыдущую жизнь воевал противу сатаны за любовь людскую, а теперь, Ксенька, видишь, на новой Зимней Войне - за тебя. Верь, счастливая моя, я никогда не дам тебе погибнуть. Как молитву, повторяю, под гром орудий: всё будет хорошо, Ксенья, всё будет хорошо, авось Бог зла не попустит.
Перепутал я давеча все времена. А ты, ты у меня одна.
Я вот теперь думаю, что ежели бы Суворов либо Кутузов были живы сейчас, они бы на меня ополчились. Приказали бы меня солёными розгами высечь. То, что я говорю солдатам, нельзя говорить; то, что я на Войне делаю, нельзя делать. Я знаю, что нельзя. Мне этого никто не говорил, а я знаю. Все мои солдаты там, внутри танков, быть может, умнее, чем я. А кто глупее всех - меня не осудит. А кто добрее всех - пусть на врага крепко обозлится. Доброму трудно злиться, тяжело. Для него обозлиться - всё равно что себя самого в кровь избичевать.
Кто-то может сказать, что мой защитный колпак лопнул. Не железный колпак, какой мой дед Иван, страдая, носил! Нет. Иной. Иногда чую: будто вокруг меня невидимый громадный, в мой рост колпак, прозрачный овал, и сияет-переливается речным перламутром, и золотится на туманном, сметанном Солнце, а потом вдруг - щёлк! - и лопается. И вытекает наружу нежная вода, как из брюха у бабы при родах, и я, утирая слёзы, вдруг начинаю понимать всё живое. И с ужасом спрашиваю себя: как?! Василий, как же это?! Почему же ты, столь любящий жизнь и любовь, да кромсаешь жизнь направо и налево, да убиваешь любовь, расстреливаешь ее в упор?!
Негоже мужику плакаться. Главное дело - не во мне, а в герое. Он здесь, в моем танковом войске. И я его не знаю. В атаке погиб, или в тяжком бою, спасли, перевязали медсестрички, или так остался умирать, в полыхающем танке заживо гореть. Где он? Он здесь. Он есть. Он так и остался безымянным.
Жаль мне, что ты не видишь сей момент моих танковых полков, танковых батальонов моих. Думал ли я, Царский повар бессменный, палец в сладкое варево, в терпкий соус окунающий, что буду лик мой окунать в горячий ветер боя, буду выкрикивать хриплые, страшные команды, их не исполнить - себе приговор подписать! Танки ротами наступают, танки изрыгают огонь и беспрерывно движутся. Движение танка - его удача. Счастье его. Застывший танк - мёртвый танк. Мертвец, железным скелетом наружу. Вот взводы прикрывают товарищей мощным огнём; вот на чудовищной скорости взводы перебрасывают железные туши к новому укрытию. Быстрота, я им всегда ору, быстрота и натиск! Первейшие заповеди воина! Не соблазняйся, воин, на то, чтобы противника умертвить; ещё успеешь поразить его. Веди, солдат, огонь по цели, опасной для тебя. Её - изничтожь. Сожги в ржавые ошмётки пулемёты и миномёты, зенитки и ракеты. Твой огонь - драгоценный огонь. Веди его прицельно. Смерть, она тоже имеет начало и конец. Она тоже твоя задумка. Я, повар, варганил на кухне пирог и сперва задумывал его, и воображал его, и мысленно смаковал его. И ты, воин, вообрази поражение врага и твою победу. Большая воинская удача складывается из серебряной цепи маленьких побед на поле боя.
Не теряй, воин, из виду родную артиллерию - она твоя верная сестра, она подставляет тебе плечо. А вражескую артиллерию погуби! Уничтожишь её - враз ослабишь противника. Ах, Ксения, видела бы ты мою пехоту! Да танки, знаешь, опасны для пехоты; ежели неумело командовать, танки могут бедняжку пехоту запросто задавить. Танки слепы. Они железны, громадны, страшны и незрячи. Они не видят ничего. А люди, людишки такие крохотные рядом с ними. Жуки, пауки. Божии коровки.
Не медли, танкист! Ты не железная гора! Ты должен двигаться стремительно, неумолимо! Чуть замедлишь ход - и всё, ты легкая добыча! Ты, железный медведь! Я, живой медведь, вижу всё насквозь и командую тобой. Да, я повар Войны! Я сварю новое кровавое блюдо! Отлично глядится изжаренный враг на белых, заиндевелых подносах полей! Что, Ксенья, жесток?! Страшен, зол, отвратителен?! Однажды мне сказала старая бабка, в три шерстяных платка закутанная, нашедшая меня на Красной площади под фонарным столбом; она так сильно, мучительно вцепилась мне в плечо, синяки отпечатались на моей голодной коже: "Эй, лохмач!.. Ежели доведётся тебе с кем вести войнушку - сразу убивай вражину, не гляди на то, что он живой, как и ты же!.. Не жалей врага, никогда не жалей!.. Бей наотмашь!.. бей первым!.." Старуха, спросил я тогда, а что же ты, старуха, речь о таких страстях завела?.. глянь, денёк-то солнечный, снег весь в золотинках, в небе лёгкие облачка рыбами играют, синь чудесная густым вином прямо в душу пьяную льётся... а ты тут про Войну мне да про убийство! Эк тебя разобрало, старуха! Инда ты военачальница, что ли!.. А она, веришь ли, Ксения, на меня так возвела острый прищур, так зрачки свои в меня воткнула, что пот потёк у меня по спине, между лопаток. Да и процедила сквозь беззубые челюсти: "Вижу тебя, косматый ты голяк, в генеральских одежонках, на поле брани, и длань твою простираешь, и куда бить, солдатам указываешь. Так-то!" Она пророчица была, та старушня, так думаю.
Быстрота! Быстрота! Пехота, помогай нам, танкистам! Вот он, бой! Я его лишь в видениях созерцал. В зеркале ужаса. Наяву он ещё ужаснее. Пехота бросает гранаты, навостряет штыки. А танки прикрывают её огнем. В бою важно в своих не попасть! Спросишь, как я это делаю? С высоты наблюдаю. Сражение зрю. Волосы дыбом. Я не баба, очьми плакать не могу; сердце кровью плачет. Да в бою чувства исчезают. Все: горечь, жалость, боль. Может, лишь одно остается. Страх, обращённый в полное, безоговорочное приятие смерти.
Атака, вот что главное! Атака, наша вера, наш военный Бог! Вычислить слабое место врага, это надо суметь. Я - уже умею. И наносить в то уязвимое место мощный удар - отдавать приказ научился. Я уже крещён огнем,
Ксения. Я его, огонь, лишь на площадях видел: костры, костры горят, ночь собою возжигают! И я сам похож на костёр, борода моя огненная, волосья на башке огненными языками в стороны торчат, изгибаются, шевелятся, вздрагивают. Ночь седым золотом целуют. И знать не знал ведь, лунная, зимняя, бедная моя, что я в самой гуще Войны окажусь; и огонь буду вести из укрытий, и в чистом поле наблюдать режущие воздух полосы огня, и зреть, как огонь охватывает избы, овины, плотины, сараи и риги, бегущих людей, сухую, в инее, траву.
А иногда, знаешь, вражеские танки сидят в засаде. Вот это хуже всего. Ты не знаешь, где они. А тебе надо их обнаружить и стереть с лица земли, огненной ладонью смахнуть. И чтобы железные гусеницы во ржавь обуглились, в пепел истлели. Нам пасовать нельзя! Враг всегда чует, когда у противника является слабина. И твоя задача - не дать ему твой просчёт увидать. Ты - сильнее! Даже если ты слабее! Помни: уничтожить! Другого не дано.
Жалость? Снисхождение? Сочувствие? Чувствуй лучше свою смерть, боец. Не должен умереть - ты. А он - пусть умрёт.
Ксения, не удивляйся, не закусывай губу до крови. На Зимней Войне свои законы. Они не писаны никем. Они существовали изначально, всегда. Нигде, ни в какой древней Книге Жизни ты их не найдёшь. Ты их можешь только услышать внутри себя. По складам повторить. Пусть лицо твоё заливает слезами. Не отирай их. Пусть льются. Они смывают с души у тебя накипь столетий. Война обнажает всё забытое. Война говорит: вспомни огонь, ты рожала его, ты его выдыхала, ты спала с огнём, ела огонь и пила, укрывалась огнём, как сырою землёй. Ты с огнём в обнимку шла на таран, ты огнём умывалась, огнём утиралась. Ты мечтаешь о броне, а ты сама есть броня. Ты хочешь поливать вражеские позиции огнём, а ты сама есть огонь. Что нужно на Войне для того, чтобы себя почувствовать Войною? Понять: на Войне ты не живёшь. Для Мiра тебя уже нет. Но и в смерти тебя ещё нет. Война - междужизние, междусмертие. О ней плачут на твоей родимой земле. Её проклинают на земле твоего врага. А ты - между царствами. Не владыка ты и не смерд. Ты исполняешь Божию волю.
Война - Божий приказ, не человечий. Люди думают, что сами начали войну; кто-то первый начал, напал; кто-то первый закончил, попросил о замирении. Нет. Это не так. Не люди хозяйничают тут. Поле боя - Божие поле. Гибельный огонь - Божий бич, свистящий бич. Нет Господня приказа прервать бойню. И никто не знает, когда он раздастся. И раздастся ли.
Может, так нам, Ксенья, и суждено всю жизнь воевать. И всю смерть воевать.
А за что, спросишь? За какую радость? За какую погибель? За честь, гордость какую?
Не знаю ответа. И ты не знаешь. Если бы кто знал - нам бы шепнул, мы бы услышали.
Поклон тебе, радость моя, нижайший, до земли. Молюсь за тебя денно и нощно. Нет у меня тут зеркала, чтобы поглядеться в него и увидеть себя: да, и впрямь генерал, и генеральская форма на тощих телесах, как на высохшей доске, болтается, и орденские планки вот, и непонятно, за что мне их выдали: может, и правда я где в бою вчера отличился, да вот сегодня забыл.
КРУГОВРАЩЕНЬЕ ТЬМЫ
Круги вели вниз, всё вниз и вниз.
Круги сужались.
Василий шёл по ним, терпеливо, огибая опасную окружность, ступая осторожно, украдливо по самой кромке сырой земли, липко, глинисто раскисшей от оттепели, от странного среди зимы часто-мелкого дождя. Воронка вела вглубь, и кто её вырыл, яму, Бог весть, она размахнулась гигантски, по одному её краю росло мелколесье, другой земляной виток осыпался сырыми рыжими гроздьями и отсвечивал сгустками коричневой, запекшейся крови, а третий обод так и увлекал вниз, все вниз и вниз, скользкий, не устоишь, качливый, головокружительный, грязь тут обращалась в чёрные салазки и текла, ползла под тяжёлой ногою. Нагая земля! Она обнажалась перед генералом. Он оглядывался на ползущие сзади танки. Родимые танки, подначальные; он каждую машину знал наизусть, как песню. И, да, повторял цифры и буквы, её порядковое имя, шёпотом, боялся забыть. Хотя всё помнил.
Обойдя яму, в которой он имел великую возможность быть погребённым заживо, он возвращался к себе в землянку; его ждали донесения, сводки, ждал ординарец с дымным скудным обедом, ждал недолгий и тревожный сон, то и дело прерываемый грохотом канонады, и тогда он вскакивал с жёсткого походного ложа и лишь через два, три мгновения понимал: он на Зимней Войне, а не в ящике под фонарем на Красной площади, и не в Царском дворце в просторной кухне, где клубятся ароматы, пахнет ядовитой сладостью, бабьими духами и пригоревшим жарким, где на стальные настилы полов льется оливковое масло, старинное дражайшее вино из потайных подвалов и шлёпаются, на лету застывая, парафиновые белые капли с толстой свечи в руке дурака-поваренка.
Он теперь отлично видел, где у врага пробел, боевой прогал. В ту пустоту надлежало шагнуть и там всё взорвать, к лешему разнести, в клочья. Враг уже понимал: новый генерал не прост, с ним надлежит упрямо бороться. А может, и хитро. Василий держал себя так, что его и не перехитришь: он вёл бой слишком прямо, и враг покупался на эту жестокую, смертельную прямоту, а в это время издали, из-за ближнего чахлого леска, из-за кромки вниз ползущей, заколдованной грязи ударяли зенитки, летели мины. И вылетали на пустое, голое пространство сырого, оттаявшего поля до времени запрятанные Васильевы танки, и летел из их навострённых пушек огонь, сминая, выжигая всё живое и всё мертвое! Враг беспомощно отбивался. Силы были неравны. Враг бежал. Василий глядел на это бегство из-под руки, словно бы защищаясь ладонью от зимнего Солнца.
И внезапно перед ним явился мальчонка.
В первый миг Василий даже не понял, что к чему, зачем тут, на Войне, ребёнок, откуда. Мальчик стоял перед генералом навытяжку, будто взрослый боец, и серьезно, снизу вверх, смотрел на Василия, и глаза эти прощупали его до дна и высветили в нем то, что находилось под днищем телесной лодки и железной, бывалой, исцарапанной снарядами души.
- Эй! Ты кто!
Мальчик молчал.
Мне это чудится. Надо хлебнуть из фляги водки. Авось полегчает.
- Отвечай, парень! Не молчи! Кто тебя сюда прислал!
Вражеский лазутчик. Они нарочно детей подсылают. У детей память хорошая, всё, шельма, приметил, где мои танки хоронятся и сколько их. Ах, чёрт!
Он шагнул к мальчишке и схватил его за ухо под оттопыренной ушанкой.
- Разевай рот! Говори!
Мальчонка сморщился от боли. Молчал. Генерал выпустил красное ухо, повернулся к ординарцу.
- Павел! Выведи его в чисто поле и выпусти в него всю обойму!
- Не надо, дяденька. - Голос мальчика оказался чист и звонок, как весенний ручей. - Я твой проводник!
- Кто?! Что?..
Будто петлю накинули на горло Василию и стали душить; и нельзя было освободиться от неё, разодрать надвое отчаянными руками. Он шагнул к мальчику и положил руки ему на плечи. Сквозь рубаху мальчишки, сквозь истрёпанный бараний тулуп пробился мрачный огонь и обжёг генералу ладони.
Он такой же, как я. Мы одной крови. Куда он поведёт меня?
Мальчишка взял Василия за руку и вывел из землянки. Василий задрал голову и обвёл взглядом вечереющее небо. Мальчик пошёл вперед и потянул юрода за собой. Они оба шли, иногда спотыкаясь, промёрзлые, покрытые сизой бахромой инея, кочки катились им под ноги, генерал крепко, тяжело шагал в кирзовых сапогах, ноги мёрзли, оттепель заканчивалась, ударял безжалостный ночной морозец, и мальчик вёл его, вёл, все крепче в голую руку его вцепляясь, к ямине, к воронке той заговорённой, к этим кругам из подмёрзлой грязи, что уводили всё вниз и вниз, и надо было не сетовать, не роптать, а молчать и идти, идти.
- Ты не боишься?..
Нет. Не боюсь. Я уже давно ничего не боюсь.
- Я сам у Царя на Войну попросился. Не знаю, что тебе и ответить. Сегодня не страшно, а завтра страшно. Скажи, ты там уже был?
Он указал пальцем вниз, в чёрную дыру.
Мальчик тихо улыбнулся.
Они оба, крепко ухватившись друг за друга, медленно спускались в глубокую воронку от вражеского снаряда.
И больше Василий не спрашивал ничего.
***
Душа моя, родимый мой. Как ты там без меня? Время сжимается в комок, во влажный и холодный снежок, надо запустить им в широкое небо, сбить самую высокую, ярко горящую звезду, а я все медлю. Я вчера пировала, можешь вообразить, вместе с владычицей Ада. А все вокруг мыслят: она Райская птичка. Не все, кто красиво щебечет, Райские птицы. Я прибрела к Царскому крыльцу, я догадалась: тут, тут Царь наш живёт, хлеб жуёт. Меня сперва гнали взашей, потом вышла толстая, поперёк себя толще, судомойка, с мокрым полотенцем, через руку переброшенным, меня заприметила, возопила: эгей!.. ну-ка давай, подгребай!.. оголодала небось, вон какая худерьба!.. кожа и кости!.. ступай за мной, на кухню приведу, чудесами, что от пира остались, угощу!.. На кухню пришли. Я оглядывала всё жадно: это была твоя вотчина, родной, твои владения. Царство еды! Куда же человек без жранья! Жраньё, это же святое и всегда потребное. Оборви нить пищи и воды - долго не продержимся. Хотя иные святые, во пещеры забившись, мучили себя гладом и жаждою, ели дубовые листья сухие и подкалённую на угольях костра саранчу.
Толстуха хрипела весело: ешь, ешь, пока рот свеж, завянет - сам не заглянет!.. ешь, пока не посинешь!.. Передо мной расставили чашки-плошки, я запускала туда руки, пальцами хватала горячие и холодные куски; старалась вкушать яства чинно-важно, не торопясь, благородно. Да сбивалась на собачью жадность, на стыдную торопкость. Сильно голодна была. И быстро насытилась. Лик от мисок подняла. Облизнулась. Пробормотала слова благодарности; это все равно что слова любви. Человека прикорми - и он наполнится счастьем, как пустой сирый стакан - вином. Еда - знак добра. Приказ: выжить. День простоять и ночь продержаться. А тут, не успела я рот подолом мешка утереть, дверь в кухню внезапно, наотмашь распахнулась, аж об стену ударила молотом, и влетел Царский служка, и заблажил так, что вымытые бокалы и тарелки на железных полках мелко затряслись и зазвенели ксилофонно: "Тут ли у вас хоронится девка одна такая, эх, загадочная!.. Придурошная такая девка!.. Ходит в мешке, зайца носит в туеске!.. Её издалека видно: босоножка, ножонки от мороза красны, простоволосая растрёпа, ну дурочка и дурочка, расписная курочка!.. Откликается на имя Ксенья!.. Коли тут она прячется - изымайте её из укрытия да прямёхонько к Царю-батюшке ведите!.. Её сама Царская невеста желает видеть!.. свет-Катеринушка!.."
Толстуха-судомойка ухватила меня за шкирку и вытащила из-за стола с россыпью мисок и блюдец. Вот она, нате, ведите! Служка цапнул меня за локоть. Я послушно шла за ним, и я видела воочию суждённую встречу - я десерт, я закуска, а напротив меня та, что сожрёт меня и не охнет, и даже рот не утрёт. Я лакомство, что будет подано на Царский стол в числе других бессчётных лакомств.
Так оно и случилось.
Вошла. Служка лебезил, пресмыкался ногами чуть впереди. Я ступала сзади, осторожно, босыми ступнями по разнотравному, цветочно-радужному паркету. Жизнь преподносила мне новое видение, и я могла его расцеловать и к сердцу прижать, а могла плюнуть ему в харю, расхохотаться и выйти вон; да, меня бы догнали, плетями исполосовали, но ты же знаешь, Солнце моё, я смеюсь над болью, над рубцами и шрамами. Я оглядывалась по сторонам: вон сидит большая сахарная коврижка, и на груди у неё - герб златом вышит; вон орёл, тесто подрумянено, глаза птице умелою поварскою рукою из двух косточек урюка вставлены, в хвосте синие атласные ленты торчат и на сквозняке шевелятся, будто небесные рыбы в синеву ныряют; а вот и лебедь через все столы важно плывёт, крылья растопырил, белоснежный, сахарною пудрой, как первым свежим снегом, сплошь посыпанный, посеребренный. Голуби, попугаи, крохотные, как спелая сливина, колибри! И всё это люди, люди. Они квохчут и щебечут, головы закидывают и ржут, как стоялые кони, а то соловьём зальются, а то петухом закричат полоумно. Нет, какие люди, это всё еда! И вот он, посреди Царского стола, пирог очумелый в виде Кремля, по пирогу скачут конные и шествуют пешие, рассыпались по рынкам купцы, волокут товар, а по площадям ямщики лихие скачут, и заполошно звенят под дугою валдайские колокольцы; а вон и пушки со всех четырех сторон палят - и чем?!.. неужели сладким китайским рисом?.. неужели им, да, им, сибирским, масленым кедровым орехом... Сколько земель, столько яств. Сегодня от Кремля кусок отрезаем, завтра нас на этот самый стол возложат - во гробе: сладко ели и пили, а срок настал - опочили. И делу конец. И пиру венец.
Я слышала дальние, бешеные крики: цукаты!.. яблоки мушкатные!.. смоква!.. цитрон!.. вишенье вяленое!.. индейские бататы!.. мёды, мёды тащите, варёные и ставленые!.. а вот кваску, а вот кваску!.. им же и пахарь не побрезгует!..
Будешь что пить, спросил меня служка, подведя к столу; я видела, что для меня, грешной, уже и уготовано было место. Могучее кресло услужливо, изящно изгибало обитую красным бархатом точёную спинку. Клянусь, родимый, я безостановочно помышляла о тебе, о тебе одном. А на меня глядели сотни горячих глаз. О да, для них для всех я была чудищем с улицы, отребьем, наряженным в обноски с чужого плеча, в складской, грузчицкий дырявый мешок! Они усомнились, могу ли я говорить! Для них, да, для всех, Василий, я была живою человечьей медведицей, волчицей человечьей, невесть зачем вонзившейся в людское месиво горящим когтем! Я летела в них во всех живым копьём, и меня они стыдились, и мною наслаждались, и обо мне любопытничали, и кто-то уже кричал, приподняв жадный зад свой с бархатного насиженного кресла: эй, а вы заставьте её хоть словцо произнесть!.. может, немая она!.. - а кто-то таращился на меня в лорнет, будто я осьминожица какая, каракатица, а кто тянул ко мне жалкие руки: прикоснись, излечи, я же вижу, ты - чудотворица!.. ты - можешь!.. ты - излучаешь!.. ты не проклинаешь, а благословляешь!.. я же вижу, мы же видим... и эти отчаянные, тонкие, как спички, голосишки исчезали в накате визжащего прибоя: сюда!.. сюда!.. посадите Ксенью к нам!.. нет, к нам!.. к нам!..
- Сядь сюда, - услышала я надменный, звучный голос, - хватит шарить зрачками по лихолетью.
Совсем рядом сидела говорящая. Я скосила глаза.
Перед сказавшей мне эти слова стояла чашка крепкого чаю, и от чая поднимался аромат и лёгкий пар, зимний дым, и на фарфоровой чашке был намазюкан тончайшей колонковой кисточкой китаец, идущий по шаткому мостику, а под мостом высунул острую копьевидную морду огромный осётр; и я на сей рисунок безотрывно смотрела.
- Настоящий китайский чай, что зыришь, наглая, - говорившая презрительно окидывала меня с ног до головы холодным зелёным зрячим водопадом, - садись, не маячь, ты так напоминаешь мне его. Юрода Царского. Кто генералом теперь на Войне. Сядь! Живо!
О, я видела: она любит приказывать. И привыкла.
- Я Ксения, - сказала я тихо.
- Я знаю! - зло кинула она мне, собаке, кость крика.
- Госпожа... - шепнула я.
- Я скоро буду Царицею русской, - горделиво и кокетливо подняла обнажённое плечо говорящая. - А на самом деле я не сего Мiра владычица. И не Царя моего подвижная шея. На деле я владычица Ада.
Тут я шире раскрыла глаза и всю её рассмотрела. Бархатистая гладкость умазанной заморскими кремами кожи. На высокой шее нервно бьётся синяя кровеносная жила в виде трезубца. Глаз льдом блестит и зелено косит из-под рыжей, кольцами, шёлковой челки. В красный яркий пук на затылке собраны косы, заколоты длинными шпильками, стальными булавками, похожими на серебряных двухвосток. Алый, густо накрашенный рот горит зарёй, ползёт красной змеёй, восходит над копытно раздвоённым подбородком. Ух ты! Эк загвоздила! Ада властелинша! Куда хватила! Да для того, чтобы Адом владеть, нужно его из конца в конец пройти, все его круги! А сколько там кругов внутрь Земли уходит?.. а сколько крови, грязи потоками течёт, на наши щёки и ладони стекает...
Я лик не опускала.
- Ты, владычица Ада! Так и будешь во дворце, тут, жить? А ежели тебе - в Ад обратно податься?.. Заскучали там по тебе, видать.
Она побледнела сильней бурсацкого мела.
- Как смеешь!..
- Хочу и смею, - теперь уже усмехнулась я. - А кто мне душу мою из себя выдыхать запретит. Только Господь Бог. Да уж никак не диавол.
Рыжеволосая обвела рукою стол. Через силу улыбнулась. Её зубы молнией сверкнули в натужной улыбке.
- Что это мы, лишь свиделись и ссоримся!.. Вон взварец принесли, только с холоду, сладенький. Испей! Сама тебе налью. Как царевне! Не вздумай отказаться!.. Знал твой возлюбленный, как сей взварец готовят: мёду намешают, вина ромейского, пива добавят, настоянного на солоде, пряные коренья измельчат - и туда же бросят; ах, ковшик такого зелья изопьёшь - сердце само затанцует!..
Она своею рукой плеснула мне в расписную деревянную чарку из латунного ковша взварцу. Я глотнула. Прикрыла глаза. Так сидела.
А вокруг кричали: похлёбка!.. жаренье!.. холодный судак!.. каша с изюмом и вяленой дыней!.. кулебяка со стерлядкой и яйцом!.. мочёная брусника!.. - и несли, несли, несли яства, и яствами широкий ледник стола уставляли, мелькали пироги с вишней, цыплята в маринаде, красные масленые ломти сёмги, жареные окуни, варёная вязига, краснокирпичные горы раков, коричневые земляные катыши тушёных в сметанном соусе трюфелей, россыпи зелёных чищеных фисташек, лужайки малахитовых салатов, снеговое кружево цветной капусты, раскрытые створки устриц со скользкими, блёстко-подводными внутренностями, замжурясь, слижи, втяни губами, вдохни!.. - и грохотали тосты, произносимые высокородными устами на всё широкошумное застолье:
- Поднимаю сей бокал!.. за военачальника Паромщика!.. за великого купца Кротовникова, снабдившего нашу непобедимую армию множеством оружия!.. за нашу гордость, героя Зимней Войны Арцыбашева!.. славьтесь!.. процветайте!.. потрясайте подлунный Мiръ победами!.. за счастье!.. за удачу!.. за...
- Гляди-ка, как орут, - процедила рыжеволосая и отхлебнула из бокала: сделала крупный, жадный глоток, посмаковала чужедальний коньяк. - Ты никогда не помышляла, что Ад - это мы?
- Как - мы? И кто - мы?
Милый, из меня вырвался вопрос воробышком, вылетел, не поймаешь. Рыжая насупила тонкие изгибистые брови. Ноздри её раздулись, она подцепила серебряной вилкой с блюда изрядный кусок копчёной осетрины.
- Мы, нынешние. Нынешний Мiръ. Мы себя не осознаём. И где мы живём, тоже не осознаём. Нам чудится, блазнится: мы - в Раю! А ведь Адище вокруг. Прошлые войны забыли мы. Помним понаслышке. С временем вместе уходят и люди, кто бился, умирал, защищал. Их больше нет. А есть мы. Мы - само забвение. Забвенье живо, оно живёт в нас, на сгибах наших пальцев и локтей, в многозубье наших беспощадных улыбок. Мы улыбаемся сами себе, смеёмся чужому в лицо, но, если нам приказать вспомнить вчера, мы не вспомним его. Прежние войны! Разве ты помнишь имена героев прошлых битв?! Хоть одно вспомянь! Лоб морщишь?! Не можешь?.. Не можешь. Потому что стёрло уходящее к Богу время все твои письмена, все палимпсесты.
Я безотрывно глядела на вино, качающееся предо мною в бокале на высоком хрустальном стебле. Пол качался, и стол качался, и всё вокруг меня качалось, и я поняла: это не дворец, это корабль, и мы плывём, и сейчас особо долгая, длиною в жизнь, коварная волна возьмёт да играючи перевернёт посудину. И высыпемся все мы из разбитых, со звоном распахнутых окон наружу, и упадём на чёрный лёд и в пламень изобильных костров, и будет нам смерть от огня и мраза, от угольного крошева и седых, лохмотных ветров, и зима будет надувать ледяные бледные щёки, дыша в нас снеговым ураганом, и он немедленно обратится в снаряды и ядра, в бомбы и острые, смертно жужжащие пули.
- Зато я помню будущую Войну!
Я схватила со стола бокал и выпила. Пол качнулся, я пролила вино на камчатную скатерть и себе на колени, на рогожную мешковину.
Рыжая не удивилась; она усмехнулась. Её губы выгнулись красным охотничьим луком.
- Повтори!
Я не заставила долго себя ждать. Допила красное вино. Заглянула вглубь бокала, на синее стеклянное дно.
- Грядущую Войну, говорю, знаю. До капли. До струи крови. До горсти пепла. Всё помню. Всё. Не отъять. Эта битва уже была, а люди-то мыслят, она ещё будет. Нет. Всё уже расписано по нотам, по крюкам и знамёнам. Мы поём будущее демество. А нам мнится, прошедшее. Битва грянет жестокая. Пол-Земли в ней истает, испепелится. Мне один человек шептал: то грядёт битва Мары, и к ней надо быть вечно готовым.
- Мара, глупости какие, какой-то Мара!.. - Невеста Царя нахально жевала осетрину, глядя мне глаза в глаза. - Или какая-то, не знаю! Наплевать! Всё не так! Прискачут четыре коня, гнедой, каурый, вороной и белый! Белый, седой весь, заиндевелый! А всадник - скелет, с косой на плече. Конь Блъд, и Смерть на нём! Ясно?! А ты: Мара, Мара! Конец света, бродяжка, при дверях! А пока гуляем по Аду! По Адовым костям! По Адским кострищам, пепелищам!
Всё шаталось вокруг меня, но я указала на запечатанную бутыль, попросила взором: открой!.. - и сунулся под руку лакей, ловко бутыль откупорил, нам с рыжей щедро по бокалам разлил, - и я взяла бокал и встала за льдиною стола, и болтовня поутихла, и люди замолкали, оборачивали к нам лица, вертели в растерянных руках вилки и ложки, ждали.
- Я была в Раю. Я жила в Раю. Я знаю Рай. - Я обвела плывущим взором людской окоём, веки мои дрожали палыми, на ветру, листьями. - Я слышала Райскую музыку. Я сама пела Райские песни. Рай, он на колени вставал перед умирающим! Он сам, весь, всеми листьями и птицами, всеми яблоками и мандаринами, всеми радугами и молниями и катящимися со скал ледяными валами чистейших водопадов пел песню смертнику, пел живоносный кондак, полиелей, кровавую Осанну! Рай песней над уходящим - плакал. Песней над ним - за его хладным затылком - восставал! Плач, вот главная песня Рая! Колыбельная, вот причитание, молитва. А Война Зимняя, что она такое? Ад, и многорукий, многоглазый, и Ад ребёнка-Войну на руках держит, и ей, ей колыбельную Адову, оскалясь, мурлычет. А вы тут меня серебряными блюдами обносите, а с них сазаны золотыми хвостами свешиваются!.. мечете на стол предо мною розетки с паштетом из гусьей печенки!.. троянскую свинью под локоть толкаете!.. да мне не до ваших угощений, скорбные земляне. Да, скорбные, хотя изо всех силёнок, из кожи дрожащей вылезая, вы делаете друг пред другом вид, что пьяно-весело вам, что празднично вам, довольнёшенько!.. Мы - в Аду. Я, первая насельница Ада, перед вами! Я измерила жизнью трущобы. Я сращивала в подворотнях переломанные позвонки. Я руками, да, да, вот этими руками заталкивала в разрезанное брюхо моё лиловые, кровящие мои потроха! Тело, тело... Тело есть Рай, пока оно цело. И тело есть Ад, когда оно раскромсано на куски! Когда ты - живой - нежный - ясный - верующий - трясущийся - молящийся - несчастный иль счастливый, становишься едой! Да! Едой! Еда - заклинание Ада! Мы - яства на пиршественном столе богов! Поле военное, поле битвы - земляной стол, щедро накрытый на пол-Мiра! И воспоём над пиром Райскую песню! Каковы словеса её?! Вы помните?! Помните?! Гром победы раздавайся, веселися, храбрый росс!
Гробовое молчание поднималось мёртвым глашатаем из-за стола. Я понимала: мои речи про Ад люди умом впивают, а сердцем отталкивают. Никому неохота во Царствие навье.
Царская невеста Катерина слушала молча. Голову наклонила. Бахрому скатёрки разглядывала, пальчиками снежными перебирала. Висячая серьга, похожая на мёртвую ящерицу, жгла ей туманную щеку. Вдруг шепнула:
- Ксенья, я на Войну поеду, там генерала твоего разыщу. И соблазню. Не собой, нет! Безмерной глубиной ямы моей. Великим огнём Ада моего. Он поймёт: выше Ада ничего нет. Ад сожрёт всё. И Землю, и людей на ней, и времена, и нравы, и светлый Рай. Да, Рай, дорогая, это тоже пища! Ему не устоять. На зубах косточки Райских птичек захрустят. Райские стрекозы, Райские бабочки, горностаи и соболя дровами полетят в Адский костёр! И ты, ты первая станешь близ того костра танцевать! Огонь Ада - он извивами, изгибами бешеных языков повторит твою дикую пляску!
Я выше подняла бокал, налитый кровью, и крикнула:
- За наш родимый Ад, чтобы он - Раем глянул!
Смутно, как сквозь погребальную пелену, я слышала стук стаканов, колокольный звон бокалов и рюмок, одинокие вопли, восторженные восклицанья, поросячий визг, пронзительный бабий плач. Человечий оркестр зазвучал, загремел, глотки запели и взмолились, горящее хрустальное крыло люстры накрыло нас, а мы всё кренились и летели, вбок, вдаль, вверх, а может, вниз, я шатнулась и чуть не упала, рыжекосая снизу вверх насмешливо глядела на меня, я по складам читала в её глазах приговор. Мне. Тебе. Мiру. Всему сущему. И я знала, что она поедет, полетит, побредёт к тебе на Войну. И найдёт тебя. И выстрелит в тебя лягушачьей зеленью радужек. Василий! Ты ведь столько веков ходил пророком по площадям! И вот ты на Зимней Войне, и вот Царица Ада прибудет пред лицо твое - тебя судьбою мерить, тебя всеобщей смертью опьянять. Сошьёт тебе зимнюю гимнастёрку из жухлой болотной травы, накинет на костлявые плечи твои широкий вьюжный плащ! И не отвертишься ты. Как, чем спасу я тебя?! Каким шёпотом молитвы последней?
Прерви на миг Войну. Прибудь ко мне. Хотя бы мысленно, призраком. Будь со мной. Рядом. Так вместе по площадям пойдем, побредём. Только змеюке не дайся. Не гляди ей глаза в глаза. Поглядишь - не выплывешь. Так в Адовом болоте и захлебнёшься.
Лишь один Царь может приручить её и выдрессировать её; на то он и Царь. Ещё увидишь, на что Царь способен. Цари на Руси всегда сильные бывали. Даже измождённые. Даже безумные. Даже умоленные. Даже юродивые. Как ты, свет мой.
ТРОЕ В ВИДУ АДА
Она выросла пред ним из-под земли - из-под зыбучего, сыпучего ржавого наста, унизанного жёсткими перлами навек застывшей снежной крупки - из-под сплетения ивовых корней - из-под необъятных пней-выворотней, сходных с обгорелыми морскими, многоногими спрутами; выросла и задрожала, заискрилась, захохотала нежно, неслышно, закидывала голову, поводила изумрудами очей туда, сюда, словно искала и не могла его найти, ах, вот же он, я так долго приценивалась, примерялась, а вот поди ж ты, из грязи в князи, рос-рос и вырос, и к присяге подоспел, и над танками начальником встал, ишь, посреди Зимней Войны ногами в сапогах - в горелую землицу упёрся! Ну-ка, ну-ка, поглядим-ка, как ты мне - мне!.. - сопротивляться будешь: я не воин, не солдат, ни шагу назад, я не начинаю жизнёшку с нуля, я сама - нуль, зеро, красное зерно, в пашню, размахнувшись, бросишь - морями крови хищно прорасту!
Он глядел на неё, а вот не надо было глядеть: в раскосые, широко подо лбом стоящие, пылающие закатной зеленью глаза, на бархатный пергамент намазюканной телесною краской скулы, на кровавое коралловое ожерелье, тесно обнимающее ствол шеи; он - через неё - на всю её жизнь глядел, и он знал, что происходит, зачем её жизнь внезапно оказалась перед ним и широким журавлиным крылом наложилась, наслоилась на его непонятную жизнь; он понял: его хотят захватить, он - вражья сила, он - земля, кою необходимо повоевать, и вот-вот это случится, не отвертеться, и только молиться и радость призывать, его чудо, его упование и спасенье.
Ксенья. Не покидай. Не дай меня ей. Спаси и сохрани. Ксенья, ты ведь голос Господень; я слышу тебя всегда.
Чудо явилось. Тесное пространство его военной землянки раздвинулось, раскрылось прозрачным, многолепестковым веером. Расцвела землянка чёрной нимфеей. Рыжекосая женщина сделала шаг к нему, а он спиной, лопатками увидел, как сзади, из дышащего небытия, из прогала краткого Мiра и вечной Войны, выступила другая женщина в ободранном старом, из-под картофеля, мешке, мешковина разлезалась под руками, под веками, и смуглое тело просвечивало сквозь ветхую рабочую сеть измызганной ткани; женщина шагнула к нему, и шагнула ещё, и вот она уже за его спиной, подошла вплоть, он чует её горячее дыханье, слышит простудные хрипы в её лёгких, ощущает тонкий, чуть слышный запах озёрных кувшинок от её развитых, распущенных по плечам и спине, золотых, со щедрой сединой, волос.
- Ксения!..
Рыжая тоже шагнула вперед. К нему.
И тоже слишком близко встала. Грудь к груди. Живот к животу.
Его гимнастерка едва не запылала, не вспыхнула зарёй от жара Адова.
И сзади шёл живой жар. То струилось солнечное тепло. Благодать. Телом, как и губами, тоже можно целовать. Бездвижным телом можно сражаться: оно замрёт в великом покое, но там, за спиной, душа раскинет широкие крылья.
Две женщины стояли друг против друга, а посредине - бородатый, косматый святой генерал Зимней Войны: под перекрёстным огнем Ада и Рая, под огненным дыханием благодати и проклятья.
ТРОПАРЬ, ГЛАСЪ ОСЬМЫЙ:
Житіе твое, Василіе, неложное, и чистота нескверна, Христа ради тѣло твое изнурилъ еси постомъ и бдѣніемъ, и мразомъ и теплотою солнечною, и слотою и дождевнымъ облакомъ, и просвѣтися лице твое, яко солнце, и нынѣ приходятъ къ тебѣ Россійстіи народи, цари же и князи, и вси людіе, прославляюще святое твое успеніе. Тѣмъ Христа Бога моли, да избавитъ ны отъ варварскаго плѣненія и междоусобныя брани и миръ мірови подастъ и душамъ нашимъ велію милость.

ФРЕСКА ТРЕТЬЯ. ДЕТИ В АДУ
Ибо для счастия созданы люди,
и кто вполне счастлив, тот прямо удостоен сказать себе:
"Я выполнил завет Божий на сей земле".
Все праведные, все святые, все святые мученики были все счастливы.
Ф. М. Достоевский, "Братья Карамазовы"
(РИСУНОК В КНИГЕ ЖИЗНИ:
РЕБЕНОК С ВЫКОЛОТЫМИ ГЛАЗАМИ)
ВАСИЛИЙ СПУСКАЕТСЯ В АД
Я шёл по Войне, как по воде.
Я уводил людей и самого себя от Войны - и я приближался к Войне, ибо видел: без Войны люди никуда, и сам я никуда, и мои пророчества живут только благодаря Войне.
Я понимал: Война есть зло, но как же прожить без зла на широкой Земле? Тогда мы зла от добра не отличим. А может, и отличим? Может, нас, горемычных, всю жизнь этой ложью кормили: свет - мрак, жизнь - смерть, Миръ - Война?
Я шел по Войне, и я уводил душу мою туда, где ей надлежало быть: я с этим послушанием родился, я понимал: мне надо излечивать, гладить по головам, по окровавленным лицам, горько улыбаться тем, кто не то что смеяться - словца произнесть не может, ибо отрезаны, вырваны языки их.
Я шёл сквозь крики и длинный бесконечный, вечный стон, сквозь отчаянный щенячий визг - так человек блажит перед смертью, - я шёл к тем, кто погиб, и вставали предо мною ушедшие, тесней смыкался их строй, и я шёл мимо них, как от века генерал идёт перед солдатским строем, перед взводом и ротой, перед многоглавым батальоном, обречённым на смерть в ближнем бою, я глядел им в глаза и не мог им солгать, и я неслышным, горячим шёпотом говорил им только правду. Война. Вы все умрёте. На Войне всегда важно знать одну истину: завтра я умру. Нет. Сегодня. Меня не станет. Но я умру во имя Родины моей.
Я шёл и глядел в лица моих солдат. Они стояли передо мной навытяжку, в шатком строю, а как будто спали; сапоги их облепила жирная грязь, родная земля, они глядели мимо меня и поверх меня, и я понимал: они знают всё о своей завтрашней смерти. Я набрал этих солдат из тех людей, что были приговорены, за решёткой сидели, срока мотали. А я глядел на них так, будто всем им был отец и всех их, без разбору, любил. И всем надо было отменную еду приготовить. И всех до отвала накормить. И всех приголубить, по затылкам погладить. Моя шершавая, как рашпиль, ладонь, вся в земле! Я генерал, это значит могильщик. Я убиваю Войну. И я её всё время хороню. А ведь она, Война, моя первая любовь. Я помню, как она явилась; раздался взрыв, и небо осветилось; до дна озарился бешеным светом безумный Мiръ, и я почувствовал себя таким древним, ветхим, древнее ископаемого чудовища в пустыне, древнее звёзд, что сияли, когда нас ещё не было на Земле.
Я шёл вперед, и я хотел, чтобы за мной шли люди, и они снимались с мест, выходили из строя и шли за мной, и видел я зрячим затылком: они без жалости оставляют в прошлом своём надежду свою, и они идут за мной, не зная, куда я их приведу, а через миг, равный вечности, уже зная об этом.
Я шёл, и я хотел оглянуться назад, на людей, идущих за мной, и сказать им: не ходите за мной! не поддавайтесь соблазну моему! туда, куда я иду, ходить нельзя, запрещено!.. - но они упрямо шли, и не мне было их остановить.
Остановиться и я не мог. Мне было страшно.
Но ты, Ксенья, ты шла тут, близко, рядом со мной.
Ты не держала меня за руку, а будто держала. Так тепло, тесно, будто пальцы переплелись и слиплись, я ощущал твою руку; я задирал голову, над нами сияли полнощные звёзды, сверкающие ягоды в чёрной траве, и поле становилось то молчащим в ночи полем сраженья, и всюду лежат вповалку убитые и раненые; то заснеженной равниной, без единого зверя, без затерянного человека, и воет метелица над белыми холмами, душу рыданьем вынимает; то площадью широкой, и мы опять с тобою, родная, по той площади идём и глухим людям в уши - их жизнь выкрикиваем.
А они и слушать не хотят. И не слышат.
Во звёздных небесах мерцали знаки. Звёзды горели то светло, то черно. Складывались в слова. Я, задирая башку, их читал, ледяной ветер развевал мои косматые власы, и я шептал тебе беззвучно: Ксения, страшно мне, - и ты поднимала ко мне лицо твоё и улыбалась мне в ответ: не бойся ничего, нам с тобой уже поздно бояться.
Ты говорила: не бойся, ступай, всё вниз и вниз. Мы с тобой идём туда, где мало кто из живых побывал. Владычица Ада хотела тебя туда повести? А видишь, веду я. Я тебя защищу. А она, низведя тебя во Ад, мечтает тебя сгубить; будь твёрд душой, отринь страх, ступай тяжко и прочно, плотно приминай сапогом родимую землю, вминай стопы в её текучую, липучую, сладкую грязь. Земля - застолье. Она яство. Её надо приготовить: в котле - врагу, а потом черпнуть воды из кровавой реки и сварить на костре ушицу.
Для всех. Для нас, для них.
Мы шли вдвоём по полям Войны, будто по Белой площади. Сегодня Белая, завтра Красная. А ещё через миг - Черная.
Ты мне шептала беззвучно: нет страха, нет боли, душа твоя тверда, и только сердце плачет.
И я слышал это.
И ты шептала мне: ты увидишь мучения, ты узришь безумие, будешь созерцать не людей, а тени, только не выпускай руку мою, только не отпускай.
И так же беззвучно я отвечал тебе: да, не выпущу никогда.
По полям, в логах, перелесках, оврагах, яминах лежали люди. Мы спускались вниз, всё вниз и вниз, и я слышал громкий плач и тихий всхлип, и ни одной звезды не горело над нашими головами, а было так светло от снега, будто в сердцевине Млечного Пути мы шли, медленно шагая, как в далёком детском, позабытом сне.
И, слыша чужой плач и ловя дыханием чужие горькие слёзы, плакал я.
Я слышал, как рвалась чужая странная речь, как громко, неудержно вскрикивали люди, выпуская из груди последний крик, крик сожаления по утраченной Земле; люди бормотали, сетовали, проклинали, гордились, клялись, рыдали, благословляли: жизнь, Царя, Войну, Победу. Люди умирали внутри веры своей и уповали, что воскреснут, Господу подобно. А кто и не верил. Отрицал. Отвергал Мiръ, в коем погибал, и самоё смерть. Ярость мешалась с лютой болью. Ужас - с воздыманьем, в последней любовной ласке, слабых, как атласные тонкие ленты, умирающих, лебединых рук. Жальба и гнев застывали в объятии. И всё округ меня и под медленно, тяжко идущими ногами моими, в тяжелых армейских сапогах, сливалось в общий страшный, без конца без краю, гул, и века бурлили в небесном котле, как моё невероятное, безумное месиво, - я, сцепив голодные зубы, медленно готовил его на Царской кухне, - и, съединившись в булькающую солдатскую кашу, в чудовищный кровавый кулеш, века прекращали быть Временем; Время умирало, исчезало, а взамен обваливалась мгла, налетал последний вихорь, и кто-то дальний кричал, я различал слова: "Не вдыхайте!.. только не вдыхайте воздух!.. закройтесь!.. накиньте на себя простыню!.. накиньте одеяло!.." - и вдруг все эти разрозненные крики слетались, сбивались в один страшный, мощный хор, и вопль хора сметал с лица Белого Поля все сухие ветки и обмёрзлые скелеты недавно живых существ, людей, зверей и птиц, и оставался один крик - голый, длинный, отчаянный, неутолимый крик, вынимающий нутро, заклинающий, проклинающий.
Я спросил тебя, Ксения: отчего так мучатся они?.. - и ты ответила бесслышно: они умерли, а небо их не принимает, и земля тоже, и они летят и кричат между небом и землей, и ждут своей участи, и не знают её, и плачут по ней.
Я попросил тебя: дай я в лицо им загляну, неведомым мученикам!.. - но ты потянула меня за руку, говоря мне пожатьем твоей руки: идём, идём, не останавливайся, остановка смерти подобна.
Я увидел вдали новое заснеженное поле, одно из череды бесконечных земных полей, мы подошли ближе, и я понял: это не поле, а площадь неведомого града, вот разрушенные башни Кремля, вот осыпаются прежде самоцветные купола, ставшие пепельными, пыльными, угольными. Руины! Вот что видел я. Как отомстить? Как воскресить? Это плоды Войны, понимал я, и Зимнюю Войну было не отодвинуть, ни слабым ладоням одного человека, а хоть бы даже и Царя, и генерала, ни могучей многолюдной армии, вооруженной до зубов, ни целому народу, отлитому в кузне времен в единый, неподъёмный великанский молот.
Мы уже шли по выжженным стогнам, среди руин. Я узнавал площадь в лицо. Вот здесь горел особо мощный, до небес, ночной костёр. А здесь в сугробе я просил милостыню. Я остановился и задрал голову; генеральская ушанка, с красной звездой, свалилась в сиротский снег с моего затылка; передо мной возвышался взорванный храм, и я узнал его в лицо.
- Ксенья!.. глянь, наш собор...
- Не смотри. Не останавливайся.
Она тянула меня вперед, но я застыл и не мог шевелиться.
- Гляди! Вон туда!
Я прищурился, поглядел и увидал хоругвь.
Хоругвь, чёрно-синего шёлка, нещадно мотал и крутил снежный ветер, и лик Спаса Нерукотворного, вышитый на ней, то кривился в плаче, то таял во всепрощающей улыбке, то грозно, страшно супил брови.
- Войско!.. Моё!..
- Да нет. Не твоё, любимый.
- Вижу, люди идут!.. Много людей! Толпа!..
- То не люди, Василий. Они давно мертвы. То бесплотные души их, скиталицы.
Я глядел, и я понимал, то сон, я сновижу, и Ксенья сон видит со мной, и выбраться из сна наружу я не могу, ибо Зимняя Война, должно быть, тоже сон, да и я сам себе снюсь, а вот Ксения, она тут единственная настоящая, юродивая моя.
- Они все мертвы?.. Но их тут тьмы тем...
- Да. Все.
- И что, они на Войне погибли?..
- Да. На Войне.
- Зачем они близ нас вьются?.. Зачем за нами влекутся?..
- Мы у них между небом и землей одни остались.
Хоругвь рвал ветер, бил снегом мне в лицо и Ксенье, и ближе подступали призрачные люди, и я тщетно шарил зрачками по их худым, голодным прозрачным лицам - вот знакомые черты, вот этого я знавал, а вот этой даже руку целовал... - да!.. тебя узнал!.. и тебя!.. и тебя, мой солдат, танкист, погибший вчера при штурме зимней белой, хрустальной высоты... в смерти тот, кто был ничтожен, станет важным и нужным: кому?.. Богу?.. людской памяти?.. но ведь память пропадёт, растает, память, ведь это тоже снег, и наступит новая весна, и отхлынет Времени ледяной прибой, и забудут новые люди, как тех, прежних, звали, и что они, неведомые ушедшие, великого или гадкого совершили...
Ещё круг. Ещё виток. Мы спускались всё ниже, и люди, шагавшие по площади, покорно, послушно шли за нами, мы с Ксеньей были полководцы, а бесплотные души - наши солдаты, но не было у них бесплотных танков, и бесплотных копий, и бесплотных ружей, и бесплотных гранат, чтобы врага взорвать и себя геройски подорвать; и за ними, людьми-призраками, летели, жужжа и кусаясь, призрачные осы, прозрачные ядовитые пчёлы, ледяная, трещащая громкими крыльями саранча, и ближе призраки подбегали, и я мог уже рассмотреть их перекошенные лица, уродливые, мученические, истомлённые: по щекам, вдоль морщин, прорезанных диким резцом ужаса, стекала тёмная кровь, капала на грудь и плечи, пятнала снег; я догадался, они плакали кровью. Снег под их голыми ступнями закручивался, сворачивался в живые, шевелящиеся клубки, я видел, как снег обращается в тысячи белых змей, червей и ящериц, обвивает бегущим щиколотки и пятки, и сонмы гадов всасывали в себя призрачную синюю, метельную кровь.
- Ксения! Зачем они за нами!..
- Не отталкивай их. Мы их вожди. Мы магниты их. Мы, того не желая, притягиваем их.
- Чем?!
- Жизнью.
- А куда мы сейчас?
- К реке.
- Я генерал! Я не могу оставить войско!
- Ты и не оставлял его. Гляди. Оно впереди.
Все вниз и вниз, и река уже блестела там, за поворотом, за обрывом, по нему сползала косами, слезами, кровью грязь и алая глина, осыпался на ледяной заберег кусками горелого ржаного ломкий уголь. Все вниз и вниз, мы спускались осторожно, вцепившись друг в друга, и, о чудо, к берегу сама собою подплыла чёрная просмолённая лодка, Ксения глянула на меня мгновенно и остро, из-под серебряных от инея ресниц, седые пшеничные волосы вились у неё по спине, ласкаемые ветром, босые пятки она вдавливала в грязь обрыва, пытаясь не упасть на скользкой от застывшего наста тропе, и всё-таки выпустила руку мою и упала, сначала на колени, потом набок, лик её горестно искривился, волны невыплаканных слёз затопили его. Я наклонился, ухватил Блаженную мою под мышки и тихо поднял; я поднимал её, как флаг. Да, она была моя хоругвь. Так бы нёс и нёс её, по берегу реки Адовой. До самого смертного часа.
Лодка, разрезав пласты шуги и сала, ткнулась носом в запорошенный небесной солью берег, ждала.
В ней некто сидел. Я только что разглядел его. Жил там, ёжился, горбился, молчал.
Грел дыханьем заскорузлые, корявые корни-руки.
- Ксенья!.. Там человек!..
- Нет. То не человек. Страж. На границе мiровъ всегда есть страж.
- Как говорить я буду с ним?..
- Молча. Стражи понимают язык молчанья.
Сидящий вскинул седую голову. Как же он был на меня похож! Я думал, я гляжусь в зеркало речного льда. Он глядел молча, сквозь меня, дикими, красными глазами, и глаза его кричали: "Я возьму с собой в ладью толпу умерших! А тебя не возьму, и твою сумасшедшую тоже! Вы оба - живые! Вам со мной нельзя! Нельзя!" Я глазами кричал ему в ответ: "Я не покину моё войско, хоть бы оно и погибло всё, до человека! Я не оставлю любовь мою! Видишь, я держу её за руку! И буду так держать всегда! Всегда!"
Ксения подняла ко мне нежное лицо. Я глянул ей в лицо и разом разглядел все мелкие морщинки, что на светлый лик её сетью набросила беспощадная судьба. Из небесных ярких радужек лились на меня молочные лучи Всевышней радости, и здесь, в Царстве скорби, я удивлялся, как же душа живая ещё может светло и странно радоваться.
- Садись в лодку.
- Как! За нами целое войско спешит! Перевернется посудина!
- Мы все уместимся. Не утонем.
Я разбил тонкий хрусткий заберег ногой в чугунном сапоге, подхватил Ксению под колени и под лопатки, легко поднял, будто это она была призрак, а не все те, что кучно толпились вслед за нами, и, ступая по воде, перенес мою драгоценную ношу в лодку. Старик угрюмо выстрелил в нас зрачками, когда мы усаживались в лодке; он молча пробормотал мне: "Ждём, пока подначальное мёртвое войско твоё всё в моей ладье не рассядется. Тогда поплывём".
С обрыва, покидая руины испепелённой Белой площади, скатывались призраки. Они набивались в лодку всё гуще, теснее, их туманные лица сливались в одно, их сцепленные руки перевивались и срастались, они обвивали друг друга руками и телами, подобно снежным змеям, и я переставал различать их черты, свет горьких улыбок и блеск белков. Скоро только свет нательных крестов остался в тумане, обнявшем ладью; крестики горели звёздами, перемещались в сумрачном воздухе зимними светляками, падали, осыпались, тихо звенели, превращались в музыку льда, в тайную зимнюю симфонию. Перевозчик вскинул костлявые грубые руки и мертво вцепился в весла. Взмахнул деревянными ложками. Они тупо ударились о тонкий лёд, расколотили его, потом нащупали воду и погрузились в неё. Лодка, тяжело гружённая людскими судьбами, оттолкнулась от берега, развернулась и медленно, обречённо поплыла, оставляя за кормой непроглядно-смоляную, воронкой крутящуюся воду.
- Куда мы плывём?..
- А тебе не всё ль равно?..
- С тобой хоть куда.
- Вот и славно.
Я ловил глазами и ртом бегущую, летящую улыбку Ксении, понимал: только так она улыбается только мне, даже Господу Богу она, внутри молитвы, не так улыбалась, - а старик рыбак грёб и грёб, выгребал, перевозил на тот берег невидимые, изобильно нагрешившие души, да, так тут он, старый раб, сотни, тысячи лет служил, подрядился переправлять с берега на берег и мертвецов, и живых ни за что, за так, кто грош сунет, кто сохлым пирогом оделит, мы отплывали от берега, а там, на берегу, я видел, собралось новое незримое войско, и моё оно или чужое, я уже не знал, я глядел сквозь толпящихся призраков, сквозь их слёзы, стоны, вопли, они размахивали руками, лодочника к себе призывая: куда!.. куда!.. вернись за нами!.. не забудь нас!.. спаси нас!.. - а мы уже выплывали на самую стремнину, на середину реки, тут клубились и широко раскачивались погибельной нефтью масляные волны, в непрозрачной, траурной воде нельзя было разглядеть дно, лодка разрезала воду, как нож - последнее земное живое страдание, лодка удалялась от прошлого и ещё не достигла будущего, да и настоящее, обнимая её со всех сторон текучей водой, уходило за корму, мгновенно уплывало навсегда, без возврата, - лодка была живым существом с деревянными жёсткими боками и смоляным брюхом, мы с Ксеньей сидели на доске, крепко обнявшись, вокруг нас слились в один ледяной ком все наши покойники, и так мы, живые, ехали во Ад среди мертвецов, и шелестели мёртвые сухие листья, и издавали вой мёртвые железные трубы, и рвал посреди фарватера вьюжный зверь сильными ледяными зубами нашу последнюю воинскую хоругвь, да, я ещё видел её, густо-синий, ещё чуть, и чёрный шелк, золотное шитьё, сияющий лик Спаса, Он мрачно, гневно свёл брови, круглыми, совиными, всезрячими глазами произнося наш Последний Приговор; и дунул могучий красный, огненный ветер, и достиг лодки, и вмиг сжёг последнюю военную хоругвь, как добытую на знатной охоте рухлядь, и поджёг власы Ксении, седым златом разбросанные по плечам её и спине её; и смеялась она, голыми ладонями небесный огнь убивая, и всё крепче обнимал я её, боясь за неё, молясь за неё, и разум от любви потерял, пока лодка по стремнине плыла.
***
А на том берегу нас ждала рыжая Царская невеста.
И я даже представить не мог, что она скажет нам, когда мы с Блаженной, исхлёстанные ветром и брызгами, выбрались на заледенелый песок из смолёной лодки и так стояли, и вода, как кровь, стекала у нас по ногам, а старик рыбак сильно, мощно отгрёб от заберега, вонзив весло в донный ил, и поминай как звали, а рыжекосая красавица, страшная Царская возлюбленная, стояла у кромки дегтярной воды и ждала.
Она ждала нас. Мы - не ждали - её.
- Что ты делаешь тут, Диаволица?
Ксения закрыла меня грудью, будто я был ребенок её, а она Медведица была таёжная, грозная, и от выстрела охотницы защищала родного медвежонка.
- Хорошо, что за словом в карман не лезешь, Блаженная, чтобы ко мне по имени обратиться.
Усмешка изогнула накрашенный чужой кровью рот.
- Где мы?
- Вот и ты голос подал, бывший Царский повар. В Аду, где же ещё.
- Живы ли останемся?
- Да ведь вы уже неживые.
- Врёшь, красотка!
- Может, и вру. Участь моя такая, врать, когда никто обмана не ждёт. Ступайте за мной!
Теперь рыжекосая была нашим злобным проводником. Воеводой нашим, шутом и палачом. Она вела нас по Аду, время от времени оборачиваясь к нам и презрительно улыбаясь нам, презрением, как хлебом - голодных, и ободряя, и полосуя, как нагим ножом, молчаливых нас.
- Что, юрод? Напророчился всласть на площадях своих? Видел, что сделалось с Красной площадью твоею?
- Видел. Да воскреснет она, испепелённая. Как Бог, воскреснет. На третий день после Зимней Войны.
- Эка хватил! Это тебе так хочется. А судьба инакую песню поёт. Думаешь, что всё вечно? Что Родина вечна? Что народ вечен? Что площадное вече - вечно? И что твой дар, да, пламенный дар твой пророчий, Медведь-нагоходец, - вечен?! Наивный! Несмышлёный! Дитя ты. Старое, мохнатое, бородатое дитя. Вечный медвежонок ты, от сосцов Медведицы-Земли насильно отнятый! И тыкаешься, тыкаешься носом - в небеса! Давай! Переставляй ноги шибче! И бабёнка твоя пусть не плетётся лениво! Иначе не успеем!
- Что - не успеем?..
Мороз затягивал мои щёки, оплетая их паутиной боли, забвенья.
- Спуститься до самого дна!
Вокруг нас троих поднялся пугающий гул. Тяжкий, толстый тёмный звук, на грани слышимости, на исходе чувствований. Я будто спал беспробудно, и вот услышал сей гул и проснулся. Мы трое, Ксенья, Диаволица и я, стояли на обрыве. Внизу, под нашими ногами, уходила в бесконечность пропасть. Разевалась пасть подземного чудовища. Земля могла быть не матерью, но хищницей. Со дна пропасти поднимался густой красный туман воплей. Крики то приближались, то удалялись. Слов не разобрать.
- Кто это кричит?..
- Замученные! Запытанные в застенках! Убитые в подворотнях! Погибшие на Войне! Во всех, ты, генерал блинный и винный, войнах земных! Что молчишь?! Губы кусаешь?! Где же твои пророчества?! Где твой блаженный Божий дар?! Ледяной болванкой застыл! Во снежный влажный шар скатался! Онемел! Разум враз растряс! Вьюгой по ветру развеял!
Я, Василий-площадной-Царь, неумеха-генерал, мастер придворной жратвы, шел за рыжей белолицей девицей, Ксению рядом ощущал всем телом, сердцем и духом, и понимал: мы от Мiра зрячих нисходим в Мiръ слепых, и вот они, поднимались из тьмы, круговращались, летели округ нас громадным, слепленным из незрячих тел, орущим и стонущим живым кольцом. Я впервые видел так много народу сразу. Будто вся Земля тут мне её людей показала. И, мёртвые, ожили они; и круговой ход их, течение сотен тысяч тел вокруг нас, по орбите горя, был подобен ходу планет вокруг нашего единственного, бедного светила. Я глядел в небо, да неба не было уже. Искал глазами Солнце, и Солнца не было.
Была только зима. И Война. И мы, Адская троица, идущая в никуда.
- Ты, пророк нищебродов. - Рыжекосая остановилась и чуть обернула лицо ко мне, не глядя на меня. - Пророчь, коли можешь! А не можешь, навеки заткнись! Перед мощью Ада гибнут все людские потуги. Они все, катящиеся змеиным нагим потоком перед тобой, слепы! Не видят ничего! Им только лишь больно! Больно! А ты знаешь, боль есть любовь! Лучше, чем кто-либо, ты знаешь это! Взгляни на израненную руку твою! Ты изгрыз её, чтобы, подобно медведю, выбраться из капкана, во имя свободы и любви!
Я поднял изувеченную в незапамятной дали руку и рассмотрел её. На мне раны зажили как на собаке. Уродливые, вздутые шрамы исполосовали плоть вкривь и вкось. Да, я вылез из капкана. Я прогрыз до кости плоть руки моей. Я разбил молотом наручник, чуть не перебил себе сустав. Помню тот день: снег, метель, крики торговок, я кладу руку в серебряном ободе на рыночный камень, на коем рубщики кромсают мясо, в искусанной руке у меня молоток, я взмахиваю им и ударяю. Искры из глаз. Искры - в лицо мне - от железа и камня. Наручник, расколовшись в сочлененьи, там, где защёлка замка, падает в снег. Я поднимаю освобождённую руку к синему горячему небу и кричу хрипло: люблю тебя, Мiръ!
Рыжекосая обдала меня кипятком взора, ненавидяще, невидяще скосила глаза на робко стоящую рядом Ксению.
- Что зыришь, смиренная?! Притворщица! На деле ты смелая! Наглая! Храбрая! Как и я же! Так будь такой! Будь самою собой! Глядите на полёт тех, кто погиб от любви!
Летели мимо нас голые древние царицы, великие блудницы, я не знал их имён; летели и улетали, кувыркаясь и вращаясь в пространстве, в довременную тьму, медицинские сёстры и санитарки, походные жёны солдат и офицеров, застреленные, взорванные, замученные врагом; летели славные воины - и обнажённые, напрочь израненные, и в златых доспехах, в рваных гимнастёрках, в бархатных плащах, в изрезанных мечом кольчугах, и жалкие людские тряпки на лету срывал с людей палачий звёздный ураган; буря несла во Времени и в безвременье всех великих любовников, кого мы, люди, ещё помнили, и тех, кого мы напрочь забыли, навсегда. Вот говорят, когда человек умрёт: Царствие Небесное и вечная память! Кто будет вечно тебя помнить?! Кто имя твоё кровью запишет у себя на дышащих рёбрах, на кровавом сердца мешке?!
Я пытался схватить глазом хоть одно знакомое мне лицо в круговерти тел и лиц. Вот мой солдат! Нет. Вот мой майор! Мой полковник! Мой денщик! Нет. Я не знал этих людей. И все они, летя мимо, были неуловимо и бесповоротно похожи на меня.
Прошло ещё два, три мига, пока я понял: все они, все летящие, все клубки и завихрения мёртвых слепых телес, всё это - я, я один, и нет мне конца и краю, и гляжусь я в вечное моё, тысячеликое зеркало, и в нём себя не узнаю, а вижу лишь известную, одинаковую во все века судьбу мою.
Хитрый, ползучий шёпот раздался рядом, лёг на плечо, гладил раздвоенным языком мой молчащий рот.
- Хочешь узнать, как погибнешь?.. Я знаю. А ты?.. А ты?.. А ты?.. А ты, пророк площадной, юрод сугробный?.. Знаешь?..
Я повернулся к рыжей спиной. Глядел на Ксению.
- Знаю. Да не хочу сие от тебя слышать. Вперёд!
И мы опять пошли вперёд. Все вниз и вниз.
КРИКИ АДА
Я шёл, глядел и запоминал.
И две женщины рядом со мной, Царственная, в богатых, расшитых серебром и самоцветами нарядах, и нищая, в картофельном мешке с прорезями для головы и рук, шли, не отставая.
Перед нами, среди летящих голых тел, внезапно вспыхивал костёр на площади, и на том костре сгорала привязанная к столбу несчастная; она сгорала от любви, от навечной с любовью разлуки. Пролетал нагой парень, револьвер чернел мёртвой железной вороной в его судорожно сжатой руке: вот сейчас, через мгновенье, он выстрелит себе в висок, а может, в грудь, туда, где ещё бьется, умирая от любви, бедное сердце. Замирала на обрыве баба, скидывая с себя ситцевые жалкие тряпки, чтобы голой в объятья смерти впорхнуть, когда будет лететь в родимую реку с глинистого крутояра. Они все погибали от любви, зачем же тогда люди любят? Чтобы умереть? Любовь и смерть, как близко они летят, как рядом, вот в полёте крепко обнялись, не разнимешь рук.
И тут я увидел.
Я увидел в многоглавой, многорукой, многоногой толпе несущихся умалишенно мимо нас человечьих тел - нас с Ксенией.
Да, себя и Ксению увидел я, и почему-то израненные мы были, иные раны зашиты наспех военным хирургом, иные разверсты и кровят, оба голые, летим, обнялись, улыбаемся друг другу, хоть лица наши мокры, сплошь залиты слезами, но это не слёзы боли, это слёзы счастья и чуда. Зачем, в каком зеркале какого Времени я увидал нас? Кто просил показать нам нашу боль?
- Ксенья, ты видишь?..
- Видит она!.. Видит!.. - Рыжая нагло хохотала, в голос: кричала хохотом, клеймила, бичевала. - Ещё бы не видит!.. Она - раньше тебя вас увидела!.. Любуйтесь, голуби!.. Не уйдёте ни от Войны, ни от смертушки!..
- Но мы ещё живы. - Я выталкивал из себя хрип: так медведь зализывает рану. - И я сам знаю, как умру.
- И она - знает?!
Рыжекосая показала пальцем на Блаженную и засмеялась пуще.
Ксения наклонила голову. Из-под края мешковины торчали ее вечно босые, легкие ноги, красные на морозе, как гусиные лапы.
- Глядите лучше! Глядите в оба! Вы здесь, в Аду, в первый и последний раз! Когда вы, вот в этой толпе слепых, будете лететь мимо других, живых нищих юродов, вы Ада - не узрите! И Землю - забудете! И Рая - не припомните! А снег-то, гляньте, валит железный! Настоящий военный! Ты же сам хотел, генерал, чтобы снег - шрапнель! Чтобы метель - мокрыми верёвками! Чтобы буран - белым огнём из огнемёта! Выслужиться перед Царём хочешь?! Или сам, на Зимней Войне, власть поиметь?! Сам себе - Царьком - над солдатами твоими - стать?!
- Эй, ты! Смирно! - Я выкрикнул это рыжей, как команду перед строем, грубо, громко, звонко. - А Царь наш знает, где мы сейчас?! А мы, мы - знаем, где сейчас он?!
Рыжекосая широко, зверино распахнула травные, болотные глаза. В них ходила, бурля омутами, вода, шли косые дожди, тонула всякая надежда.
Она медленно прикоснулась к моим лохматым прядям, развеваемым ветром. Потрогала погон на моём генеральском кителе.
- Я знаю, где он. Я вас к нему приведу. Но сперва идите и смотрите.
И мы шли и смотрели.
***
Снег бил в бубен земли вперемешку с дождём; и вот уже грязная, вонючая вода обильно полилась сверху; и дождь шёл, подобно нам, быстро, тяжело, скользя по грязи, стекая по рёбрам и потрохам ржавой кровью.
Дождь хлестал нас по щекам, и в грудь, и в спину, дождь шёл вечно, от него не было спасенья ни теперь, ни потом. Дождь сменялся крупным градом, градины, величиною с перепелиное яйцо, били нас по плечам и затылкам, мы напрасно защищались ладонями, приседали, втягивали головы в плечи, сутулились, поднимали к небу согнутые локти: град избивал нас, оставляя на теле кровоподтеки и царапины, и из шелестящей стены военного града выбегала собака, разевала дикую пасть, и из пасти её вырывалось лютое, бешено-красное пламя, опаляло нам колени и щёки, бежало к нам быстрее ползущей змеи и поджигало грязную сивую траву вокруг нас, грубо наваленные доски, стальные сетки, битые кирпичи, всю разруху Войны, что и сюда, до глубин Ада, добралась; пес лаял захлёбно, у него шаром вздулся жадный живот, он на глазах превращался в жирного чернобородого мужика с руками-брёвнами, мужик всё так же по-собачьи лаял, и всё так же непотребное пламя рвалось из его безобразно раззявленного, с зубами расчёской, рта.
- Это сторожевой пес Войны. Он защищает Войну. Он будет её всегда охранять! Не обращай внимания! Ступай!
- А это кто?..
Я застыл в изумлении.
Посреди Ада передо мною, перед нами троими, расстилался необъятный, накрытый снеговой скатёркой стол: земляной, широкий, оснежённый, Белое Поле безумного пира.
Люди, подобно пчёлам или жукам, обсели огромную столешницу и ели, ели, ели. Жрали. Беспутно. Уродливо. Бестревожно. Истерично. Отчаянно. Важно. Всяко. Поливали устрицы белым вином, и бутыли дрожали в руках. Я узнавал мои излюбленные блюда, они же и Царём любимы были бессрочно: вот похлёбка из рябчиков в большой фарфоровой супнице, и на белом фарфоровом боку нарисован охотник с ружьецом в руках; вот баранья нога в сладком сливовом соусе, а вот поросёнок-матрёшка: я помню, как я готовил его: сперва брал анчоус, вставлял его в крупную оливку, оливку вкладывал в жаворонка, жаворонка в толстую перепёлку, перепёлку впихивал в куропатку, куропатку помещал в фазана, фазана еле втискивал в жирного каплуна - и, в конце концов, вталкивал каплуна в молочного поросёнка. А теперь порося на вертел, а теперь изжарить его до победного румянца! И вот он, мой славный поросёнок, на длинном серебряном блюде лежит; неужто я его не узнаю? Мою поварскую руку не узнаю?! Да того поросёнка придворные на куски хищно разрезали, разрывали! Еле успевали до ртов, до зубов куски те донести! Вот, вот он, посреди снежного стола!
Гурьевская каша в огромной алюминьевой миске, и сквозь манную белизну грецкие орехи просвечивают, синий изюм мелькает, резаные персики и груши в сахаре. Сыр сорока сортов, тонко порезанный, на глиняном крестьянском подносе: козий голубой, с зелёной плесенью, густо-жёлтый, янтарный, с дырами величиной с кошачью лапу, мягкий как масло, смрадный как солдатский носок, в красном воске, в прикопчённой корке! Свинина жареная, свинина тушёная, свинина солёная, свинина горячего копчения: я знал, как красивее её порезать, как изящным веером разложить на плоских блёстких тарелках. А вина, вина! Не счесть бутылок и графинов вдоль по скатерти метельной! А кто люду наливает? Да он сам себе и наливает. Жадно крючья-пальцы вцепляются в горлышки бутылей. Успеть! Не опоздать! Я первый! Нет, я! Скорей! Плесни! А то всё выпьют до меня! Без меня...
Жизнь, это шумела и жрала жизнь. Человек не может без еды. Царь мне сказал однажды смешливо и назидательно, палец подняв указкой: ты есть то, что ты ешь. Я поглядел на Царя спокойно и ему не поверил. Царь, разве он непогрешим? И Цари могут ошибаться. Ему передали эти мусорные слова как мудрость, а он повторил их как свою волю.
Люди пировали, а я глядел на них, и я понял: чревоугодие, вот что это такое. Потому они все в Аду. Жраньё, смертный грех. Да почему же грех? Разве создать еду - не искусство? Разве сварганить, состряпать вкуснятину - не благо?
- А сколько голодных, генерал. Сколько умирающих с голоду. По всей Земле. Подумай о них. Представь их. А ты готовил Царский пир! Приготовь пир на весь Мiръ - и я скажу тебе тогда твою последнюю мудрость.
Я отвернул лицо от шумящего, звенящего пира.
- Мою мудрость мне напоследок могу сказать только я. Я сам себе мудрость, Диаволица. Сам себе еда. Сам себе, да, Царь. Да, слушай это! Я не служка. Я служу Богу. И народу моему. И Времени. Да я и из Времени монетой выпадаю. И ты не подберёшь меня из грязи: в звёзды укачусь!
Я пошёл вперед, и женщины потекли за мной ручьями, богатейка и нищенка, и я шёл быстро, ногами в обляпанных грязью сапогах Адов воздух загребал, и сзади, в речном холодном тумане, оставались и пир, и стол, и буранные кисти скатерти камчатной, и жаренные в сметане белые грибы, собранные в Твери, и стерлядка, выловленная в солнечной щедрой Суре, и кислая капуста из Тулы вперемешку с красными катышками клюквы с Пелус-озера и коралловой россыпью саянской брусники, и грузди из Самары, обильно политые постным маслом, в глубоких фаянсовых мисках, и ягодные кисели с каширским топлёным молоком, налитые в стеклянные кувшины, и мелко резанная севрюга с Белого моря, украшенная свежесорванным укропом из Коломенского, и дымящийся, с пылу-жару, рассольник, солёные огурцы из Кинешмы, подобно зелёным рыбам, вольно плавали в нём; и пирог с сомятиной из Казани, и пирог с подберёзовиками, собранными в орловских лесах, и пирог с костромскою иргой, и пирог со сладким творогом из Курмыша, и самый у меня красивый получался, в полстола, пирог с вишеньем из Курска, увитый крест-накрест полосками песочного теста: будто вишню в тюрьму бросили-заточили, за решёткой сидит, а мы сейчас пирог куснём, новую жизнь и свободу, хохоча, праздновать станем! Всё это, еда и кухня, было моей родиной и моей школой. И всё оказалось смертным грехом. И за всё надо было у Бога прощения просить. Ну ведь не у этой же красноволосой змеи! На Царя она имеет право; а на меня - нет.
- Пошла прочь.
- Что, что?!
Я прошёл вперёд ещё немного, встал, обернулся к рыжей и спросил:
- А Царь там? На пире? За спиною остался?
Рыжая усмехнулась.
- Нет. Он - нас - впереди ждёт.
Мы опять двинулись вперёд, и перед нами замаячила разрушенная маленькая церковь, одна стена обвалилась от взрыва, три других ещё держались, осыпаясь. Мы подошли ближе. Ксения задрожала.
- Не ходи туда. Не гляди туда.
Я подошёл, с трудом распахнул обожжённые двери и переступил порог. Женщины тихо вошли за мной. Внутри погибшего храма сидели дети. Они были ещё живые. Зачем я смотрел! Зачем слушал! Нельзя было. Надо было послушаться Ксению.
Закопчённые кирпичи. Крошево каменной пыли на треснувших плитах. Около Царских Врат, измазанных подсохшей кровью, сидел мальчик. У него не было руки. Культя кровила. У него не было даже сил плакать, он только беззвучно кривил окровавленный рот с выбитыми зубами. Обгорелые фрески виноградом вили на стенах довременную славянскую вязь. Перед мальчиком застыли две девочки-близнецы. У обеих были выколоты глаза. На полу валялся солдатский штык, которым это проделали. Девочки тонко плакали-выли, на самой тоненькой, запредельно высокой, небесной ноте. Звук истаивал под раненым куполом. Ближе всех к нам, вошедшим в храм, сидел совсем малютка. Года два, три, может, стукнуло ему, не больше. Его голое тельце было изрезано ножом. Кровь запеклась. Он напоминал пергамент, сплошь исчёрканный красными, чёрными письменами. Уставился на нас пустою пропастью взгляда, глаза его молчали, стеклянные, хрустальные белки не двигались в глазницах.
- Всё это сделала с детьми Война, - тихо вымолвила Диаволица.
- Всё это сделали с детьми люди, - эхом отозвалась Ксения.
- Всё это с нами сделали взрослые. Вы!
Я обернулся на голос. Это выкрикнула девочка, навзничь лежащая у сгоревшего амвона. Вся расстрелянная церковь всеми стенами, дырами, спалёнными фресками смотрела на неё; и мы, живые, смотрели. Белые тощие коски, вымазанное кровью лисье личико. У девочки по локоть были отрублены руки. Да, топор лежал тут же, при ней. Она истекала кровью. На её голом животе была вырезана красная звезда. На груди лежала толстая тяжёлая книга, и ветер, налетающий из проделанных бомбами дыр, с тихим шуршаньем перелистывал ветхие, ломкие страницы.
- Зачем мы, дети, отвечаем за ваши грехи?! Только потому, что вы - нас - родили?!
Девочка выкрикнула это и замолкла. Потеряла сознание. Вокруг неё валялись разбитые лампады, цветные стёклышки осыпали ей волосы и шею, она лежала, умирающая Адская Снегурочка, и великий, долгожданный праздник умер, и ёлку сожгли.
Зачем мы сюда пришли, в Ад? Чтобы увидеть умирающих на Войне детей?
Ксения села на пол рядом с маленькими мучениками. Время от времени она поднимала лицо и оборачивалась ко мне, и жалобно глядела на меня, словно спрашивая: так ли я все делаю, родной мой Василий, правильно ли делаю? Она начала говорить, сбивчиво, путано, насущно, необходимо, только так и надо было говорить сейчас и здесь, в мёртвой церковке, среди умирающих детишек, эти дети были нам всем родные, они уже были не просто дети, люди, - звери и голуби, рыбы и стрекозы, они были снега и дожди и летели с небес, и возвращались обратно в небеса, и плыла задыхальной, заковыристой речью Ксения, и речь её превращалась в таинственные слёзы, во вкус полыни, в безумную, последнюю молитву, такую только раз в жизни у смертного родного ложа и читают:
- Милые!.. Самая главная опасность позади. Мучеником стать ведь не так страшно!.. Вы знаете, что святого Егория окунали в кипящее масло?.. Нет?.. Так вот знайте; и словца жалобного не произнес он, в масле варясь, не заплакал, не вскрикнул, и мучителей своих - ничуть не проклял!.. Вот ведь сами вы не знаете, а я знаю, я: ваша кровь - это наше, нас всех, всех людей, будущее Причастие!.. Вы пролили кровь за Бога, детки, и значит, вы уже под Его крылом, и вы с ним на Голгофе. Ах, вы не знаете, что такое Голгофа! Это, милые, Ад земной. Ад, он не только Ад где-то там, в сказке, в преисподней, в страшной ночной песне. Ад - рядом, и вот вас окунули прямо в Ад, в его кипящее масло, окунули с головой, по самую макушку, и вас, как святого Егорья, резали ножами и штыками, на вас вымещали всю взрослую злобу, всю ненависть!.. А вы терпели. Вам бы сейчас, родненькие, сладенького чего-нибудь!.. Хворосту бы вам в сахаре... пирожка бы с малиной... да вот, тут у нас ведь и повар есть, он теперь Зимней Войны генерал... повар-то есть, да еды никакой нету... не сготовить... не угостить... Да и зубки вам иным враги повыбили, пряничек не укусите, сушку не откусите!.. орех не разгрызёте, ни грецкий, ни кедровый, ни лещину...
Маленькие мученики, слушая Ксению, стали потихоньку подтягиваться к ней. Подползать. Издавая стоны. Плача. Через силу. Преодолевая расстояние протянутой руки за минуту, две. Оставляя на усыпанных кирпичным крошевом плитах полосы, разводы крови. Так пол церкви расписывали кровью своей мученики и страстотерпцы, едва начавшие жить, а Ксения не видела этого ужаса, она сидела, закрыв глаза, и слёзы изобильно текли по её впалым грязным щекам, и она говорила, говорила:
- Милые, солнечные мои!.. Пальчики ваши нежные, если бы тут у меня угощенье имелось, вы бы пальчиками вашими так быстро, ловко все мои, для вас приготовленные, яства растащили!.. И то, ведь еда для вас, дети, это великое спасение, это вера в то, что вы воскреснете, взрастёте, подниметесь, зашумите на ветру!.. Ах, пряников бы для вас мне припасти, и пахучего сыру, и хрупких галет, и шоколадных, во рту тающих конфет!.. как бы вы весело, жадно всем этим великолепием наслаждались... Дети, вы едой живы! А мы, отцы и матери ваши, так радуемся, вам, миленьким, еду на кухнях готовя!.. А вы зажмурьтесь да представьте себе, ну, вообразите, что вся эта радость нынче есть у вас, у вас в пальцах, на коленочках, на груди, в ладошках ваших!.. Вся сёмга, осетрины куски, клубника в мисках, топлёное молочко с тёплой коричневой корочкой... все витые булки, посыпанные сахарной пудрой, все сметанники, круглые, как жёлтая Луна в страшных небесах, все виноградные кисти и приторный пустынный изюм... вот вы тянете руки ко всему этому счастью, а я вас щедро, бесконечно им оделяю, ибо много, много счастья у меня для вас в мешке, да я вас так люблю, всех, всех, да вы все, любимые, вечные, мученички мои Царственные, если даже и бедняки, нищие сопляки, вы все мои дети... это я, я вас всех родила!.. я безумная мать, я любила всех и рожала от всех!.. и вас, каждого, безумно любила и люблю... и вас, вас я, так выходит, не уберегла, ну и что же, и что же?.. Вы уйдёте в Мiръ Иной, там по снежным увалам бродят небесные лисы, звёздные волки и медведи, вы им из рук будете пищу давать, они будут ваши друзья и братья, звери, а не люди... А я на Земле, так и быть, останусь, ваша всеобщая мать!.. За меня, из-за меня вы погибли на Зимней Войне. Как мне вас спасти?.. Не спасу. Немощная я. Не смогу. Не Господь я. Это Господь всех воскрешал. И дочь Иаира, и Лазаря, и всех.
Она передохнула, а я глядел на умирающих в страданиях детей, и это было самое страшное, что я мог видеть в Аду.
Но ведь не Ад важен. Не Ад главенствует. А Войну мы ведём для того, чтобы вот их - детишек - не этих! будущих!.. - спасти.
Я сцепил руки так, что пальцы сухим розжигом захрустели.
Ксения ловила ртом воздух, я видел, как ей трудно говорить, и она бормотала, как пела, это была дикая, слёзная, глубинная песня Ада, такую только в Аду и услышишь, на земле ей места нет, нету и в небесах. Хриплые вдохи-выдохи, задыханье, по лбу, вискам её пот течёт, на губе и щеках влага, а дети безотрывно глядели на эту дикую, непонятную бродяжку в мешке, умирая, тянули к ней руки, а кто лежал на холодных, в трещинах, плитах, тот глядел не на юродку, а на звёзды-гвозди, намалёванные давно упокоившимся богомазом на выгнутом в вечность куполе.
- Не плачьте!.. не плачьте... - Она сама заливалась слезами. - Вообразите, что я вас - чудесной едой оделяю!.. Тебе вот веточку винограда... а тебе - кусок пирога с капустой... а вот тебе, держи, жареное куриное крылышко... косточки обсоси да ещё попроси... А тебе, тебе - жавороночек печёный, клювик злачёный, крылышки сдобные, колядки преподобные!.. Зима ведь, зимка, да... Сколь ещё холодов впереди лютых... А ты жавороночка за пазухой закутай... да ступай с ним на небо петь колядки, да беги, беги к Солнцу без оглядки!.. Хлеб, хлеб, и тебе, и тебе, и вот ещё хлеба святаго кусок, и на каждого - "Живый в помощи" поясок... а причаститься-то!.. надо же ведь и кагорчика глотнуть!.. от Ада до Рая - эх, долгий путь...
Она оглядывалась растерянно.
- Нельзя... без Причастия...
Я до крови закусил губу. Решил поиграть с ней в эту, для детей последнюю, игру. Вытащил из-за голенища нож. Шагнул вперёд. Наклонился над распатланной, безумно бормочущей Ксенией. И резанул себя по запястью. Кровь полилась, и лилась всё гуще, всё темнее и быстрее, полоумно-быстро капала на каменные плиты.
- Давай! Не зевай! Горсть подставляй...
Она послушно подставила горсть. Дождалась, пока в живую ладонную чашу наберётся кровь.
- Кровь людская... обратись в вино... Господи... сделай нам это чудо...
Т
ерпко, сладко запахло в гаревом воздухе церковным кагором.
Сквозь Ксеньины пальцы капало забытое в Войну вино.
- Сейчас... сейчас!.. - Она на коленях поползла среди детей, и к каждому наклонялась, и к каждому каплю святого вина подносила. - Вкусите... примите... пейте из руки моей все... сие есть кровь Господня... вам с нею - в долгий путь пуститься... сначала в землю, потом на небеса... жить вам тут полчаса... а там - вечно... Хлеб ваш земной вы весь съели... а причастным вином самое счастье его запить... вы с Причастием уходите, значит, вы счастливы... вы успели к счастью, успели!.. У собаки боли... у ежонка, волчонка, медвежонка боли... а у моего родного ребёнка - больше никогда не боли... Испей... и ты... не бойся тьмы... не бойся пустоты... нет пустоты, всё есть густота и полнота... и горсть моя наполняется кагором, кровью Господа, и в смерти вашей вы будете, слышите, будете - жить...
Дети плакали, лепетали несвязно, вскрикивали, рты и подбородки их, вымазанные в сладком вине, дрожали в последних робких улыбках. Они силились улыбаться, и им это удавалось.
В притворе проскользнула медленная тень. Меня окатило кипятком боли, надежды, воспоминания, чуда. Успел я узреть край сонно реющего бирюзового плата, шёлковый подол падающего с плеч красного плаща. Проплыло мимо золотою ладьёй нежное, узкое, как дынная косточка, забытое лицо. Тебе в Аду негоже пребывать, Невеста Неневестная, Царица Небесная; зачем Ты здесь? Кого спасаешь? По ком молитву творишь?
И внезапно весь храм, убитый огнём Ада, наполнился корзинами с яствами; я таких и на моей Царской кухне не видел; и возникли невесть откуда еловые ветки, с пахучей гущиной тёмных вечерних игл, разбросались по полу церкви, сами собою воткнулись за оклады изуродованных икон, а за колючими ветвями и ель появилась, целиком, огромная, мощная, зелёная пирамида, и вся весело шевелилась, источала пьяный хвойный дух, и на её растопыренных ветках вспыхивали там и сям лиловые шары, солнечные еловые шишки, обмазанные сусальным золотом, ледяные фигурки зайцев и белок, тонкие серебряные змейки с изумрудными глазами обнимали колкую тьму, ёлку густо обвивали шнуры гирлянд, огоньки горели лампадами в кромешном таёжном, духовитом мраке; ёлка качалась, переливалась бешеными огнями, покрывалась всё новыми, невиданными, драгоценными игрушками, это Бог послал детям напоследок великий детский праздник: умирающие дети безотрывно глядели на колючее, огнями горящее чудо, высилась, достигая разбитого купола, могучая еловая башня, усыпанная звёздами любви, Солнцами радости, Лунами ласки и прощенья, жемчугами утраченного счастья, алмазными лилиями потерянного Рая.
- Детки!.. детоньки мои... вот вам и ёлка... глядите... вы будто бы вокруг неё - хороводом идёте... возьмитесь за руки крепче, крепче... Вы счастливы?.. Счастливы?..
Девочка в отрепьях, с отрубленными на обеих руках пальцами, сидящая около мальчика с перебитыми коленями и локтями, протянула беспалые руки к плачущей Ксении и хрипло воскликнула:
- Да!.. Счастливы!.. Да!..
Лицо Ксении заливали слёзы. Я держал разрезанную мою руку над её согнутой черпачком рукой до тех пор, пока кровь не перестала литься, капать, всё медленнее, и, наконец, не затянулась на глазах, не запеклась рана.
Блаженная ползла на коленях дальше, и дети тянули к ней руки и губы. Тому, кто не мог проглотить Причастие, она выливала сладкое вино на грудь, туда, где билось сердце.
- Я ваша матерь, дети, я ваша всеобщая матерь... вы умираете, а я - у вашего изголовья... я вас люблю, так люблю, ведь я вас всех, каждого, родила... ваши души родила... ваши жизни лелеяла... помню у каждого родинку, царапину, перелом, помню первое ваше словечко, первое горюшко... первые слёзы, первый ваш смех и праздник... И сегодня праздник у нас, праздник... смерть в Аду, вы думали, это ужас и боль, а вышло так, что это получился праздник... и ёлочка сама, сама к нам пришла... видите, какая нарядная... Царевна... Царская... невеста...
Диаволица вздрогнула.
Она стояла поодаль, к нам с Ксенией не приближалась.
Но её дальняя дрожь хлестнула меня из пространства горячей, вулканной плетью.
- А мы вот не видим ель!.. расскажи, какая она!.. - крикнула ослеплённая штыком девочка-близнец, и её слепая сестра тоже кричала, просила о том же, только беззвучно, распялив выпачканный кровью рот.
- Какая?.. Ослепительно красивая... ослепительно... на неё даже посмотреть спокойно нельзя, так она сыплет искры, длинные иглы... знаете, так снег сверкает под Солнцем, свежий, чистый, вроде белый, а под лучами сплошь разноцветный, и на ёлочке нашей тоже смарагды и яхонты, Царская шпинель и речные перлы... бусы, бусы на ней висят, она их еле держит колючими лапами, такие тяжёлые... из медвежьих закромов, из Царской берлоги... там, в тайге, у медведей есть свои Цари и Царицы... и сокровищ полный сундук... зима им много алмазов в берлогу набросала... вот оттуда извлекли красотищу и ёлку украсили... И флажки тут, и золотые цепи, и фонари ярко пылают, поближе зазывают, сластями угощают...
- А на верхушке у неё что?..
Безногий мальчик еле шевелил искусанными губами.
- А наверху у ёлки нашей - догадайся, что!.. конечно, звезда!.. Сверкающая... красного золота... она, знаешь, вместе и красная, и золотая... переливается... красная кровь... золотое Солнце... Кровь и Солнце, Солнце и кровь... всё же смешано воедино... не разъединить... не разорвать...
- А я думал, золотая шишка!
- Шишка та златая, сыночек мой... на землю упала... и разбилась... как яйцо простое, а курочка, помни, потом нам снесёт яичко золотое... и его-то ввек не разбить... И мы решили выковать из красного золота - звезду... потому что люди идут, всегда идут на звезду... она воссияет в тиши ночей - в Раю ли, в Аду - они идут, идут на звезду... И вы, и вы ведь на звезду идёте... пойдете в небесах... и эта ёлка, со звездой, чтобы вы её ещё на земле увидали... и чтобы в небе она вам ярче всех сияла...
- Мама!.. Мамочка!.. А можно ещё пощупать, ту звезду!.. Потрогать!.. Хоть немножко!..
Ксения с трудом встала с колен. Шатнулась, как пьяная от чудодейного кагора. Наклонилась. Подхватила на руки близняшку с выколотыми глазами. Кровь темно застыла в глазницах, и мне казалось, девочка глядит, черно, осуждающе. Ксения тихо подбрела к ёлке с девочкой на руках. Крепко прижимала ребёнка к груди, мешковина испятналась кровью. Закинула голову. Злато-алая звезда сияла далеко, высоко, на вершине ели, у самого церковного купола. Ксения вздохнула. Слепая девочка повторила её горестный вздох.
- Родная моя! Та звезда далеко. Рукой не достать. Высоко. Ёлка-то как гора. По ней взбираться к небу, идти и идти. И только там потрогаешь ладонью звезду. Горячая она. Обожжёшься. Но знаешь что?.. Дай руку. Вот так. Протяни!
Ксения цапнула ручонку слепой близняшки и поднесла к еловой ветке.
- Потрогай! Иголки... чувствуешь? Она, ёлка твоя, вся покрыта такими ежовыми иглами. Если крепко сожмёшь такую ветку колючую в кулаке - ладошку насквозь проколешь! Не бойся, я держу твою руку, я не для мучений... я - чтобы ты ощутила... поняла... вот... вот!..
Ксения повела рукой слепой девочки по колкой ветви, всё выше, выше, и детские пальцы наткнулись на маленькую золотую звёздочку: игрушка высовывалась из скопленья колючек и вспыхивала жёлтой тонкой свечкой.
- Не бойся... это тоже звезда, только маленькая... твоя... возьми... сожми...
Слепая ощупала игрушку и зажала её в кулаке.
На её губы, залитые потёками засохшей крови, взошла тихая, светлая улыбка.
- Ой!.. И правда... Звёздочка... Я чувствую... хорошая какая... Я даже её...
Выдохнула, и Ксения губами потрясённо поймала этот выдох.
- Вижу...
Я стоял навытяжку. Как перед строем. Перед танкистами моими. Я с ужасом понимал: лицо моё заливает, захлёстывает давно забытая мною влага. Я плакал. Я глядел на ёлку. На ёлке, среди прочих игрушек, виднелись малюсенькие оловянные танки. Они были выкрашены в красный цвет. А иные в чёрный. А иные в белый. А иные позолочены. Мелькали в хвое и посеребренные, будто затянутые мохнатым инеем. Это всё были мои военные машины. Я за каждую отвечал. Перед моими танкистами. Перед этими детьми. Перед теми, кто ещё родится. Я должен был твёрдо и непреложно понять, за что воюю. Я ведь сам на Войну пошёл. За Родину. За Царя. А теперь получалось, что и за каждого этого замученного, раненого, ослеплённого ребенка. А может, за эту сумасшедшую, торжественную, святую, праздничную ель? Ель, величиной с Божий храм? Ель, смело достигающую звездой на макушке синих, лучистых небес?
Я плакал, всхлипывал, видел улыбку, осиявшую личико слепой девчонки, слышал стоны умирающих детей, чуял, как за моей спиной, в тени притвора, рыжекосая женщина стоит и молчит, копит в себе зло, проклятье, насмешку. Я железно выпрямленной спиной отвечал ей: сгинь, пропади, не боюсь тебя. Много ты знаешь, да несдобровать тебе от того знания. И Царскою женою ты не будешь, недостойна ты стать Русской Царицей, супругой нашего Царя. Судьба иная ждёт тебя, красотка. Если мы отсюда выберемся, если не сгорим и не потонем в Аду, я защищу Царя от тебя.
Она прочитала мои мысли.
- Я стану Царицей всё равно. Меня не остановишь.
Ксения поцеловала слепую девочку, держащую в кулаке золотую игрушку, в замурзанную, в полосах и пятнах крови, щеку. Ёлка пьяно качалась всем изукрашенным колючим, хвойным телом, заслоняя лики расстрелянных икон. Под разрушенным, в дырьях, с торчащей сеткой арматуры, куполом пролетела птица, ударилась о стену, распластала крылья, навеки прилипла в полёте к текущей вниз людскою кровью фреске, называемой: Сошествие во Ад.
КЛЕЙМО С ИЗОБРАЖЕНИЕМ ЦАРСКОГО ВОЕННОГО СОВЕТА В ИЗБЕ
...Василий не помнил, как и где они спали в Аду. Ему чудилось - не спали. А так, всё шли и шли. Их сон за него помнило Время.
Они так и уснули в этой разбомблённой церковке - легли на пол, весь в крови детей и осколках битого кирпича, дети умирали вокруг них, а может, навек оживали, они уже не знали, их сморил Адов сон, не понять было, как налетел, не овладеть им: от века сон владел людьми, и в Аду соблюдались всё те же законы бытия. Они легли на пол, уже теряя разум от усталости и боли, это болели в них угрюмые, позабытые души-сироты, и Василий повернулся набок, тут же и Ксения повернулась тоже, оказавшись спиною к нему, и он обнял её, нащупав ладонью её тощие, голодно торчащие ребра и выгиб бедра, и она дёрнулась, как под током, а потом враз утихла, успокоенно, ровно задышала, уже утопая в безбрежном сне, а его пылающая рука сквозь мешковину обжигала её голое, промёрзшее до костей тело, ощущая, как раздуваются во вдохе и спадают в выдохе рёберные дуги, и его дыхание скоро стало повторять ритмику её дыхания, и вдохи и выдохи слились воедино. А Диаволица, повернувшись в ту же сторону, что и спящая двоица, спала поодаль; она сначала слушала стоны и возгласы страдающих детей, потом прошептала: "Беднягам уже никто не может помочь, и стараться не надо", - и тоже нырнула в омут отчаянного сна, так обречённый корабль ныряет в океанский ураган.
И в том сне своём, в разрушенной церкви, юрод-генерал увидел Рай.
Наблюдая Рай, он во сне шептал несказуемые тайны сам себе.
Рай-то есть, его прячет Царь. Царь никогда не говорил мне про Рай, но ведь он есть, есть, не только Ад.
До Рая надо было дойти, и во сне Василий терпеливо шёл и шёл по дороге в Рай, измеряя землю мерно и верно ступавшими вперёд ногами. Ноги человека! Ноги идут. Ноги идут. Шаг - главный залог того, что ты дойдёшь. Даже мёртвый. Даже убитый. Твоё тело увезут во гробе, на лошадях, в вагонах, в железных повозках, бегущих по полям, в железных бочонках, летящих по клубящемуся тучами, опасному небу. Всё опасно! Опасно жить. Страшно умереть. Но ты, даже нерождённый, уже приговорён к тому, что Ад в грядущей жизни твоей наступит прежде Рая. Никому сразу явиться в Рай не дано! Поэтому иди. Иди. Ход, вот что назначено тебе. И не смей с пути свернуть.
Он шёл, созерцая бег туч по небу. Сначала небо угрюмилось, хмурило облачные брови, содрогалось пляской молний. Тучи лизали сорванные крыши и расстрелянные купола. Ветер валил мёртвые и живые деревья. Василий бросал в небо взгляд, и взгляд его в небесах таял, как перламутр в мензурке уксуса. Постепенно небеса стали менять цвет. Серая, сырая, волглая пустота уступала место сначала робкой, еле видной, нежной, как прерывистое ребячье дыханье, а потом всё более густой, пламенной синеве. Смертные стоны, клацанье зубов, лязг взводимых затворов, свисты пуль-убийц отдалялись, исчезали. Взамен, вклиниваясь копьём света внутрь Ада, приходило забытое, невероятное.
Из белесых разводов тумана вставали белые храмы монастырей. Василий шёл мимо, хоть и одолевало его желание постучать кулаком в тесовые ворота. Вороны кружились над зубчатыми стенами и медно горящими в синеве куполами, синева лилась, валилась потоками с вольных небес и омывала Василия водопадом, и он благословлял Бога: вот он был грязен и омылся, вот душу до дна ржа выела, и вмиг он чистым стал, и внутри и снаружи. Подошла старуха, в опорках, в зипунчике, собаками ободранном, с ясными, пронзительно-синими глазами, всунула ему в руку обгорелую монетку.
Да что ты, бабушка, я не нищий, я генерал Зимней Войны, возьми свой грош обратно.
Он протянул старухе денежку, да узрел лишь её горбатую спину.
Закрыл глаза и опять увидел старухины глаза, две синие пули, пробивающие грудь насквозь; старые глаза горели синее неба, и вдруг он понял, какая же красавица была эта старуха года, века назад. Как Ксения? Как Царская невеста? Он шёл во сне в его шинели, отчего-то пропахшей полынью; зима наносила ветром надоевший холод, но всё сильней синело радостное небо, всё больше прибывало радости к сердцу, всласть настрадавшемуся, забывшему про радость, - в его родимой шапке-ушанке, подбитой синей армейской цигейкой, и ему он сам казался то могучим богатырём, то мелким хулиганом-воробышком, весело скачущем по замёрзлой грязи.
Он миновал строения монастыря, зимняя дорога опять расстелилась перед ним, он ступал в сапогах по ней, как на Красной площади по ковру бы ступал, направляясь к красномраморному помосту, туда, где от века при торжествах и при бедах народных стоял русский Царь, возвышаясь над площадною толпой, громоздясь над народом в соболиной, искристой, как скол льда, шапке Мономаха, расшитой крупными уральскими рубинами, индийскими сапфирами, донскими жемчугами и херсонесскими сердоликами. Почему человек, облечённый властью, пялит на себя драгоценности? О чём кричат прозрачные красивые камни, горящие на шапках и киках, на бармах и парчовых кафтанах? Вот китель на его генеральских плечах. Он тоже расшит: его слёзами, снегами его бурь, кровавыми пятнами его боев. Знаки отличия! Их ли надобно надевать тут, на изломе Ада и Рая? Ни Аду, ни Раю не нужны наши игрушки. Мы их сами себе выдумали. Чтобы нас отличать друг от друга.
Чем дальше он шёл, тем ярче сияли, светились на морозе кружевные, в голубом, щётками, инее прозрачные, громадными снежными дворцами возвышавшиеся на речных обрывах берёзы, и ослепительней сияло хмельное Солнце в кубово-синем, вкусно-густом небе, и Василий сердцем слышал шорох Херувимских, Серафимских крыльев там, в зените.
Счастье, счастье. Так вот ты какое. Я забыл тебя. Зимнее счастье. А я только и делал, что воспевал боями Зимнюю Войну. Как близко счастье! Близко Рай! Я знаю, это Рай. Я - верю.
Перед ним холмы вдруг потекли вниз, и раскинулась белым вязаным, козьим платом долина, а за ней восхолмья опять побежали вверх, всё вверх и вверх, очертаниями образуя земляную женскую грудь, и там, далёко, в распадке, а через миг - совсем близко, вплоть, он увидал низкорослый деревянный дом, похожий на лесной скит, с подслеповатыми, затянутыми льдом окошками; в окнах прыгало и бесилось яростное лисье, красное Солнце, справляя свой зверий зимний праздник, Василий ступал по снегу всё спокойней, всё тише, всё тяжелее, и вот наконец застыл у крыльца, перед деревянной дверью.
Замер. Видел: на верёвке свисал одинокий колоколец. Надо взяться за веревку и крепко дёрнуть; и раздастся звон; услышит ли тот, кто там, в избе, внутри?
Он закрыл глаза, прислушался к себе и понял, кто в избе.
Дёрнул за обледенелое вервиё.
Звон оглушил его, умер, истаял в свадебной, повсюдной синеве.
Дверь отворилась со стуком, скрипом, кряхтеньем.
Василий глядел на девицу на пороге. Монахиня, молоденькая, а может, послушница, лик обвёрнут белым апостольником, расшитым мелкими перлами, а во лбу золотыми парчовыми нитями вышит староверский крест.
И правда, нынче праздник, видать. На Войне да в Аду я забыл, что значит праздник.
- Что надо, человече? А то, гляди, мимо иди!
Василий поклонился земно.
- Милая, не желай выгнать, желай выслушать. Ты мне снишься, знаю. И я тебе тоже снюсь. Но это не меняет дела. Я юрод великий, старый. Мне пятьсот лет, а может, и тысяча. А может, Времени давно нет для меня, вот это скорей всего. Однако я тут. Проводи меня в избу. Там военный совет. А я генерал. - Он распахнул шинель, чтобы монашка видела его генеральский китель и орденские планки, и висящие золотыми и серебряными лунами геройские медали, и краснозвёздные гордые ордена. - Там наш Царь. Я его подначальный. Нам необходимо встретиться. Тут судьба Мiра решается; и, верь, решится она. Пусти!
Монахиня, а может, послушница отпрянула, как если бы Василий был аспид либо Левиафан, подплывший к бедному берегу из разъярённой пучины снежной.
Отступила на шаг.
- Коли ты тот, за кого себя выдаёшь, проходи! Горе тебе, если ты обманщик. Тебя сразу казнят.
Юрод улыбнулся и переступил порог.
Монахиня изумлённо глядела на его кудлатую голову, на длинную бороду, вьющуюся по ветру.
- Ты словно бы с неба синего спустился...
- Да это так и есть!
Дверь из сеней в избу была открыта, и он вошёл в неё, предвкушая то, что увидит лишь единожды в жизни, ознобно содрогаясь от забытой, детской радости.
Солнце заливало избу. За круглым столом восседали люди. В военных формах: полковники, майоры, казачьи атаманы, генералы. Среди прочих юрод увидал Царя. Царь, без Мономаховой шапки, без наследной короны, без простой фуражки или бараньей ушанки, гололобый, сидел в старом кресле за столом посреди жарко натопленной избы, и китель на нем был Зимней Войны, и в саже Зимней Войны были выпачканы его руки, и ордена за победы в Зимней Войне горели на кителе его, а из-под кителя виднелась гимнастёрка цвета осенней поляны, и расстёгнут был её ворот, чтобы Царю было вольготно дышать. Как много Солнца гуляло по избе! Василий зажмурился. Все сидящие за столом повернулись в его сторону, один Царь не повернулся. Задумчиво глядел перед собой, и слабая, ребячья улыбка то танцевала на его тонких губах, то исчезала в отросшей за Войну русой бороде.
Василий оглянулся по сторонам, разглядывая Царскую избу и военный совет в ней, - и обомлел. Под потолком горели искристые радужные звёзды, он узнал синюю, как море, Венеру, бешеным перламутром переливающийся Сириус, зимнюю пёсью звезду, над ним катился оранжевый глаз Юпитера, и кольца Сатурна рассыпались и вновь обнимались, и жарко, казняще вспыхивал роковой алый Марс, он не верил в победу, но верил в священную злобу последнего сраженья. Огромные световые столбы поднимались от пола, пронзали потолок и уходили в Богородичную синеву зенита. Столбы переливались Полярным Сиянием, такое он видел однажды в судьбе, когда прибрёл, нагоходец, зимним паломником во град Архангельск. За спинами генералов плескалась небесная лохань; то небо обратилось в чистую воду и перелилось в земной водоём, и там, в воде, сидела нагая женщина, всё её красивое тело пребывало под водой, один лик над поверхностью воды сиял живым Солнцем, губы смеялись, а глаза плакали от радости. Женщина вынимала из воды смуглые руки, обвитые жемчужными нитями, поднимала их к затылку и купала в синей воде длинные змеиные власы, густую поросль вечной Евы. Серьги свечами освещали её мокрое весёлое лицо. На кого она была похожа? Он тщетно искал в её чертах черты Ксении. Диаволицы. Матери Марины. Нет. Ни на одну Райская купальщица не была похожа. Все женщины, каких он видал в необъятной жизни своей, двигались, плыли Ангелами мимо его застывшего в тихом восторге лица, обнимали его лебедиными руками-крыльями, широкими звёздными рукавами, и облачно исчезали за солнечными оконными стеклами. Стены избы, утыканные смолистыми еловыми лапами, светились и мерцали от навешанных на колкую бессмертную зелень немыслимых украшений: тут играли огнями виноградные гроздья аметистов, блестели глазами хищников в тайге срезы малахита, казали рубиновые шляпки подосиновики, выкованные давно усопшим златокузнецом под горячим тяжким, Царским молотом, и Райские огни висели и стекали золотыми, красными слезами по ниткам и шнурам, по колючим еловым ладоням, - не поймать, лишь благословить.
Вода, синие вспышки, звёздные белки, женщина-рыба в воде, под водой, а за нею, прямо в избе, поднималось не одно Солнце, а целых три, нет, семь, нет, двенадцать, а дальше юрод уж и не считал, бестолку считать было, можно было только раскрыть рот и ахнуть тихонько, верить и не верить, и напрасно он твердил себе: это сон, только сон, - Солнца катились на него, солнечное воинство, и не было у него танков, чтобы атаку света отразить, и он расстегнул китель, рванул пуговицы на гимнастёрке и раскрыл грудь свою, как в те поры, когда пребывал яко нагоходец, - вот нагая плоть моя, я даю вам себя проколоть, яростные лучи, ведь вы еси будущая жизнь, а ради будущей жизни не грех и свою, жалкую, отдать!
По всем четырём сторонам избы раскидывалась земля Рая. Василий созерцал Рай. Он сподобился. На минуту, здесь, в этой заброшенной в снежных полях военной избе, он жил в нём, ещё не дойдя до него, а ему дали узреть Рай, каков он есть, рядом с насупленным Царём и молчащими генералами его.
Рай. Рай. Что такое Рай? Да ведь Рай, это же когда закончится Зимняя Война. Завершится когда. Умрёт.
Да ведь Война не умрёт. Война бессмертна. Мы целую вечность только и делаем, что хотим войной - Войну - убить. А она нам не даёт. Не даётся. А может, нам Бог не даёт? Может, Война - такое же Божие дело, как любое другое? Как корову подоить, молитву прочитать, землю вспахать? Только мы землю военную вспахиваем ракетами, снарядами.
Сонмы Солнц, восстав из небытия, из забытья Ада, кругами ходили по ободу Рая, и лучи их умалишённо, приплясывая, брызгали, ударяли в угрюмые твёрдые лица людей, сидевших за круглым огромным столом. Стол тут был больше самой избы, это Василий понял; а ещё он увидел, скосив глаза вниз, все четыре ножки стола, сразу, будто какой шутник могуче вывернул их из пазов и предоставил на всеобщее обозрение. Стол поднимался над полом и плыл, и плыли гневные дикие Солнца, и плыли нервные руки генералов, лежащие на столе, на белой скатерти, и её белизна дышала то свадебным, то погребальным торжеством.
И, откуда ни возьмись, из-за большой изразцовой русской печи, дышащей тёплым бездонным зевом, выбрел мальчик. Василий узнал мальчика. Это был тот самый мальчик, что первым пригласил его к путешествию во Ад. Себя он в таком возрасте забыл; в те времена он ещё не гляделся в зеркало, да и не знал, что это за волшебство такое. Мальчик обводил сияющими глазами кители и мундиры генералов, их медали, россыпи орденов у них на груди. Одно ниоткуда взошедшее Солнце внезапно обратилось в икону; иконой, над головами, повисло другое; и вот уже у всех Солнц появились слепящие человечьи лики, они все стали святыми, и их можно было в лицо узнать, и можно было вспомянуть блаженную, честную жизнь каждого - как молились, как сражались, как на столпе стояли под ветром и дождём, как шёпотом врагов не проклинали, а ласкали и благословляли, как смерть отрицали, смеялись над нею, обнимали её, как стояли в костре, тонули в кипящем масле, захлёбывались горячим оловом, в глотку заливаемым, раскидывали руки на кресте, наблюдая, как толстые чудовищные гвозди вбивают им в тонкие, нежные, костлявые, кровавые ладони. Мученики! Вот они, Солнца! Сверкают над нами их жизни. Недаром написаны о них патерики, и старательно читает народ Четьи-Минеи, с трудом осознавая, что сам себе и верным сынам и дочерям своим устраивает Ад на земле, - а где же, за каким поворотом Война обратится в Рай?
Здесь? В военной избе? Когда уже они все раскроют рты? Когда изронят слово?
Царь рванул худыми пальцами воротник гимнастёрки. Он будто бы задыхался. Нечем было дышать. Он задыхался от наплыва, напора света. Свет бил в глаза, забивал лёгкие, обнимал каждую фигуру иконописной мандорлой, и все люди за столом будто бы погрузились, каждый, в светящийся прозрачный яйцевидный кокон, и затихали внутри светового яйца: ещё только зачатые в Раю, еще нерождённые. Мысль, она ещё не родилась. О чём она будет, первая? Солнечная самая?
Люди. Глупцы. Вы не понимаете. Нужна Война, чтобы отвоевать настоящий Миръ.
Нужна ли? Не заблуждаюсь ли я, грешный?
Он поздно понял: на оконцах избы не было занавесок. Рай и его Солнца беспрепятственно влетали, втекали в окна, сквозь их раскрытые глаза. И дверь не закрывалась. И в отверстую дверь вкатывались светящиеся живые шары; они раскатывались по избе, жались к ногам людей, закатывались под стол, взлетали над головами. Лики, лики! Святые очи! Василий закрыл глаза - невозможно было вынести пристальные взгляды равноапостольных, мучеников, страстотерпцев и преподобных.
Надо сделать шаг вперёд. Только шаг. Они меня заметят. Узнают.
Он сделал шаг и опять застыл. И опять никто не него не смотрел. Они не видели его.
Он шумно вздохнул, и тут Царь вздрогнул, обвёл глазами то, что в изобилии валялось на столе - бинокли, блокноты, густо исписанные бумаги, рации, револьверы, пистолеты, очки, авторучки, измазанные чернилами гусиные перья, толстые плотницкие карандаши, - медленно повернул голову и посмотрел на него. И, первый и единственный, в его сне увидел его.
Долго ждать не стал. Выкрикнул приказ.
- Стул ему! Не найдёте - табурет! Не табурет - кресло! Нет кресла - бревно генералу катите!
Вперёд, из-за изразцов, выступили два денщика, подтащили к столу табурет, поставили, потряся, проверяя, не подломятся ли ножки.
Василий сел, не сводя глаз с Царя.
Царь обвёл глазами генералов.
Василий последовал взглядом за Царским взглядом.
Как они глядят. Они же меня зрачками протыкают. Как они меня ненавидят. За что? За то, что успехи у меня в боях на Войне? За то, что я танкистов моих вышколил, геройски с ними каждое сражение вёл? Что ни разу, да, ни разу не отступали от врага мы?
Внезапно полярный, синий холод обдал его, и всё внутри него, глотка, кишки, гулко стучащее сердце, обратилось в инистый, железный лёд.
А враг-то кто? Кто враг? Зачем - враг? Я вышел на битву с врагом. Знаю ли я, какое зло враг сделал мне? Не я ли к Миру живых призывал? И не Христос ли нас всех, и врагов и друзей, к Миру призывал? А что такое Миръ? Рай? А может, все-таки Ад?! Господи! Разреши мне сомненья мои!
Зубы вонзил в губу. Не отводил глаз от совета.
И весь совет, во главе с Царем, прощупывал его глазами, ощупывал ненавистью, болью, подозрением, насмешкой.
Да разве генерал, Войну ведущий, может быть верующим! Умоленным! Да разве поможет Бог в дислокации, рекогносцировке, атаке, отступлении!
Он знал имена всех сидевших за столом военачальников. Вот тот, с лицом белым как мел, с залысинами, с трубкой в углу страшного кривого рта. Он проиграл сражение под Смоленском. А тот, вон сгорбился над планшетом, поднял плечи, будто на груди птенца от кошки защищал, прятал за пазухой: сначала победа за победой, разгром врага за разгромом, а потом колоссальный обвал, бегство, гибель войска, и с трудом удалось остановить военный ужас и вернуть себе хотя бы часть утраченной чести взятием важной высоты. А этот?.. слишком много кудрей, слишком много лоска: красавчик, мажор, богатенький сынок известного папаши, и что на Войне делает, неизвестно. Славу зарабатывает. А может, просто Война как вино, рвутся бомбы, летят огненные стрелы, красные танки обращаются в красных стальных коней и вброд переходят кровавую реку, и всё это возбуждает, опьяняет. Война - это ведь ещё и до глубины души изумление: всеобщая смерть изумляет; как человек мог такое оружие изобрести, чтобы им - сразу многих, скопом, тысячи, сотни тысяч, взять да уложить?
А вон тот, вон тот... Маленький. Хмурый. Унылый. Толстый. Как сдобный колобок с забытой кухни забытого Царского повара. Сидит, сложил руки на груди перекрестно, глядит исподлобья. А вот не надо обращать вниманья на его игрушечный, смехотворный вид. Он знает, что делает. Он воюет недолго, а в Царской ставке сидит бесконечно. Он даже не красноречив. Двух слов связать не может. Мелет языком вроде бы чушь, а внутри словесных семечек проскальзывают точнейшие наблюдения и железно-верные указы. Плюйся шкурками слов! Ты съедаешь сладкие ядра. Ты мудрец Войны. И сидит толстяк до поры. До нового кровавого пира. Он знает: он в нём победит. Где бы он ни был. В тылу. В штабе. На передовой. Хитёр бобёр. Отлично строит свою запруду.
Поэтому Царь без него - не может. Поэтому и он здесь, на совете.
Игра в молчанку закончилась. Царь вздохнул шумно, прерывисто, и выдохнул:
- Ну, здравствуй, Василий!
Василий встал с табурета. Отдал честь.
- Вольно. Сядь.
Василий сел. Табурет качнулся под ним.
- За нами Москва! - выкрикнул Царь.
Господи. Сколько же раз Ты, Господи, с небес слышал эти слова.
Подал голос полковник, сидевший на закраине стола. Он волновался, вертел в пальцах карандаш, вертел-вертел, ломал и сломал, и отбросил обломки; потом стал листать тетрадь с записями и с рисунками расположения войск, и страницы нагло шелестели. Полковник возвёл на Царя прозрачные озёрные глаза, на их зелёно-голубом дне ходили голубиные сизые тени, он глядел печально и всепонимающе, сжал рот под пушистыми, тщательно расчёсанными усами, иконописный карминный румянец взбежал на его бледные, снежно-белые скулы.
- Вы предлагаете дать сражение под Москвой? И во имя защиты столицы погубить всю нашу армию? Всю?
Полковник выговаривал это тихо, отчётливо, медленно, будто внушал нашкодившему ребёнку: так нельзя делать, нельзя. Царь залился краской. Подавил в себе гнев. Обернулся к Василию.
- Глядите, какие размышления тут обнародуются, генерал! А что скажете вы? Биться нам до конца, смертно, или позволить врагу хозяйничать на нашей священной земле?! Вы-то сами кто, генерал: миротворец или герой?! Нашей стране нужны герои! А не мямли! Да, погибают люди! Погибает поколение! То, которое должно жениться, зачинать, рожать! Да, выбивает Война молодёжь! Но если враг нашу землю повоюет - ни молодежи не будет, ни стариков, никого. Поэтому нам нужна одна победа! Я - так - считаю! А вы?!
Война - святое геройство. Война - Адово смертоубийство. Где правда?
- Правда в том, что я веду сражаться моих воинов. И они погибают. За Родину. За Царя. За веру. И ни за что иное. Но ни я, ни ты, Царь, никто из нас не знает исход Войны. Мы знаем только её движение. Ибо сами движемся вместе с ней. Где конец дороги?
Он воскликнул ещё раз, уже громко, страшно.
- Где?!
Я как Царь. Да ведь я и есть тут, теперь - Царь. Я прошёл кусок Ада. Я Ад вкусил, на зуб узнал. А они кто? Каждый по-своему воюет. По-своему герой. Не героев тут нет. Здесь всяк сейчас пойдёт и умрёт за Царя. А я? Как же я за Царя умру, когда я и есть теперь - Зимней Войны Царь?
- Ишь ты, как повернул. - Царь покривил заросший усами-бородой тонкий, надменный рот. Он сейчас неуловимо стал похож на Катерину, коварную невесту его. - Но ведь у всякой страны есть голова. Столица. А во всякой столице сидит владыка. И суть важно, любит его народ или не любит. Хочет свергнуть или воспевает, превозносит. Он сидит на троне. Властвует. Иного ему не дано. Каждый исполняет на земле своё дело. Царь тоже. Разгромить столицу - посягнуть на Царя. Замахнуться на Царя - уничтожить святая святых. А святая святых есть у каждого народа, во всякой власти; это тайна внутри гробницы, внутри храма, дворца, подземного бункера, супружеской спальни. Святилище - это продолжение рода. Убьёшь столицу - убьёшь Царя. Даже если Царь сбежит в другую страну, под покровом ночи, охраняемый тучей стрелков, его всё равно потом настигнет враг - и убьёт. Тихо. Неслышно. Исподтишка. Коварно. Убьёт! И всё! И нет больше Царя! А кто есть?!
- Другой Царь, - тихо вымолвил Василий.
Лохматые, страшные волосы вились у него по плечам, закрывали погоны. Борода свешивалась ниже армейского тугого ремня.
Царь всплеснул руками.
Все за столом слушали в гробовой тишине.
- Другой! Я, значит, неугоден! И Война, значит, повод сместить меня! Снести чугунным шаром, как дуру-кеглю! Так просто?! Так вот что такое Зимняя Война для тебя?! Удобный повод меня - убрать?!
Василий снова встал с табурета. И более уже не садился.
- Город всё равно будет разрушен. Так написано в древних письменах. Я читал их. Мне открывали небесную Книгу. Мать читала мне из небесной Книги, она лежала у нас на столе в сибирской деревне, и я не мог её обеими руками приподнять, как ни старался. Город, это всего лишь строения. Здания. Пусть даже священные. Кремли, соборы. Я видел картины: башни разрушены, обвиты серыми листьями неведомых растений, руины храма медленно осыпаются, шевелятся мрачными водорослями, тают в подводном убийственном дне, похожем на ночь, растворяются во Времени, будто сахар в чае. Если будут живы люди, они дома их и соборы их возродят. Руки есть, головы есть. Из камней новую жизнь сложат. А людей, людей не так-то просто зачать и родить. Что ты выбираешь, великий Царь? Спасти людей - или спасти престольный Град?
Царь кусал губы. Искал слова. Седые пряди прилипли к его потному бледному лбу.
- О каком спасении болтаешь, болтун?! Внутри Войны - спасенья нет!
- Есть, - твёрдо сказал Василий. - Есть! Армия жестока. Войско жестоко. Сражение беспощадно. И мы готовы умереть. Но не все. Не все! Нам нужны машины. Танки. Гаубицы. Зенитки. Самолеты. Они управляются людьми. Нам нужна наша армия. Мне! Нужна! Моя! Армия.
Гул голосов поднялся за столом. Ярче возгорелись круглые Солнца, обращенные в лики святых икон. Солнца плавали, ползали под потолком, били в лица сидящих, а сидящие кричали, пытаясь друг друга перебить, переорать, заглушить, заткнуть, никому из них это не удавалось, Царь морщился, он вынужден был слушать эту свару, люди превращались в собак и грызлись за деревенским столом, совет превращался в рынок, в оголтелое зимнее торжище, где каждый выхвалялся своим и торговал своё; и тут Василий поднял руку, и все враз поглядели на эту худую сильную руку, взметнувшуюся над лохматой медвежьей головой, сверкающую, среди икон-Солнц, ещё одним круглым маленьким Солнцем, слепящим, мучительно горящим.
- Почему родилась Зимняя Война?! Ах, вы не знаете. Не знаете, потому что вам не сказали! Народы бьются и грызутся всегда. Мы защищаем себя, а иной народ заслоняет себя. И между ними Белое Поле, и там они колошматят друг дружку. Кто первый начал? Всегда большой вопрос. Если покопаться в событиях, поймём: они все цепляются друг за друга. У каждого следствия есть причина. И вдруг причина обращается в новое следствие. И мы роем дальше, глубже, раньше: а что там раньше? Может, там-то и есть самая главная причина распри?! И - не докопаться. Никогда! Они себя не бомбили, они бомбили нас! Ага, вот она, причина! Мы озлились. Отомстить! И начали мстить. Враг на нас не собирался нападать!
- Как же не собирался?! Что вы мелете, генерал! Вы дурак! - разъярённо крикнул малорослый толстяк, расцепив на груди пухлые руки; сверкнуло обручальное кольцо.
- Не собирался, - тихо и печально выдохнул усатый полковник, повторяя слова генерала, мял в пальцах карандашные обломки, горько улыбался, и глаза его тихо светились синей, серо-зелёной, осенней озёрной глубью, и нежные улыбающиеся губы взрослого, закалённого в боях мужчины внезапно напомнили детский плачущий рот, или для ночной молитвы сложенный, или для прощального поцелуя.
Полковник медленно, тихо перекрестился.
Царь глядел на него с ненавистью.
Перевёл глаза на Василия.
- Ты пойдёшь под трибунал!
- Изволь, Царь. Воля твоя. Всегда и всюду. Война сама захотела начаться. Внутри людского моря есть течения тёплые и холодные, когда они наталкиваются друг на друга, Землю захлёстывает военная жажда.
- О чем ты, юрод?!
- О том, что люди склонны обманывать друг друга. Есть первотолчок. Я не говорю, что нет врага. Он есть! Был, есть и будет. Человек человеку пока что не хлеб, а волк. Дикий медведь! И на дыбы встает! Два медведя, друг против друга! Шерсть против шерсти, пасть против пасти! И у врага, в недрах его судьбы, есть начало войны. Каково оно? Вдумайся. Надо не чувствовать, а думать. Сначала злоба. Потом, против злобы, обида. Потом, от обиды, боль. Потом боль обращается в ненависть. Потом ненависть не пережить; её надо залечить, забинтовать; чем? А вот она, месть. Отомстить! А что такое месть, великий Царь? Это - Война. Это и есть Война! Так всё просто!
- Просто?!
Царь завопил так, что сотрясся потолок, зазвенели в рамах стекла, а откуда-то из-за сине-белых, ярких изразцов печи вывалился засохший хвостатый сверчок и чёрным бархатным лоскутом брякнулся прямо под ноги полковнику с озёрными глазами.
Терпеть. Главное - держаться и терпеть. Протерпеть. Простоять и проговорить эту речь. Всё сказать. Пока снится мне этот сон. Другого времени и другого сна уже не будет.
- Война сначала была перестрелкой. В нас стреляли. На границе. Но и мы стреляли. Нас убивали. На границе! Но и мы убивали. И никто Войну не объявлял. Ни ты, Царь, ни нам - чужой, иноземный владыка. Стреляли мы друг в друга, и всё! А когда и гранаты бросали. А когда из огнемёта друг друга поливали. Сидят солдаты у костра, едят ушицу из котелка, а тут из-за кустов - лавина огня, и всё - в головни, в пепел. И не надо печи изразцовой. - Он оглянулся, мазнул взглядом по старой изукрашенной печке. - Дрова, человек есть дрова. И для того, чтобы согреться зимой, он сам себя, да и брата своего, в печи времён сжигает!
Все за круглым столом молчали. Толстяк заплетал кисти скатёрки в белую косицу.
- Пуляли-пуляли этак мы друг в друга, и что? У кого-то должно было лопнуть терпение. Да только не у тебя оно, Царь-государь, лопнуло! А у генералов твоих! За спиной твоей! Да, никто не объявлял Войну! Так она и идёт, заметь себе - необъявленная и без видимых причин! А все уже привыкли! Да все, весь народ, поверил тому, что глашатаи на площадях кричали! А кричали они вот что, разворачивая крупно исписанные, чтобы легче читать было на морозе, свитки: НА НАС ВЧЕРА ПОД ПОКРОВОМ НОЧИ ВОЗЖЕЛАЛИ НАПАСТЬ НАШИ СОСЕДИ! ОНИ ТОЛЬКО ПРИКИДЫВАЛИСЬ НАШИМИ СОЮЗНИКАМИ! НА ДЕЛЕ ОНИ ВООРУЖИЛИСЬ ДО ЗУБОВ И ПРИГОТОВИЛИСЬ УДАРИТЬ! ДА МЫ ИХ ОПЕРЕДИЛИ! СЛАВА НАМ! СЛАВА НАШЕМУ ЦАРЮ! МЫ СРАЖАЕМСЯ ЗА ПРАВДУ! И БУДЕМ СРАЖАТЬСЯ! НАС НЕ ОСТАНОВИШЬ! ПРАВДА ПОБЕДИТ! ЛЮБОВЬ ПОБЕДИТ! МЫ ПРОЛЬЁМ КРОВЬ ЗА ЛЮБОВЬ! МЫ ПОБЕДИМ! Ты помнишь, помнишь, как холопы твои это на площадях кричали?!..
- Заткнись, юрод!
Выстоять. Держаться. Не падать. Не умолкать.
Не просыпаться.
- Кто кого обманул, Царь?! Тебя - обманули. А ты сам об том не догадываешься?! Нет, о нет! Иначе бы не затеивал ты тут, в зимней избе, совет, не расспрашивал соратников о верных шагах, о неверных! Кто шёл на нас со злом?! Кто и за что собирался нам отомстить?! Согласен, повод для ненависти, мести всегда найдётся. Да, безумцы они! Мы говорим на разных языках?! Да! Но мы понимаем друг друга! У нас одни прародители, Адам и Ева, ветхие люди! Люди Рая! Сладкого, золотого, птичьего, мандаринного Рая! Рай, там человек живёт без смерти! Безсмертие! Вот клятва. Вот надежда. Мы забыли про безсмертие. Мы слишком жадно едим, жрём смерть, обсасываем косточки. Звери и птицы шарахаются от нас, убегают и улетают, мы сеем смерть, живое это чувствует. А люди? Разве люди не чувствуют, когда соседняя армия к границе подтаскивает танковые колонны, стягивает пехоту? Забивает аэродромы железными летающими бочонками?!
Говорить. Говорить не умолкая. Высказать все. Успеть.
Он будет орать, перебивать, он может вскочить и зажать мне рот ладонью. Но я должен сделать так, чтобы все люди за круглым столом это - услышали.
У меня просто нет другого выхода.
- У Зимней Войны другие причины! И я не верю, что вот сейчас, теперь, ты их не знаешь. Где же твои хваленые дипломаты, Царь? Разве ты и я, мы оба, не знаем, что главное в искусстве Войны - речь? Ещё никто не запрещал речь. Никто ещё язык в тюрьму не сажал.
- Сажали! - выкрикнул Царь, вращая выпученными глазами.
По его вискам тёк мелкий пот.
- Ну да, да... Язык - народ, и я сие помню! Однако, Царь, чужедальний владыка, разве он был в начале Войны готов к обоюдному вашему разговору? Почему ты с ним не сел за стол? Такой же вот, широкий, круглый?
- Он всё равно бы не сел! Не захотел! Бестолковое дело!
- Не бестолковое! Не напрасное! Кровь, она так рядом. Если хоть раз она пролилась - Войны не миновать. Человек, зачуяв кровь, превращается в волка. Бежит по следу. По следам убитого. И на запах тех, кто ещё не убит, но кого можно убить. А люди, Царь, - дураки! Вот я юрод, да, но мало ли ты видал безумцев, что сами шли на заклание, желали быть убитыми?! Каждый хочет жить! Да умереть, как герой, для многих это как знамя подъять над собой, в небеса!
- Замолчи! Эти люди, которых убивал жестокий владыка там, в другой стране, они все наша родня! Они - у нас - помощи - просили! Ты-то разве не знаешь об этом?!
- Знаю! Ещё как знаю! Просили! Кричали! А вооружил ли ты, Царь, армию нашу, как должно? А призадумался ли ты, Царь, над тем, сколько в запасе у наших войск снарядов, патронов и пулемётных лент? Сколько времени они смогут бить врага из пулемёта - два месяца или два часа?! Молчи ты лучше! А я скажу! И вы все - слушайте! Это сон, и вы все во сне моём, но ведь и я вам снюсь, а проснётесь - быстро, плача, губы кусая, меня и мой крик вспомните! Все до словечка припомните!
- Связать его!..
Царь захрипел и выбросил обе дрожащие руки перед собой.
- Не выполнит тут никто твой приказ! Видишь, все сидят как вкопанные на стульях, табуретах, в креслах своих, и во все уши слушают меня! Люди! Мы пошли убивать родню. Человек человеку - хлеб, не волк! Себя надобно протянуть страдальцу, как хлеб! А не изувечить! Не распять! Ненависть рождает ненависть. Язык языку брат, но на ином языке, который мы до словца понимаем, нам бросают в лицо: сгиньте, каты, мучители, пропадите! Катитесь обратно в свой Ад! Вы пришли, чтобы тут у нас Ад устроить, да мы вас - вашим же Адом - и проклянём! Разве так ты хотел, Царь?! Разве то задумал ты сотворить?!
Полковник с туманными озёрными глазами медленно поднялся за столом. Он молчал, не говорил ничего, зато лицо его, вздрагивая, волнами боли ходя, говорило. Бездонные скорбные глаза - говорили. Он прикрыл глаза тяжёлыми иконописными веками. Улыбнулся нежно, слабо, чуть заметно.
Василий глядел в его ледяное, лесное, озёрное лицо.
Он мысленно говорит мне: так, всё так. Он - поддерживает меня. Он разделяет мою правду. Мою? А разве правд много? Разве правд - тысячи, миллионы? Я сумасшедший, да, но я верю, ибо истинно: правда всегда одна. И она - у Бога. Божия она.
- Колонны, колонны железных повозок! Угрюмые танки, непобедимые машины! Пушки наставлены... Самолёты гудят, жужжат... в железных животах у них - чужая смерть... А может статься, и твоя. И твоя! И солдаты, солдаты. Плохо вооружённые! Голые-босые! - На миг, в страшном его сне, метнулась перед лицом его босая Ксенья во мрачной мешковине. Исчезла, как молния в тучах. - А им приказали: на чужую столицу - шагом марш! И пошли они! Пошли, ибо - приказ! Присягу давали! За неповиновение - трибунал! И палили они, и палили в них! Умалишённые перестрелки. Тяжелейшие бои. Где мы и побеждали. И радовались. Где валили нас. А что удивляться. Войну нельзя творить наспех. О Войне-молнии может сладко мечтать только полоумный!
У Царя мелко тряслась борода. Глаза его выкатились из орбит и застыли, белые, белее льда.
- Ты...
Не сдаваться. Стоять. Стоять насмерть.
Сейчас моя Война - моя речь.
И больше ничего нет у меня в целом свете.
- Властитель в любой Войне должен мужество иметь. Мужество, начав, до конца смертоносное дело довести. Война - работа. Как любая другая. Я, пророчествуя на площадях, внутри лютой буранной зимы, тоже ведь ходил и работал! Я - работал - собой! Я душу мою ломал на куски и людям раздавал! Это было моё деяние; и оно было столь же опасное, Царь, как Война; я каждый день пребывал на Войне, меня мог кто хочешь убить, на меня нападали из-за угла, подстерегали меня в переулках, в подворотнях, тащили за волосы метельною ночью к Лобному месту и визжали: да мы тебя!.. да мы сейчас!.. именно тут тебя и обезглавим!.. ножом тебе юродскую башку отрежем!.. намозолил ты нам тут всем глаза, на Москве!.. а сам небось мечтаешь, чтобы с тебя после смертушки образ святой намалевали да в соборе на стену повесили!.. Не дождёшься!.. Орали: кончай его, братцы!.. И молился я, Царь, и тут случалось чудо - слетала с небес громадная птица, крыла шире Белого Поля зимнего, перья метелями кружатся, а лицо человечье, обличьем прекрасна, и ко мне летела Ангелица, и садилась близ меня, полонённого злыми разбойниками, в сугроб, и вопрошала голосом человечьим: жив ли ты, батюшка Василий, желаешь ли ты снова пойти вперёд по колкому снежку? И радостно смеялся я, и кивал: желаю, желаю! И злыдни, связавшие меня, рассыпались вокруг меня ледяным горохом, и пеньковая верёвка валилась с запястий моих, и распрямлял я спину, и ступал вдаль по снегу опять свободно и счастливо. А Ангелица, Царь, летела надо мной. Правда, Царь, однажды, чтобы высвободить плоть мою из оков, я себе руку прогрыз. Как медведь! Но что мои страсти рядом со страстями народа моего в Зимней Войне!
Толстый недорослый генерал хотел молвить слово, подался вперёд, да так и застыл с открытым ртом, будто на ходу, в недоконченном жесте, заморозил его кто.
- А мои страсти... - выхрипнул Царь.
- А твои страсти, Царь, это твоя победа! Всё на жертвенник победы ты кладёшь! Для тебя важно сегодня. И забываешь ты, что есть завтра! Ты не взял чужую столицу - ты упустил не только время. Ты упустил короткую, похожую на удар под дых Войну. Ты стал растягивать её, как гармошку. Как баянные меха! Да, трудно музыку Войны играть. И теперь уже ты поумнел. Ты стал догадываться о многом. Разгадал тайны, их ловко прятали от тебя. Бранился распоследними, чугунными словами, когда понимал, что от тебя скрывают. Война, и ты это знаешь лучше меня, может быть добычей. Может быть преступлением. Может быть обречённостью. Может быть последней надеждой. Может она стать и единственным выходом! Когда её воистину нельзя избежать! А ты, Царь, сейчас, да, вот сейчас задай себе вопрос: а можно было Зимней Войны избежать?! Можно?! Или нет?!
Царь голову закидывал, хрипел, косил конским кровавым глазом.
Пусть слушает. Больше никто ему такого не скажет. Небось не умрёт.
И я не умру. Я сильный. Выстою.
- Если есть самый нищий, бедняцкий, наималейший миг, и ты выдыхаешь сам себе: да!.. можно было Войну предотвратить!.. - останови этот миг. Увидь его! Услышь! Пойми! Выпусти в свет Птицу-Ангелицу! Солдаты, что сотнями тысяч погибли и сейчас, сей момент, погибают на Войне, они же не знают, за что погибают! А разве это гоже? Разве так заповедано Господом?! В Ветхом Завете, да, начертано: око за око, кровь за кровь, смерть за смерть! Наматывается на веретено нить бесконечной мести. Убьют наших воинов - мы жаждем отомстить врагу и убить во множество раз больше его верных людей. Так умножается скорбь. Так растут горы покойников! Царь! Солдат твой должен знать все про смерть свою! Тогда он жизнь за тебя и Родину с радостью отдаст! А что он знал про тайну Войны, когда на смерть пошёл?! Она так тайной для него и осталась!
Мальчик, первый проводник Василия по Аду, сел на пол, не сводя с генерала глаз. Он глядел на Василия из-под ладони, как на Солнце. За окном, затянутым порослью морозных ромашек и ледяных васильков, во весь голос, как весной, пели птицы.
- Гибель ждала незнающих! Они не защищали! Они просто - грудью на вражьи штыки бежали! Они воздымали вверх хоругвь, и ветер трепал и мотал лик Спаса Нерукотворного, а клича, что ведёт к победе: за Родину! за Царя! - они не выталкивали из глоток своих! Что же они кричали, великий Царь, когда бежали в первую и последнюю атаку?! Что?!
Птицы распевали громче, чем дышали люди за столом.
Птичий щебет перекрывал дыхания людей.
- Солдат, Царь, это такой человек, особый, он или знает, как вести бой, обучен бою и к бою приспособлен всем нутром и телом, или не знает, и перед врагом становится тряпкой, выеденным яйцом. В армии всегда есть солдатское ядро, самое крепкое, самое сильное. И среди моих танкистов такие есть! Я их люблю, ценю. Я их в мясорубку немыслимую - не пускаю! Искусство генерала ещё и в том, чтобы сберечь своих солдат. Не бросать их на бессмысленную смерть! А для армии, Царь, самое ужасное - воинский позор. Не смыть его ничем, кроме как смертью! И на страшную смерть идёт солдат. Почему страшную? А потому, что позор смоешь только страшной смертью! Не только в атаке, но под пыткой! Не только во взрыве, но и при сожжении заживо, когда враги вокруг тебя стоят, на огонь твой глядят, глумятся! И, умирая, ты, солдат, должен в сей миг понимать: так расплачиваешься ты за позор военачальников твоих!
Ещё немного. Пока он не кликнул денщиков.
Мальчик, странник по Аду, сидел на полу, будто у рыбацкого костра, будто хлебал стерляжью уху расписной деревянной ложкой, лицо его просветлело, он закрыл глаза и прошептал:
- Генерал Василий, я вижу тебя и с закрытыми глазами.
- Генералы! Вы же воины. Вы не боитесь смерти! Вы привыкли вести Войну, мастера вы в ней! Ответьте сами себе: нужны вам за подвиги ваши в Войне новые ордена и медали на грудь вашу, на кители ваши и мундиры? Нужны звёзды Героя?! Чего вы ждёте от Войны? Чести и славы, вашей, личной, неотъемлемой от вашей единственной жизни, - или спасения и вечной славы родного народа, что там, за вашими спинами?! Народ есть ваши крылья. А вы птицы, и вы летите. Впереди крови, впереди смеха и слёз. Вас выбрали из народа, назначили народом воюющим командовать. Кто из вас справляется с этим, кто не справляется. Теперь уже поздно жаловаться и рыдать. Над судьбой не плачут. Судьбу видят. Любят. И принимают. Приняли вы всей душой, всей жизнью вашей Зимнюю Войну?! Или вы на ней трудитесь из-под палки? Чтобы - денег из Царской казны заработать? Чтобы - ещё один рубиновый, огненный орден на мундир нацепить?!
- Нет! - задушенно крикнул печальный генерал с озёрными глазами. - Не надо мне никакого ордена! И медалей не надо! И славы! И стояния на Красной площади на виду у всей рокочущей толпы! Я - за Родину - жизнь мою отдам! Чтобы жила она, любимая, процветала! Чтобы меня... меня!.. забыли... а она - была! Всегда! Её - помнили! Её - моя родня населяла! Потомки мои!
Царь повернулся грудью, животом к Василию. Выставил палец пистолетом.
- Хочешь сказать, я отправляю моих солдат на убой?! Я кладу их на плаху Войны?! И под огнём врага умирают они, а я, так выходит, радуюсь этому?! Так мой ответ тебе: да! Радуюсь! В Войне без смерти - нельзя! И ты погибнешь, я буду радоваться! Ибо ты умрёшь как герой! Как герой, слышишь!
Передохнул.
Я знаю, что он сейчас скажет. Прикажет!
Я к этому готов.
- Епифан! Денщик! Сюда!
Голос Царя грохотал канонадой.
- Взять его! Под трибунал поздно! Эти все сидят, молчат, как в рот воды набрали! - Он обвёл бешеным взором людей за столом. - Я тут - его трибунал! Я сам! И это я, я приговариваю его - к расстрелу! Епифан! Выведи его во двор! Расстреляй! Как угодно! В лоб, в затылок! В грудь! Как ты пожелаешь! Нет, как он пожелает! Не хотел на Войне умирать - умрёт под расстрельной пулей! Не потерплю рядом с собой того, кто пытается стать сильнее меня! Я пока ещё Царь! Я Царь ещё! Я... Царь... ещё...
Денщик шагнул к Василию. Выдернул из кобуры пистолет.
- Ступай! Шагом... арш!
Да. Я знал. Всё так, как и должно быть в страшном сне.
Василий повернулся лицом к распахнутой двери. Мальчик, сидящий на полу, встал и подбежал, и встал у притолоки, и прижался к ней спиной. Вроде бы преграждал путь юроду; пытался остановить неизбежное.
Василий медленно подошёл к двери. Погладил по русой, шёлковой головенке отрока, ладонь ощутила тепло ребячьего тела, тепло души.
- До встречи, сынок. Не плачь. Не хватайся за меня. Мы увидимся. Мы же сейчас в Раю. А надо опять спуститься в Ад. Не бойся. Я теперь знаю путь. Ты мне показал.
Переступил порог. За его спиной загомонили люди. Поднялся шум, крики, посыпались шелухой ругательства, таяли снегом, корчились сожжённой бумагой, вспыхивали горящими головнями. Василий и Царский денщик Епифан вышли во двор, на снег. Синий снег искрился золотом, дышал рубиновыми звёздами, плыл донным тайным перламутром. Красота жизни перед смертью потрясала, била навылет. Денщик крикнул:
- Здесь встань!
Василий замер. Здесь? Где - здесь? Для него весь зимний Мiръ был - здесь.
И везде.
- У сарая?
- Да здесь застынь! Спиной повернись!
Василий улыбался.
- Я хочу тебе в глаза глядеть, когда ты будешь стрелять.
Денщик бледнел, а скулы Василия яблочно розовели на закатном Солнце.
Инеем были щедро, празднично опушены длинные, плакучие ветки берёз, свисающие до самых сугробов; синие, голубые густые брови, усы и бороды инея испускали слепящие искры, Василий жмурился, больно было смотреть.
- А это правда, генерал, что ты в избе болтал о том, что Царя нашего - обманули?! Неужто?! Я-то считал, все сверяется-проверяется тысячу раз! Что комар носу не подточит... Что всё - правда! Святая правда! А по-твоему, правды нет? Где же она, родимая, таится... где?
- Делай твоё дело, Царский слуга.
Епифан передёрнул затвор.
Василий внимательно, подробно рассмотрел смерть свою: залысины денщика, мелкие хлебные крошки веснушек у него на тонком, чуть курносом носу, круглые, слишком светлые, рядом, как у дальнометчика, близко к переносице воткнутые в череп глазёнки, маленькие, свинячьи, стреляющие во все стороны, хитроумные; расстёгнутый ворот гимнастёрки, давно не стиранной, медные её пуговицы; намазанные ваксой сапоги, и даже пахучую ваксу раздутыми ноздрями поймал - дух терпкий, дегтярный, жирный. Кобура, откуда Епифан вытянул оружие, гляделась потрёпанной, вытертой на кожаных сгибах. Хорошая, да, простая и весёлая была эта его смерть. Стояла перед ним, затвор уже щёлкнул, вот, ещё немного, сейчас.
Скажет ли слово?
- А ты, генерал... правда секрет какой знаешь? Ну, про Войну?
Василий молчал.
- Ежели знаешь, ты мне, это самое, скажи!
Василий молчал.
Борода его вилась по ветру.
- Я, слышь, никому не передам!
Синий снег вспыхивал, взыгрывал тысячью ошалелых цветных искр, переливался толпою упавших с неба ночью дальних светил, становился оранжевым, медным, медовым. Закат. Солнце заходило. Райский день на исходе. Всё так, как должно быть. Рай закрывает глаза. Смыкает ресницы инея. Он стоит под заиндевелой берёзой. Она горит огнями. Солнце становится красным, вишнёвым. Это небесная наливка. Выпей гранёный стакан - и опьяней. Навек.
Стреляй!
Денщик поднял пистолет. Прицелился.
Василий видел: его рука дрожит.
Трудно человеку на земле убить человека. Это только кажется, что просто.
Он ещё успел услышать выстрел.
...и проснулся.
СПАСТИ И УНИЧТОЖИТЬ
На дрейфующих во Времени льдах обширных каменных храмовых плит лежали они, все трое; и оба в одну сторону лицами повернуты были, Василий и Ксения, а одна, невеста Царская, в другую: разметалась во сне. Опершись на руку, сонно приподнялась на полу храма Ксения. Мёртвые дети лежали вокруг. Только в самой дали, у Царских Врат, тонко плакал ребёнок, не разобрать, мальчонка или девчонка. Сквозь плач пробивались невнятные слова, и походили они на одинокую песню-молитву, да ни юрод, ни Ксения, ни Катерина не понимали, о чём плачет и поёт дитя. О последних минутах жизни на земле? О том, что никогда больше сюда не вернётся?
Ксения встала, пошатываясь. Обвела глазами умерших.
- Как это страшно... родной... страшно как...
Это Война. Не можем сами себе её объяснить. А как объяснить им?
Мы навек опоздали к детям с помощью нашей.
Встал и Василий. Рыжекосая лежала. Густо-красные её власы вольготно развились, укрывали ей спину красным одеялом. Словно красным знаменем, с золотыми кистями заката, была принакрыта она; то ли сама уже умерла, валялась, в бою убитая, то ли сама себя полковым стягом обвернула, чтобы от врага его спасти - стягом забытым, теперь таких уже не шили, а может быть, ещё не кроили, Время не пришло.
Ксения стояла, глядела генералу в лицо.
- Мы их хоронить должны? Как? Сможем ли?
- Сможем. Мы всё сможем. К работе привычные мы. И к самой мрачной. Посмертной. Буди эту цацу. Хватит, наспалась.
Ксения легко раз, другой шагнула к лежащей красотке, наклонилась, затрясла за плечо - нагое, нежное, оно выпросталось из тряпок, тускло сияло в сумраке храма-могильника срезом фонарно-ясного агата.
- Эй! Вставай-поднимайся, рабочий народ! Вставай на борьбу, люд голодный!
Рыжая усмехнулась: то ли в дрёме, то ли в пробужденьи. Сладко потянулась. Вскочила на ноги быстренько, ловко, как и не спала, а лишь прилегла-притворилась: по-зверьи.
Глаза её тоже совершили круг по мёртвым детям.
- Ясное дело...
- Лопат нет! Земля мёрзлая! Пятернями будем рыть, а могилы им выроем!
Василий широко раскрыл глаза, из них наружу выходил свет возлюбленного Мiра.
- Есть лопаты. Выйдем из церковки - слева, за углом. Видать, солдаты траншеи копали. Оставили.
Женщины, подбирая длинные одежды, Василий, запахиваясь плотнее в генеральский китель, вышли вон из страшного, молчащего храма. Десять лопат и вправду валялись на снегу. Они выбрали себе по лопате, отошли на ровное место, и на той белой равнине, наклоняясь низко, стали сначала рыть снег, потом докопались до земли, потом, разрывая лезвиями лопат землю, достигли слоёв глины. Глина светилась рыжим светом, как косы Катерины. А то слои глинистые ложились голубые, цвета реки в солнечный день, а после сменялись на угрюмо-алые, кирпично-карие, а ниже, ещё ниже играли отблесками безумного синего мафория, Ангельского муара. Копали долго, пот лился по их лицам. Василий отирал пот ладонью, Блаженная не отирала. Катерина то и дело вытаскивала из кармана юбки кружевной платок, тёрла разгорячённое, алеющее лицо.
- Уф! Готова яма!
Солнце валилось за окоём Ада, а перед ними разверзалась громадная братская могила.
- Покойно деткам будем спать...
- А там кто-то ведь ещё живой!
- Мальчик.
- Девочка!
- Может, ещё можно спасти...
- Попробуй! Надежда умирает последней!
Ксения побрела к двери храма, и мешок обвивал ей ноги, хлестал по щиколоткам. Ступни её прожигали в меркнущем снеге узкие, как перловицы, маленькие, почти детские следы.
Она сама ребёнок. Как я не догадался раньше. Она ребёнок. Потому и Блаженная. Что делает она на Зимней Войне? Что ей здесь делать? Зачем ей здесь быть? Ад, отпусти её! Выпусти её из когтей!
Она исчезла в прогале тьмы. Василий и Диаволица молчали, ждали. Через мгновенья вышла она на церковный порог. Несла на руках девочку. Маленькую девочку, годов трёх, не боле. Девочка, казалось, спала у её груди. Почивала мирно. Ксения подходила ближе. Василий рассмотрел: нет, не дышал ребёнок. Блаженная мёртвую несла на руках. Лицо Ксении светилось над несомым ею ребёнком. Свет лился так таинственно, и было понятно: она, неся на руках замученное дитя, переживала теперь такое, что не переживал, быть может, никто из живущих; лик её всходил над покойницей плачущим Солнцем, слёзы виноградом вились по щекам, обвивали Ксеньину плоть, становились мvром; Василий чуял неземной аромат, пахло мёдом, сладким вином, корицей, гвоздичным корнем, цветущей сиренью, липой, сердцевиной розы, мускусом, целебным бальзамом; пахло навеки отошедшей жизнью, да, это было мvро, и лилось оно по лицу Блаженной, хоть ещё никакая не икона она была, а просто живая, горько плачущая над мёртвым ребёнком мать.
Мать. Она мать ей. Она родила её, и она отпоет её. Я подпою! Я знаю великий псалом!
Ксения близко подошла к вырытой яме, чуть не упала в неё. Удержалась на краю.
Первую - мёртвую девочку - туда, на дно - бросила.
Ребёнок лёг на дне могилы на спину, раскинув тонкие ручонки.
Она будто спит. Она спит. И однажды она проснётся.
Когда?! На Страшном Суде?!
- Идеже несть ни болезнь, ни печаль, ни воздыхание... но жизнь бесконечная...
- Идём, - Катерина ожгла генерала яростью зелёно-болотных очей, - нам таскать не перетаскать трупов. Полна церковь. Потом панихиду отслужишь!
А ведь она тоже Божия тварь, Катерина. Или нет? Какая вокруг Диаволицы веет благодать? Лишь во сне приснится. В мечте примстится. Адову созданью место в Аду! Зачем она близ Царя! Зачем - он - её - выбрал!
Она опять читала его мысли, как по-писаному.
- Это я Царя выбрала. Иди! Трудись! Поступок должен совершиться. То, что лишь мечтаемо, то эфемерность, игра эфира.
Они выносили из храма мёртвых детей и бросали, бросали в яму. Заполнилась доверху яма. До края. До кромки новой, неведомой жизни.
Мы их закопали в Аду. Спустится ли во Ад Христос Бог наш по втором Его пришествии?
Летела, летела земля из-под лопат, ложились тёмные сырые слои, катились мёрзлые комки, расписанные слепым серебром инея, закрывали, засыпали, заволакивали вчера живые лица, вчера шевелящиеся руки, ещё вчера бегущие резвые детские ножонки. Земля обнимала мучеников, прислонялась к ним, прижималась, задавливала их, занавешивала чёрным крепом, наряженной в чёрное мамкой приникала к ним, безмолвно, страшно вопила над ними, никто не слыхал её вопль, только летели чёрные холодные комья, только падал и падал земляной водопад, и тонули в земле прожитые на земле малые жизни, и шептал Василий-генерал, орудуя старой лопатой, шептал как пел, и Ксеньино гулкое сердце слышало эту слёзную музыку:
- Со святыми упокой, Господи, малых, нежных, безгрешных рабов Твоих... каждого во Царствии Твоём обними, поцелуй...
Над ямой вырос чёрный холм. Василий обошёл кругом холма, охлопал его грязной лопатой. Вот она и могила. Внутри Ада. Не во сне. Наяву. Ещё одна могила Зимней Войны. Самая страшная.
Ксения бросила лопату. Подошла к Василию. Катерина, напротив, отошла далеко от них; вынула из-за пазухи странное для дамы увеселение - трубку и табакерку, набила трубку табаком и долго раскуривала в сумерках: спички отсырели. Пыхтела, выпуская дым, закрывала глаза, пьяно затягиваясь.
- Любимый. Хочу просить тебя. Просьба моя единственная. И последняя.
Он склонил голову, изображая покорность и внимание. Космы упали ему на грудь. Ксения взяла в испачканную землёю руку седую прядь Васильевых волос.
- Раньше, там, в нашем Мiре, ты нагишом ходил. И мне всегда тебя хотелось укрыть, угреть. В шубу с Царского плеча закутать. Да что там с Царского, в любой тулуп, ямщицкий, из лоскутьев пошитый, старый, молью траченный... дырявый. Собой хотелось принакрыть! Самой в шубняк превратиться... тебя - в себя - завернуть! Собой обернуть, и чтобы так и грела я тебя, чтобы ты всюду, везде, обвернутый в меня, осенённый жаром моим, шёл и шёл! И радовался! И пел внутри себя! А я бы, шубою обнимая тебя, молилась: Господь, вот так нас нам и оставь, чтобы века - вместе, чтобы никогда - разлука, чтобы обнять теснее, вжаться сильнее... телом, душой, духом - всё равно! Разве есть разница!..
Он взял рукой другую её руку.
Так стояли: она его за власы держа, он её - за грязные захолодавшие пальцы.
- Я даже не прошу. Я - требую!
- Ух ты! Суровая какая. Да я всё для тебя...
Лицо Блаженной выхватила из вечернего мрака, из надвигающейся неумолимо Адской ночи сумеречная радость. Так радуются люди, когда верят и не верят в содеянное.
- Василий! Ты - Царь Земли. И ты, ты... только не смейся!.. - Она вырвала руку из его руки и притиснула ладонь к его устам. - Ты - владыка Рая! Тебе место в Раю. Требую от тебя малого. Но самого трудного. Тяжко то, о чём тебя прошу! Да ведь неисполнимого Бог людям не даёт! Всё во славу Божию - подвластно нам! Останови Зимнюю Войну! Разрушь Ад! Зимняя Война - и есть Ад! Как ты раньше не догадался! Останови чем хочешь! Хоть... даже... огромной кровью! Последним сраженьем! Но только после него не должно боле быть убийства. Закончи Ад! Отсеки Аду башку! Коли Царь не может - ты Войну на Лобном месте казни! Сам! Топор больней навостри! Впервые так тебя молю. И знаю, ты Царя сам об том просил! Ты же зрел лица генералов на том, во сне, страшном совете. Я вместе с тобою видела твой сон! Я везде. Я мёртвая девочка, её же я сама сейчас похоронила! Я белая зимняя берёза в инее, у той избы, где тебя Царский денщик расстрелял! Ты отворачиваешься, ты думаешь: нет меня, нет Ксении!.. - а я вот, тут, под камнем, отверни меня - и гляну в тебя моим ликом... сядь в лодку - а в лодке я, на смоляном дне, выловленной рыбою бьюсь...
Василий стоял, молчал.
- Молчишь?! Нечего ответить тебе на просьбу мою?!
Он крепко, сильно схватил её руки, до боли сжал, лицо её исказилось, она рот приоткрыла, ей воздуха не хватало, и правда, как рыба, ловила она мороз ртом. Василий хотел привлечь её к себе, обнять её, но она стояла крепко, неколебимо, как врытая в землю; как деревянная.
- Слышал ли ты?! Понял ли ты?!
Делать нечего. Надо отвечать. Это первая и последняя исповедь твоя перед Блаженной. Проверка твоя. Так Бог тебя проверяет: можешь ли ты, способен ли ты совершить то, что совершить нельзя.
- Да. Я понял. Я...
Лицо её взорвалось, вот сейчас, ярчайшей, слепящей, солнечно-подлинной радостью.
И она поняла.
Счастье вышло из берегов её лика и затопило всю Адову округу: и разрушенный храм, и братскую могилу убиенных детей, и едва прикрытую островками жёсткого снега, взрытую танками пашню, и перелесок, усеянный недавно погибшими солдатами и давними скелетами, костями, что уже стали мощами святыми.
- Да!
- Да. Остановлю.
***
Как, где, когда, через перевал какого Адова Времени подошла к нему другая?
А ведь подошла же. Шуршание ее юбок услыхал он, и мороз пошёл у него по спине, под потной гимнастёркой, под замызганным, грязным генеральским кителем.
Рыжекосая стояла перед ним, будто сюда, в снеговые перекрестья Ада, с пирушки явилась: румяная, с чёрной бархоткой на белой гибкой шее, атлас юбки отсвечивал клюквой болота, кружева на груди мотались сердитой вьялицей, и где и когда ухитрилась она намазать ягодным соком губы, и какой сахарной пудрой посыпать себе вкусные щеки, и как незаметно, коварно вдела в мочки тяжёлые серьги в виде позолоченных кедровых шишек? Она умела себя украшать. Она обожала краситься. Перед зеркалом, небось, в Царском дворце стояла - и красилась, красилась, красилась, годами, веками, тысячелетиями. Нипочём Зимняя Война. Нипочём трупы на улицах, реки крови на тротуарах и мостовых. Главное - красиво раскрашенный собственный сытый лик в услужливом зеркале. Зеркало, оно такое покладистое; оно всякий раз говорит ей о том, что краше её нет никого не Земле. А почему? А всё потому, что она Диаволица. Диавол, мужик, умер. Теперь его место - баба заступила. Так всё просто! Так всё славно!
Она генерала за руку взяла. Ласково, доверительно; хитро намазюканный алой мороженой вишней рот изгибая. Рот поплыл красной увёртливой рыбой по её хитрому весёлому лицу.
Я смотрю в её лицо. Но я не поддамся ей. Врага надо знать в лицо. Запомнить черты его, зрачки его и улыбку его. Он всё врёт. Губами, глазами, вздохами, ухватками его. Врёт! Он есть обман! Он собою испытывает веру твою. Исследует границы веры твоей: где она начинается, где кончается.
Выдернул руку. Не сумел скрыть дрожи.
Дрожи отвращенья? Содроганья соблазна?
- Я требую! Слушай меня!
Она тоже требует. Как Блаженная. Она слышит наши речи на расстояньи. Она - её повторяет.
Да, да, она всё повторяет Ксеньино! Только она богата. А Ксения нищая. Ксения скитается по дорогам, по градам и весям, и милостыньку клянчит, и в канавах ночует, у костров площадных греется, а эта - там, во дворце Царском - на злате, серебре ест... пьёт из хрустальных бокалов... вино красным закатом сияет, чужой кровью сквозь заморское стекло просвечивает...
- Слушаю тебя.
- Да ты всё знаешь, что скажу!
- Скажи.
Катерина вдохнула глубоко, шумно, будто весь Ад в себя хотела вдохнуть, вобрать.
Да и ниже она меня ростом. Глядя на неё сверху вниз, вижу её затылок. Вижу враз её спину, плечи и грудь, ноги в телячьих башмачках, Царском подарке, вон высовываются из-под радужного масленого атласа, выпуклый лоб, ум там, под черепом, прячется-живёт, да Диаволице ума много не надо, жило бы внутри нее хитроумство да коварство, и в объятии с красотой коварство ведь - оружие неотразимое: слабы против него бомбы и снаряды! Да вся Зимняя Война против хитрой лисы рыжекосой - слаба! А я?! А я?!
- Уничтожь Землю!
***
...я опешил. Я не верил ушам своим. Душе своей.
Она - мне - это - выкрикнула?
Да что ж это за требование такое? И знает ведь, лиса, что никогда я его не исполню. А зачем же изгаляется? Зачем мне - в лицо - сии словеса - грязной тряпкой швыряет?!
И ведь знает кошка, чьё мясо съела. Знает, что сейчас ей - в ответ - из-под рёбер - из подземных глубин - из всех мёртвых веков и живых времён - крикну!
- Никогда!
Сейчас она засмеётся. Ей больше делать нечего.
Засмеялась! Пасть крашеную раззявив, захохотала! По-птичьи, заливисто, серебряным колокольчиком забилась, солнечно, взахлёб, вкусно, насмешливо, издевательски!
Да, смехом её она надо мной измывалась, она меня хохотом тем навеки к Аду пригвоздила, и распятия никакого не надобно было, ни расстрельной пули, ни пытального гвоздя, ни ножа, присунутого к порезанной в лоскутья груди: она сама стояла и хохотала, моё смешливое распятье, сама издевалась надо мной и пытала меня собою, и вот я глядел своей смерти в лицо, в который же раз, и сколько же раз ещё, грешный Василий, буду глядеть?!
- Никогда?! Ого! Ответить мне так - смелость надо иметь! Недюжинную храбрость!
- А что, ты, красотка, опаснее Ада?
- А ты ещё не понял, безумец?! Я и есть сам Ад. В женском обличье. Как был деревенским сибирским глупцом, по стогнам грязным бродящим туда-сюда несчастным дурачком, вечно дрожащим на морозе нагоходцем, никому не нужным, так им и остался!
- Ну так что же, Адова владычица, - теперь усмехнулся и я, - давай, устрояй над Василием-генералом казнь твою. А я погляжу! Как глядел, в веках, на сотню моих жестоких казней!
- И, хочешь сказать, глядел-глядел, и всё безсмертен?!
- Да! Глядел-глядел, и всё не умер! Живу!
- А про Войну твою всё ли досконально знаешь?
- Знаю всё!
- Скажи, что знаешь!
- Да ведь ты и сама, отродье Ада, внутри меня читаешь.
- Говори!
- Изволь. Царь меня за мои речи в моем сне казнил. Ты ли казнишь? Сама руки не будешь марать, знаю. Кому прикажешь? Армия несчастная. Оружия мало. Солдаты гибнут неисследимо. Война растягивается тяжкими мехами. Звучит плачем. Бьёт в бубен обмана. У всякого живого существа есть живот. У барсука, у белки, у волка... у медведя. У мужчины и женщины. Вот у тебя живот, должно быть, белый, нежный... раскрывается, как лилия на озере. Купаясь в ночи, ты показываешь его звёздам. Царь для тебя бассейн выкопал, близ дворца; я, когда Царским поваром был, приходил к тому водоёму в ночи, и там, в воде, внизу, далёко, как в небе, плавало и смеялось твое отраженье. Мощный бабий живот, сосуд для страстей, для неги и тумана! Пещера для выращивания младенца! А твой-то разве будет святой младенец? Или что... святою тоже сможешь притвориться? Прикинуться?! Нет! Не сможешь! Кишка тонка! Притворство люди чуют. И звери чуют! От того, кто обманывает, отворачиваются, дрожа. И у страны, у Родины твоей есть живот! Она не должна обнажать его перед врагом. Она - должна - беречь - её святое! Ведь там, в её брюхе родимом, появится новая её жизнь. А это - тайна! А убить эту тайну, обнажив её, - раз плюнуть! Коварные рыжие лисы именно на это и способны. Ты тоже знаешь военные тайны. Ты мои тайны во мне читаешь. Ах, бьёт тебя озноб? Значит, правду говорю! А обманные лисы - правду на дух не переносят! Им она - нож острый в сердце! Полынь на губах! Хорошо ли тебе нынче, душенька, Диаволица?! Сладко ли слушать правду мою?!
Ветер поднимался. Выдувал насквозь мёртвый храм. Ярился над дальней могилой замученных детей. Ксения, я видел, села на мёрзлую землю. Обняла колени. Думала, морщила лоб. Ветер Ада гонял над нашими головами чёрных птиц. Вороны каркали, слетали ниже, опять взмывали за облака, сыпались хлопьями чёрной сажи на снежные безлюдные поля. Вчера здесь шли сраженья. Сегодня царило молчание. Рыжекосая невеста Царя отвернулась от меня. Я видел, сейчас она боялась взглянуть мне в глаза. Не хотела.
- Я всё от тебя выслушаю. Я спокойна. Это ты яришься. - Она облизнула красным языком красные губы. Красные её волосы взвихрил снежный ветер. - Забудь ярость твою. Ни к чему она. В Зимней Войне перейдён рубеж, за которым она перестаёт быть болезнью двух, зараженных друг другом стран, и становится хворью всего Мiра. Уничтожь Мiръ! Взорви его! Это единственное, что тебе, генерал, остаётся.
Я, услышав эти лютые слова, тоже отвернулся от рыжекосой.
Так стояли мы, отвернувшись друг от друга, но видели друг друга ненавидящими затылками; и молчал я, понимая, что никогда не отступлюсь от своего никогда; и молчала Диаволица, понимая: жизнь оборвётся однажды без ведома Зимней Войны, ибо мы, люди, Диавол и Бог, не властны над тем, что уже давно записано во Времени, в толстой и растрёпанной, пахнущей сладким воском, обёрнутой в телячью кожу Книге Жизни.
КЛЕЙМО С ИЗОБРАЖЕНИЕМ ЖИЛИЩА ПОДЛИННОГО УЖАСА
Никогда.
И всегда.
Солнце мое! Нежная Ксения моя! Я сам не знаю, не помню, куда мы брели с тобой и проклятой Царскою невестой после того, как в необъятной могиле похоронили детей - мучеников Зимней Войны. Ад расстилался перед нами. В глазное дно моё навек врезались его картины. Не всякий смертный сподобится увидеть такое. Я - видел. И я - запомнил.
Чёрно-синий, потный арап сидел на корточках близ бассейна, полного крови, а там, в крови, плавали головы, отрубленные руки и ступни рядом с ещё живыми людьми; люди разрезали теменем густые волны солёной крови, слепли от её красноты и ужаса, глотали её, уходя на дно. Арап перебирал в смоляных волосатых руках длинные жемчужные ожерелья и исподлобья, с вожделением глядел на голую белую женщину. Её мгновение назад вывалили на парапет бассейна из кузова грузовика. Живот женщины, изрезанный кинжалами, кровоточил. Палачи вырезали на её животе глаза, нос и рот, и живот глядел окровавленным лицом, и веки мигали, и глаза плакали кровью. Голая мученица хрипела, ей не под силу уже было вытолкнуть из себя слово. Арап подошёл, накинул ей жемчужную низку на шею и стал душить её жемчугами. Изо рта её пошла пена, а арап смеялся. Чёрные мускулы вздувались у него под намазанной амарантовым маслом кожей. Потом он бросил жемчуг в бассейн, в ходящую ходуном кровь, и ожерелье потонуло, а смеющийся арап встал обеими ногами на раненый живот белой женщины, и так стоял на ней, чёрный на белой, глядел вниз, наблюдая, как вываливались из неё лиловые скользкие внутренности.
Небо темнело, по его ковру раскатывались звёзды, налетали тучи, шёл снег, красный лёд затягивал кровь, намертво застывая. Я шагал по Аду, ноги мои гудели в железных сапогах, и я их ещё не износил; я еле волок себя по сну и по яви, и Ад гляделся то явью, то страшным сном, и я перестал их различать.
Я видел, как солдаты тащат полонённого полководца, чтобы неподалеку, связав ему руки и ноги, казнить его без суда и следствия; я понимал, во время Войны и на дне Ада не может быть никакого справедливого суда и верного наказания, да и где она, мiрская справедливость? Полководец, мне ровня, бешено оглядывал лица, голые и бородатые, людей, что волокли его на смерть, и пытался выискать в этих незнакомых, в первый и последний раз увиденных лицах хоть кроху милости, хоть молнию снисхождения. Напрасно. Люди были непреклонны, они жаждали чужой смерти. Смерть на войне - хлеб, разменная монета, лучшая награда; смертью можно расплатиться за предательство, за смелость, за честь, за ложь. За всё на свете. Ибо смерть - последняя плата. Там, за границей жизни, от тебя уже не потребуют никакой мзды.
Я слышал, как юные девушки кричали солдатам: не троньте нас!.. пожалейте нас!.. - и не жалели их солдаты, Война шла дальше, и в ней насилие отмечало давно замысленный праздник, на пол-Мiра размахивались кровавые тряпки, в них завёртывали вместе и рождённых в подворотне младенцев, и испоганенных девчонок, и баб, коим, натешившись ими сполна, отрезали язык, чтобы не разболтали они кому то страшное, что с ними в ночной тьме приключилось; я видел, как разбивает о придорожный камень, сидя у красного озера, Пасхальное яйцо избитая плетьми, живого места на теле нет, худенькая девчонка, бродячая птичка, и ест с ладони, жадно, смеясь и плача; а за её спиной, в кромешной тьме, встаёт огромная фигура, толстый живот, медная щетина кольчуги, в крепко сжатом кулаке копьё вперевес, не рассмотреть лица; толстый солдат, хрипя, размахивается, бросает копьё, и оно легко, будто в масло, вонзается в тощую птичью плоть бродяжки, и она, с недоеденным святым яичком в руке, бессловесно, тихо, не успев закрыть глаза, падает на сырую красную приозёрную траву и так лежит, с открытыми глазами.
Я видел разбомблённые больницы, спускаясь по Аду всё вниз и вниз; больницы стояли кучно, рядом, лепились сотами в разбитый больничный городок, и оттуда, из развалин, доносились крики несчастных: раненых, болящих, разрезанных и наспех зашитых, тех, кому уже никто и никогда не успеет помочь. Я входил внутрь больницы, шёл по коридору, раскрывал дверь палаты, видел, как корчатся люди на голых, без простыней, матрацах, как рыдают на раскладушках, как ползут по полу к открытому в буран окну - вдохнуть порыв ледяного ветра, зажмурившись, напоследок улыбаясь. Больной человек ещё оставался человеком, но уже превращался в зверя. Смотрел на меня глазами подранка. Я подходил к койке, гладил его по голове. Один, крест-накрест перевязанный жёлтым старым, сто раз прокипяченным бинтом, приподнялся на койке на локтях и, увидав мой генеральский китель с орденскими планками, плюнул в меня.
- Будь проклят! Ты, генерал! Убийца! Все вы убийцы!
И я видел, как он умирал.
Он умирал мучительно и быстро. Выгнулся коромыслом, уперся затылком и пятками в матрац, как при столбнячной судороге. Повернул лицо набок. Ко мне. Я видел, как его лицо исказила последняя мука. И я, Василий-юрод, перекрестился широко и скорбно, стоя у нищей Адовой больничной койки с прогнившей, ржавой панцирной сеткой.
Я видел, как дивная красавица, одетая в отрепья, ночует в сугробе, прижимая к груди, как младенца, мертвую кошку. И как подбегают к ней два старика, вырывают кошку у неё из рук, тут же, на снежной улице, свежуют, тут же, у колен красавицы, разжигают костер, бросают в него сухие ветки тополей, рваные газеты, разломанные торговые ящики, и мясо бедной кошки жарят, с упоением вдыхая дым и запах, а красавица плотней запахивается в изодранный халат и плачет по единственному живому существу, отрадой ей бывшему в Аду, и Ад даёт ей созерцать, как двое голодных старцев едят на улице, под хлёсткими белыми канатами ночного снега, жареную её кошку, любимицу, почти доченьку, почти человека. И, когда старики заканчивают трапезу, красавица выбирается из сугроба, вся в белых масляных мазках снега, подходит к старикам, что ещё жуют, вытирают себе лицо испачканными жареным мясом руками, протягивает руки сначала к одному, к его тощей жалкой шее, и душит его, а потом делает шаг к другому и тоже душит его, и не сходит с красивого лица её последний оскал, и так, с застывшим оскалом, она выхватывает из прогоревшего костра крышку консервной банки с острыми краями и проводит ею по своей нежной, лебединой шее.
И я видел, как красавица падает в снег, рядом с костями любимой кошки, рядом с двумя задушенными стариками, и на снег льётся кровь, опять льётся, всегда льётся.
Я видел, как выпущенные на волю Войной из зоологического сада звери бродят по улицам, выходят вон из города, идут, между летящих пуль, вдаль, к миру, что давно забыт и людьми и зверями; замирения нет и не предвидится, и я с удивлением и жалостью глядел на двух бурых медведей, идущих мимо руин монастыря мне наперерез. Где танк, из пушки коего командир выстрелит сначала в одного зверя, затем в другого? Между сугробов шли медведь и медведица, и я на расстоянии чуял жар, от них исходивший, и я понимал, как сильно звери любят друг друга в виду никчёмной человечьей Войны.
Я видел, как остановились медведи, сели, подобно садящимся людям, приподняли передние лапы, изображая изумление, и воззрились на меня, медленно, тяжко идущего. Я остановился, а они протянули лапы друг другу, как руки. Обняли друг друга мохнатыми, когтистыми лапами. И я видел, как чёрным клубком сплелись они. Обнявшись, катались по снегу. Заснежилась их шерсть, обледенели длинные косматые пряди. И понял я, что я такой же лохматый-кудлатый медведь, как они, и я так же жажду любви, и в снегу так же хочу кататься, испуская радостный рык, как они; и, Боже, как они были счастливы! А я, грешный, стоя и глядя на них, я тоже был безмерно счастлив, быть может, счастливее их; я был не только свидетель чужой, яростной зверьей страсти - я понимал: так, вот так и только так Земля останется жива, пока на ней есть снег, а в молодом снегу - кувырканье мощных, друг дружкой опьянённых огромных зверей, и, пока они обнимались, я чувствовал, как во мне, по безумным жилам моим, течёт-перетекает зимняя, винная, таёжная медвежья кровь.
И видел я, как вышел из-за моего плеча солдат Ада, он подошёл очень тихо, подкрался, как охотник, и изругался темно, и быстро вскинул автомат, и высадил в медведей-супругов весь рожок. Медведь завопил, оторвал мохнатое мощное тело от медведицы и встал на задние лапы. И пошёл, пошёл на солдата и меня. Да не дошёл. Изрытое пулями тело отказалось зверю служить. Он свалился у наших ног и застыл мохнатой горой. Лежал горой, и по его загривку ползли леса, луга, бочажины, протоки, просеки, болотины, чащобы, затягивало боль смерти ряской, зарастали коричневыми, кровавыми водорослями и кривыми корневищами вопли любви.
А медведица? Что она? Я боялся поглядеть на неё. Всё равно поглядел. Она не смогла встать. Так и лежала на снежной дороге. Я глазам не верил. Уже не медведица это была. А мать моя, Марина.
Марина раскинула руки, истекая кровью. Я хотел подойти и не мог. Ноги налились горячим железом, резкая боль ударила по ним двумя молниями, до пяток, и сквозь подошвы сапог ушла в забвенье льда, почвы и спящих корней.
Я не мог даже выпустить в ветер и метель единое слово, чтобы оно жалко, ребячьи, долетело до моей матери. Я онемел. Только и мог, что смотреть. Лицо Марины затягивал сначала смертный пот, потом посмертный иней, потом потусторонняя ледяная корка. Она на моих глазах превращалась из живой моей, веселой матери, лекарки и охотницы, в недвижную материю, из неё же состоят звёзды, планеты, камни, песок, горы и долы. Недвижную? А разве камни не движутся? Разве песок не переползает живыми печальными дюнами с места на место? Марина, медвежья Царица, я тебя бросил, ты жила в Раю, а потом решила, как и я, спуститься во Ад, чтобы вылечить его насельников; и ты в медведицу обращалась, чтобы любить твоего Богом назначенного мужа; и лечила; и любила; и умерла, как должно на Войне - от случайного, злого выстрела.
Я видел, как подходил ко мне, теряющему силы посреди Ада, мой странный мальчик, что сначала мне путь в Ад показал, а потом на военном совете из-за изразцовой печи вышел и на меня неотрывно глядел. Он выкатывался под ноги мне живым смешным колобком, льнул ко мне, к моим коленям, но чуть только я протягивал руку, желая его по головёнке ласково потрепать, как тут же отшатывался, будто бы я был прокажённый; он шептал мне: ты болен, генерал, Война губит тебя, она изведёт тебя, а тебе ведь надо из Ада дойти до Рая, помни это. Он шептал мне, закинув русую голову, стриженную под горшок: "Давай я тебя полечу! Доволен будешь!" Я усмехался слабо, криво. "А ты что, доктор?" А он вставал передо мной, раскидывал руки крестом, и я с радостью и ужасом видел чудо - как он облекается в белую, испятнанную кровью, снеговую рубаху, как ручонки его становятся деревянными, и ноги обращаются в перекладины, и вот уже он деревянный крест, обхваченный больничной белой, застиранной ветошью, а живое лицо его, в горелых веснушках, ушастое, превращается в лик иконы, и вбита та икона в самую верхнюю перекладину креста, и обвита колючей ржавой проволокой. "Где ты, мальчонка?!" - орал я заполошно. А крест мне молча говорил: "Всё обращается друг в друга, мука становится человеком, а человек страданием, а плоть - Распятием, а зима - небесной свадьбой. Так Ад станет Раем, ты только верь, ты только помни".
И я вставал на колени перед маленьким придорожным крестом, коий ещё миг назад был живым мальчиком, отроком Ада, и крестился, и молился, и каялся, и верил.
А где же были неотлучные женщины мои, покамест я шагал, вышагивал вдоль по Аду? Забыл. Не упомнить мне всего. Юродская память избирательна; она сохраняет лишь то, что потом может другому человеку пригодиться, страдающему, плачущему, - не тебе.
Я стоял, преклонив колени, в снегу и ночи у придорожного креста, а сзади тихо, неслышно ко мне подходила ты, моя Ксения. Я знал, когда ты являлась крыльями у меня за спиной. Не всякий человек может быть крыльями другого человека; ты - могла. И любил же я это в тебе. И затихал я, слушая, как ты в ночи бессменного, бессонного Ада говоришь мне:
- Мы с тобою, Василий, жители Земли. Да сами мы не верим в это. Слишком много пространств и времён обнимаем мы душой. И везде, везде мы с тобою живём. Нет для нас земли неизвестной, нет судеб неведомых! В каждом живущем - мы. И в каждом мертвеце - тоже мы. Да, мы тут, в Аду. Сейчас. Но мы и на Земле, в её нескончаемой Войне. Сей миг. И мы в небе, там наш Рай, а разве же можем мы существовать без Рая? Сей момент? Я вот не могу. Да и ты Райской песней отмечен. Все юроды - Райские птицы. Их шальною пулей не подбить. Их, знаешь, вообще не умертвить! Хотя, Василий, нас будут стараться убить! Тебя - пуще, чем меня! Ты уже приговорён! Да тебе и самому то известно! И утешаешь ты себя тем, что живёшь ты везде и всюду. И носишь множество имён. Ты, милый мой, Давид, Соломон, Иеффай, Маккавей, а может, сам праотец Авраам, а я твоя Сара, ветхая, верная жёнушка твоя. Наше небо распахивается всякий раз, и мы возносимся, это происходит, когда нас убивают. Не бойся твоего убийства! Ни взрыва, ни пули! Я всегда буду петь тебе такую колыбельную. Я твоя сила. Мать Марина умерла, содрали с неё медвежью шкуру, подарили на свадьбу Царице рыжекосой. И теперь она ногами шкуру матери-Медведицы попирает. Охмелеть человеку от власти легко. Я беру силу от неба: оно льётся мне в руки синей водой, и на зимних просторах Ада, здесь, где ветер сбивает с ног и оглушающе свистит в ушах, я подхожу к тебе, вот как сейчас, кладу мои руки на твои плечи, вот как сейчас, и напитываю тебя силой синего Рая моего, вот как сейчас. Чуешь ли ты? Счастье ли тебе? Ты уж догадался, что я и здесь живу, и на небе живу. Я крылатая, я прилетаю к тебе и улетаю опять, ты уж не взыщи. Перелью в тебя небесную кровь! Пусть ранят тебя! Изувечат! Теряй кровушку! Я восполню. Ты стоишь у креста, а он был мальчишкой. Ты молишься, а ведь ты лежишь на земле, простреленный насквозь. Встань, родимый! Василий, встань! Ты - Царь. Пусть только мой! Слышишь, хором поют наши, в мерзлоте похороненные дети: "Да воскреснет Бог и разыдутся врази Его!.." Я за тобой иду. Всё едино, по земле или по небу. Оглянись - и меня увидишь за спиной: я тут, руки-крылья распахнула. Лицо поднимешь - я в небесах лечу, узришь птицу, благословишь Ангелицу. Не бойся Ада! Да, тоска в Аду. Не бойся и рыжекосой бестии! Царь сам всё увидит. Поймёт. Ещё долго греметь Зимней Войне. Ещё длинная песня её во снегах, в ледоставе иных времен. Не бойся и Времени. Оно твой союзник. Нет его для нас. Нет. И, Василий, помни одно: ежели ты умрёшь, вдруг убьют тебя, а я вижу, как будет, помни всей кровью своею: ты жив будешь, я тебя оживлю, я, Ксенья твоя, Блаженная, ибо я и есть блаженство твоё. А коли меня поперёд тебя убьют - я тебя буду ждать в Раю. Буду! И дождусь! А сейчас иди! Иди вперёд! Ступай! А я, я за тобой!
Я оборачивался, а тень прядала в сторону. Мешковина летела и улетала. Лик Ангелицы глядел из-за Адовых туч. Я видел, как, в иной стороне, за иным горизонтом, ветер рвал атласный подол роскошной юбки, усеянной зимними жемчугами, у той, с зелёными всевидящими глазами. Рыжие волосы вились, метались и обращались в красный ветер. Соль крови запекалась на моих губах. Вдали грохотали разрывы. Я думал: где моя каска, от осколков даже нечем голову защитить.
И подходила ко мне быстрым шагом Диаволица, и вынимала из-за спины и протягивала каску, старую, ржавую, ещё с прошлой, стародавней Зимней Войны оставшуюся, выкопанную, должно быть, из чёрной забытой могилы, нашей ли, вражеской, и тыкала ею мне в грудь, в живот, насмехаясь:
- Ну что, генерал, да, стреляют, возьми, возьми, ты же пёкся о том, как себя от смерти закрыть! Закрывай! Вот тебе старый рыбацкий котёл! Проржавел давно! Я на отмели нашла, снег ногой разрыла, вижу - валяется. Ухи не сваришь! Лишь на башку напялишь! И успокоишься! И будешь мнить, что никакая смертушка тебя не возьмёт! Ни зубом, ни когтем! Ах, дурачок! Вечный ты юрод! Голяком тебе по площадям слоняться, а не в генеральском мундире щеголять! Жизнь, гляди-ка, ему собственная дорога! А ну как из тебя блюдо отменное сотворят?! Да - к его, к его столу?!
Я знал, Ксенья моя, о чём она мне кричит. О ком.
О том, кто там, на дне Ада, нас ждал.
Там. На самом дне. Ниже всех слоев ужаса.
Низости ниже самой.
В глубине тьмы и боли.
НА МАЛЪЙ ВЕЧЕРНИ:
Богоблаженне Василіе, возненавидѣвъ временная міра сего, умертвилъ еси вся плотскія сладости, богоугодно подвизаяся, на высоту востеклъ еси добродѣтелей и, вражія козни поправъ, побѣды вѣнецъ воспріялъ еси, отъ земли преставився. И нынѣ на небеси съ лики праведныхъ веселяся, моли спастися душамъ нашимъ.

ФРЕСКА ЧЕТВЁРТАЯ. ЛЕКАРЬ ТЬМЫ КРОМЕШНОЙ
А ведь главная, самая сильная боль, может, не в ранах.
Ф. М. Достоевский, "Идиот"
(РИСУНОК В КНИГЕ ЖИЗНИ:
ДЕВА-ПТИЦА, СИДЯЩАЯ НА ПУШКЕ ТАНКА)
РУИНЫ И ЛЮДИ
Я шёл, и, шаг шагнув, вдруг оказался на родимой моей Красной площади. Через какое многослойное, по швам разошедшееся Время я прорвался? Да, моё Время было дыряво, нище, рвались на ветру его грязные лоскутья, а грохот Зимней Войны залеплял уши, и невозможно было различить в дыму её пожарищ, где жива истина, а где владычествует изукрашенная стразами ложь.
Не узнавал я тут ничего. Где лари? Где лавки? Где телеги? Где коновязи? Где белые свечи тощих, занебесных колоколен? Где купола сияющие, мандаринные, лимонные, капустные, яблочные? Все покрывала пыль. Кремлёвские стены. Кирпичные зубцы. Белая, серебряная пыль. Это мелкий снег. Нет, это песок Луны. Нет, это измолотый взрывами древний камень. Башни возвышались века. Стены стояли тысячелетия. И вот их нет. А есть пыль. В пересохший колодец неба падает отчаяние. Не выплыть. Ножи звёзд летят в меня. И попадают в цель. И обливаюсь кровью. И молчу. И иду. Увязают в пыли Войны сапоги. Мою площадь бомбили. Огонь летел в мои стены, мои храмы, мои рынки. Камни, их так просто разрушить. Все возведённое человеком умирает в Войне; так было всегда. И так есть сейчас. Так устроен Мiръ.
Я стоял пред любимой моей, Спасской башней и, голову задрав, не помня себя, глядел на неё. Где красная звезда на её вершине? Красная, кирпичная ель обезглавлена. Нет звезды. А может, она в небеса улетела? Может, драгоценная, заревая, ты обратилась в мою Ангелицу?!
Молчание. Молчание пыли, повторяющей клубящиеся звёзды. Звёздная пыль поселяет в сердце тоску по несбыточному. Военная пыль сжимает сердце в кулаке, как Райский мандарин, и из него течёт кровавый сок. Заливает меня изнутри.
Там, наверху, на башне, чудом остались живы, после бомбёжки, Судные часы. Я так любил куранты! Они били, играли, музыкой рассыпались, раскатывали чистый москворецкий жемчуг по ледяной площадной ладони. Мои Судные часы. Вы отбивали нам час расплаты. Возмездия час. А мы не верили. Мы смеялись: прекрасные, бейте, бейте! Разбивайте пред нами на брусчатке хрустальные рюмки, гранёные стаканы будущих Всемiрных празднеств! Наливайте в наши жадно подставленные горсти, пригоршни, в наши дрожащие, на морозе стеклянные ладони, и все кровеносные сосуды сквозь хрупкое стекло на холоду просвечивают!.. - сладчайшее вино рубинового, безсмертного звона! Звон часов Страшного Суда! Звон возлюбленных курантов! Вот она, Родина. Неважно, кто у нас теперь Царь. Важно, что он больше жизни любит Родину и Судные часы посреди неё, зимней, белогрудой, выстывшей до кровавой, водорослевой, корневой жилки.
А я? А я, босой площадной юрод?! Какой я генерал! Чем я оправдаюсь за мои военные ошибки! И кто из ныне живых поймёт мое военное геройство!
Да, я жесток на Войне. Не только к врагу. Но и к танкистам моим. Судные часы, вы лучше всех знаете, как я суров. Я не могу иначе. Если на Войне будешь миндальничать - удачи не жди. Часы, что вы замолчали?! Бейте! Я жду. Каждый ваш удар - это моя жизнь.
Она бьётся мне в перевитые болью жилы. Удар курантов - удар сердца. Когда обнимает страх, сердце мечется у горла. А потом падает на землю и разбивается. Война - это когда стреляют в тебя, как во храм чужой веры, и тебя разбивают в осколки, в руины, в крошку. Ты становишься серебряной, снежной пылью. Тебе больше не пойти босиком по площадям. По мёрзлой брусчатке. Туда, вперёд, гляди, веки не смыкай в метели: до самого Лобного места.
Бой курантов раскатывается по всей Земле. По развалинам одиннадцатиглавого храма, и бывшие во время оно цветными, лиственными и цветочными, купола тихо горят сквозь казнящую пыль мертвенно-сизым, преисподним светом - лунным ли, подземным, не понять.
По небу летел вдаль рваный сумрак последних туч; он летел в никуда. В никогда. Я знал, что такое никогда; оно дышало безвременьем, и его невозможно было предсказать.
Я шёл по площади, шёл по ободу площади, шёл поперек площади, шёл не только в себе, но и перед собой, свободно выходя из тела и обретая движение духа.
Никого не было на Красной прекрасной площади, прежде многолюдной, густо кипящей разномастным, развесёлым народом. Раньше кто тут смеялся, кто ревел белугой, кто сизым голубем взмывал под небеса, кто громогласно торговал, выкликая, зазывая, выхваляясь товаром, кто вышёптывал за столбами враньёвые гаданья, кто выкрадывал из карманов у зевак кисеты с табаком, монетами, орехами и семенами, взамен, в насмешку кладя в опустелый карман сироту-пуговицу, вонючий рыбий скелет или голубиное перо. Кто на балалайке трень-брень! Кто на гусельках! Иерей молитву на всю площадь читал, нищенка с вором сладко целовались в тени колокольни, и у нищенки той животень торчал тугим круглым куполом: ребятёнок там новый рос-подрастал для страданий подлунного Мiра. И вдруг как заблажат, зальются Вселенской музыкой над Красной площадью великие колокола! Как разольются винным, хрустальным, синим и красным, малиновым звоном куранты! То ли крестины отмечают, то ли помины, а то ли свадьбу: всё одно, чью, Царскую-боярскую или горькую-на-задворках; звонит жадное, всё волчьи сожрёт, Время по ушедшим, по грядущим, по тебе, грешному и настоящему, лишь по себе самому оно никогда не может звонить: его удел безсмертие, лишь соль веков застынет на губах.
Иду. Никого. Ни души.
Лишь пепел, пепел.
Нет! И тут, среди земного Ада, люди живы!
Ко мне подбежала тощенькая уродливая девчушка; две светлые русые коски, неряшливо заплетённые, прыгали по её дощечкам-плечам; она лопотала на чужом языке, я ничего не понимал, но кивал и улыбался, будто понимал всё. Её спина и грудь, крест-накрест перевязанные военными ремнями, напоминали лодку-плоскодонку. Она делала отчаянные и смешные жесты тонкими, как зимние ветки, руками, и я следил за танцем её рук, отвечая на него восхищенным сердцем. Я видел: она меня узнала.
А я, я-то всё никак не узнавал её.
- Откуда ты знаешь меня?.. Ты знаешь, кто я такой?..
Я видел: она поняла мой простой вопрос.
И вдруг заговорила на ломаном, корявом языке, странной, остро-перечной смеси родного и чужедальнего, и тут я стал её понимать, и жаль мне её стало, а потом и себя грешного, словно слушал я на дорогой могиле погребальную песню.
- Знаю! Ещё как знаю! Ты важный дяденька! Ты генерал. Ты воинством танков руководишь! Они такие страшные! И ты страшный, да прекрасный. Твои танки сильнее всех. Их тоже все боятся. Там, где идёт твоя армия, образуется воронка из танков, и она, железная, всасывает людей. Ты завоевал уже много вражеских городов! А ты знаешь, все эти города когда-то были нам родными! Что с нами со всеми случилось? Почему мы перестали узнавать друг друга в лицо? Города ведут хоровод, они заслоняют друг друга, когда по ним стреляют. Ты умеешь выстроить танки в шеренгу! И они могут быть хитрыми, ловкими, быстрыми, как змеи или ящерицы! А такие тяжёлые! А сколько ещё городов тебе надо захватить, чтобы Царь на весь Мiръ крикнул: всё, наша победа, окончена война!..
Улыбка сама не могла сойти с моего лица, и я стер её ладонью.
- Я привык воевать до победы.
- А что такое победа? Она настоящая или сон?
- Настоящая.
- А вот скажи, я настоящая? Или я тебе снюсь?.. Мне один дядька сказал: ты девочка-сон, я дуну на тебя - ты улетишь пухом, а я проснусь.
- Ты?.. - Я склонил голову к плечу, по-птичьи, разглядывая девчонку. - Ты, спору нет, настоящая. Вот гляди. Беру твою руку, сжимаю в кулаке. Больно?
- Ой!
- Больно. Успокойся, сейчас боль пройдёт. Но болит только настоящее. Настоящая плоть, настоящая душа.
- А где душа?.. Где она болит?.. Покажи!..
Я зашарил по себе ладонью, будто искал в кармане кителя курево. Не нашёл. Рассмеялся беззвучно.
- Она везде, дитя. Везде. В каждом волоске. В каждой складке и каждом сгибе. Колени гнутся и бегут, глотка кричит, лоб перекашивается морщинами. Тело есть душа, только не все это понимают.
- Я понимаю!
- Верю. Давно разбомбили город?
- Давно! В самом начале Войны!
- Бедная моя Москва...
- Это уж не Москва! Её сейчас иначе называют взрослые солдаты. Армагеддон, вот как! А я всё равно называю наш город Москва! Я по-другому не могу!
- Армагеддон... А вражеские самолёты часто налетают? И убивают?
- Нет, дяденька, сейчас не сильно убивают, нет, ну так, иногда, сейчас они только кружатся над Москвой, а потом гул пропадает, наверное, они садятся на границе на запасные аэродромы, а может, в наши самолёты перекрашиваются и нами прикидываются.
- Прикинуться можно чем хочешь, была бы охота! Человек - зверюшка странная! И смешная! Он с удовольствием повторяет судьбу глупца, погибшего напрасно, и забывает житие пророка, а ведь пророческий дух... он рядом с Господом летает. Вот ты хоть одного живого пророка видела?
- Нет. Да! Тут бой гремел. Стреляли так густо, что неба и стен домов не видать было из-за огня! Огонь ливнем лупил! И вдруг наперерез огню человек выбегает. Откуда ни возьмись! Ну, вроде тебя... похож... борода по ветру вьётся, волосы длинные, на концах кудрявые, все растрёпанные. Ветер прямо бесится! А бородач идёт себе, идёт. Босиком! И подходит к месту, где пули ложатся гуще всего! И поднимает руки, ладонями вперёд. И так стоит! И кричит! Много всяких слов кричал! Я не все разбирала. Но кое-что запомнила! Он кричал, что... по причине... беззакония в людях оскудела любовь! И что пули никогда не поразят истинно верующего! И что небо... небо... как это он кричал... погоди... небо - если человек его сильно разгневает - возьмёт да упадёт на человека! На всех людей! Ну, как гнилая крыша! И всех придавит! Задавит!
- Задавит...
- А я спряталась! И ещё со мной другие спрятались!
- Спрятались...
- А что ты всё время дразнишь меня?
Я твоё эхо, дитя. Я это ты. Ты ещё об этом не знаешь.
Когда увидимся с тобой? Кто ты? Может, в тебя жизнь Красной площади перелилась, и вырастешь ты, и ею - снова - станешь, живой и громокипящей?
- Я не дразню. Я просто за тобой повторяю. Чтобы навеки запомнить. Тот, кто любит, за любимым повторяет всегда. Так человек запоминает другого человека. И так он может передать огонь его слов по наследству. По цепочке. Перед другими - возжечь.
Она не поняла, я видел; но на всякий случай согласно наклонила голову.
На русой её головушке толстым слоем лежал пепел.
Господи Сил, она же и есть пепел. Я её вижу, но её нет.
Углы её губ приподнялись в нежной, тающей усмешке.
- А я всё занимаюсь ерундой. Скучно мне, я осталась одна. И я всё думаю, думаю, думаю, думаю.
- О чём?
- Как Войну убить.
- Вот так мысли у тебя!
- Да надоело, когда убивают. Хоть я и привыкла.
Она есть само терпение и смирение. Господи, дай же и мне смиряться и терпеть.
- Дяденька генерал, а ты Царя видал?
- Видал.
- А ты Царя в лицо знаешь?
- Знаю.
- А ты с ним хоть разок говорил?
- Говорил.
Я улыбнулся.
- И что Царь тебе сказал? Нет! Что ты сказал Царю!
Я вздохнул прерывисто, как после плача.
- Я поднёс ему на блюде вкусные яства, мною самим приготовленные, а он расспросил меня, как я их сварил и зажарил, и я всё ему подробно рассказал. И ел Царь, и похваливал. А я стоял рядом и глядел, как он ест.
Русая девчонка засмеялась тихонько и тронула рукой растрёпанную коску. Ветер дунул, и пепел вокруг головы и лица её поднялся слабым сумрачным, млечным свечением.
- А почему ты Царю еду сготовил? Ты у него поваром служил?
- Да. Поваром служил. На кухне.
- Да! Вспомнила я! Точно!
- Память - это радость. Не всегда. Горем она тоже глядит. Из зеркала.
- А потом вдруг стал генералом?
- Да. А потом стал генералом.
- Эх ты! И как тебе так удалось! Ты что, очень умный, что ли?..
- Нет. Я юродивый.
- А кто такой юродивый?
- Юродивые мы все. Каждый. Отроду. Юродивый, это значит особенный. Все люди особенные. У всех свои беды и свои победы. Все рождены неповторимыми. Но только немногие юродивые осмеливаются вести жизнь, для коей они рождены.
- Ух... Вот здорово... А ты для коей рождён?
- Нагим по Красной площади ходить. И пророчить.
- А почему ж ты тогда генерал, а? Да в военном наряде? - Она ущипнула меня за китель. - И в орденах? Ты ж их на Войне заработал?
- Генерал, малышечка, тоже юродивый. Только мало кто об этом догадывается. Генерал-юродивый видит не только Войну сегодня и вчера, но весь ход военных действий. Он знает, что будет завтра. И не все в командовании это знание юрода переносят. Такое знание ненавидят. Бичуют. Многим завидно, если ты видишь будущее.
- А вот мне не завидно?
- Ты безгрешная.
- А ты - безгрешный?
- Нет. Грешен я. Как все люди. Юрод, быть может, грешней других.
- Почему это?
- Он вземляет грехи Мiра.
- Ох, какие мудрёные слова! Не понимаю...
- И не надо. Потом поймёшь.
- А у тебя военная кофта нафталином пахнет!
- Китель у Царя в старых сундуках лежал. Нафталином одежду посыпали, чтобы моль не побила.
- А человека моль может побить?
- Ещё как может.
- И вынут человечка из сундука всего в дырках!.. Ха, ха, смешно!.. и отряхнут!..
- И Время - может.
- Время?.. Но оно же - Царь над нами... надо всеми...
- Время, съеденное молью, никто не вспомнит никогда.
- Ты и об этом Царю рассказывал?.. Ну, когда поваром служил?..
- И об этом тоже. А ещё я за Царя молился. А ещё изъяснял ему мою жизнь. И - его жизнь.
Девчонка шмыгнула носом и утёрла нос и рот грязной тонкой рукой. Одна её коса совсем развилась, прядями играл ветер.
В руинах колокольни Ивана Великого обвалился камень. Беззвучно упал среди обломков. У всего вокруг не было звука, не было запаха. Лишь ветер, лёгкий ветер и пепел, ветер и сумрак беззвёздных небес.
Безлюдная площадь молчала. Молчал и я. А потом сказал ей:
- Хорошо. Я тебе расскажу. Тебе одной.
МАЛОЕ КЛЕЙМО С ИЗОБРАЖЕНИЕМ ЖИТИЯ ВАСИЛИЯ-НАГОХОДЦА
Рожденье моё, дитя, случилось в тайге, всё село шептало: меня матерь моя, Марина, в лесу от медведя пригуляла. Рано я узнал людскую злобу. А дара моего не знал; что знает ребёнок? Он знает всё про Мiръ, и ничего - про себя. Мой отец Царь-Медведь, мой отчим широкий ветер, моя мать лекарка забытая, моё детство - цветок-жарок в тайге по весне.
Лечить! Спасать! Исцелять! Молитву возносить за здравие! Я сызмальства привык: мать возится с болящими, мать перевязывает раны. Прислоняет горячий воск ко вспухшему чужому телу. Тело человека! Душа человека! Рано я понял: это одно. Исцеляя тело, мать моя, Марина, исцеляла душу. Обихаживая душу, воскрешала тело. Мать моя читала мне из толстой Книги Жизни каждый вечер; книга та, дитя моё, пахла прогорклым воском и нежным мускусом. Она пахла потёками мvро, что варили в котлах батюшки для святого помазания; а потом, забывши труды людские, вознесясь над варевом и котлами, само текло вдоль по ликам незапамятного письма образов. В деревенском храме тихо, молча стоял я, а мать моя держала меня за руку, потом руку выпускала и шептала: "Крести лоб, Бог всё видит". Я накладывал на себя крест, и при этом начинал внутри себя видеть странные дальние картины. На меня наплывали железные сражения, грозные дымы, площадные огни. Я шёл по земле, истекающей кровью, и по празднику шёл, и по канату над толпой на жестоком лицедействе, и по горящим углям, и меж смиренно лежащих трупов. И так я младенцем шёл-шёл, да и дошёл до Рая.
Спрашиваешь, что такое Рай? Да, я видел его, я гулял в Райском Саду. Да разве можно об том - словами? Нет таких слов ни в моём языке, ни в твоём. Рай - это когда пред тобой открывают старинную тяжелую Книгу Судеб, а ты там всё до слова знаешь и сам себе их давно поёшь. Рай, это когда ты босыми робкими ногами ступаешь по изумрудной траве, а она гнётся и шелестит туманным шёлком, отсвечивает зелёным перламутром, распахивается веером цвета змеиной кожи, кладётся нежной полынно-бархатистой тропой, виясь и уходя вдаль, за кромку бытия, и ты идёшь по Раю по дороге той, ничего не понимая, не осознавая, никакими вопросами не задаваясь, а просто идёшь, дышишь, радуешься, наслаждаешься, здесь и сейчас, и здесь превращается во всюду, а сейчас - в навсегда. Рай... да... звери в Раю... люди в Раю... не могу передать, сколько же в них любви. На земле я такую не встречал. Нет, вру, дитятко, встречал! Есть, есть такая любовь... и за плечами моими, и впереди меня... маячит везде, летит надо мной... Дева-Птица... имя её тебе сейчас не скажу... рано ещё...
Я научился летать. Раскину руки - и полечу. Над откосами, над разливами рек. С голубями вровень, с гусями, журавлями, цаплями. Над плавнями лечу, над синими заводями; над плеском Царских рыб в глубине; над заветным местечком, где река вливается в море, и море громадной волною, нахлынув, навек поглощает её. Река - смерть, море - безсмертие. Так я тогда понимал.
Мать научила меня врачевать. Врачевать, это всё равно что на чужом теле рисовать. Излечивая больных людей, я рисовал на их теле рисунки. Углём, киноварью, даже кровью моею, разрезая себе палец и запястье и малюя красные разводы на коже страдальца. Тело, изнутри увидя рисунок мой, вздрагивало, съёживалось, расправлялось, расслаблялось, распускалось подобно цветку. Исцелялось на глазах. Человек глядел внутрь себя и видел там, глубоко, скрытые силы свои. А я их высвобождал.
Ещё к нам в избу приходил мой дед. Дед, белая борода, приходил из ниоткуда и уходил в никуда. Он носил на голове железный колпак. Железный край больно впивался ему в лоб и в затылок под редкими вьюжными волосами. Иногда из-под тесного железного горшка по лбу деда текла кровь. Он радостно вытирал её ладонью, ладонь обтирал о портки и радостно восклицал: мучься, мучься, тело жалкое, презренное, на Страшном Суде не так-то будешь мучиться! А на небесах то, у праведников, тебе зачтётся.
Я, уцепив деда за руку, ходил с ним на рыбалку. Рыбалили мы знатно. Особенно зимой: пешнёю лунку во льду пробивали, и толклись в круге водяном тучи осетров, живых колючих брёвен! Волшебная прорубь, я шептал, речушенька бажоная, дай нам рыбки, мы ж тебе, реченька, отработаем.
А потом дед как сквозь землю провалился. Я спросил мать Марину: а дед-то где?.. умер, что ли? Я знал, что есть смерть. Нет, тяжело, медленно покачала Марина головой, просто исчез; ушёл. Скатертью ему дорога! Если отыщешь деда, когда взрослым станешь, в странствиях твоих по земле, передай ему, как я его любила. Он колпак железный носит; он юрод. И ты его унаследуешь, ты будешь юрод. Судьбина тяжкая, а чести перед Богом много.
Я рос, и тут со мною приключилась беда. Беда, дитя моё, может приключиться с каждым. Я лечил людей уже не в крохотной саянской деревеньке, а в гулких, сутемных городах, куда сам, по моей воле, из заброшенной моей, родной деревеньки через всю мою юность прибрёл, где бедствовал, с хлеба на воду перебивался, где ежедневная толпа, то снегом наплывающая, то дождищем моросящая, просит, требует: дай!.. дай!.. - на стогнах, там биение колокола заглушают дикие вопли: "Ахти мне, ограбили!.. Эй, все сюда, ребёночка я потеряла!.. Помогите, люди добрые, гляньте, всего меня ножами изрезали!.." - и бросаюсь я, чтобы помочь, спасти, а мне - раз!.. - подножку, и под мышки уцепили, и волокут, а куда - не знаю... И орут мне в уши, и глохну я от крика: "Это ты, ты зарезал!.. Ты - убил!.. На дыбу тебя!.. На костёр!.. На плаху!.. Без суда и следствия!.. Народ, свершим правосудие сами, толпою!.." И так желали меня прикончить сразу, тут, на площади, да явились стрельцы-молодцы, прокричали приказы и запреты, и на колченогой телеге, на ребрастой голодной лошадёнке привезли меня в тюрьму, и там вопили над моей голой головою множество возмущённых, хриплых и звонких голосов, и выкрикнули приговор, и кинули меня, дитя, в каталажку... ох, не могу те годы вспомнить, да ведь я их и провёл за решёткой! На пользу ли, на ужас, на счастье - не знаю! И знать я не должен! Бог за меня знает всё!
Томился я в неволе один. Никого родного со мной. Там, в одиночестве, мне все люди на Земле и стали - родные. Как то произошло? И того не знаю. Всех скопом видел; над простором летел; подобно голубю, подобно Сирину, Алконосту. И был я свободен. И радостен был. Тюрьма превратила меня в счастливца. Смеёшься? Не смейся! Горькое горе иной раз делает человека самому себе вольной птицей! Самому себе священником! Я у себя самого принимал исповедь! Бормотал, перечисляя, сбиваясь, сам себе на тюремной одинокой исповеди зимние, ледяные грехи, коих никогда не совершал! Да в будущем, видать, так себе шептал, совершу! А лучше - загодя покаяться! Чтобы никогда больше... Ко мне в застенок врывались пытальщики. Обнажали меня и бичевали меня. Избичуют, оставят на полу узилища, истекающего кровью. Не плакал я. Не кричал. Слёзы исчезали, а иной раз и боль исчезала. Словно бы набрасывали на меня рубаху, исчёрканную вдоль-поперёк алыми полосами; я сам себе был земная карта, изрисованная алыми, багряными реками, и реки те струились по мне, текли, утекали вдаль, к морю крови, а может, неба, а может, любви.
Постепенно мои тюремщики стали меня не только бить, а и привечать; не только кровянить мне спину и лик, но и советоваться со мною: эй, ты, юрод, ну-ка вымолви словцо, скажи-ка нам, вот что нам делать с застреленным на Царской охоте зайцем?.. хотели повару снесть, штобы он зайца того освежевал, в глиняном горшке запёк да к столу Царскому подал, разрезали животину, а у дичи-то внутрях - бирюзовый крестик в золотой оправе, до того красотульный, спасу нет, как светится, ажник ладонь греет!.. так тот зайчишка, быть может, не простой, а заколдованный, али пуще того, Божья прислуга!.. а мы его - на жратву пустим!.. вот ответь, што нам тут предпринять!.. - и я улыбался и тихо ронял: люди-люди, вот вам зверь урок преподал, и у зверя во чреве может таиться на молитву намёк, а вы тот бирюзовый крестик возьмите - да подарите. Кому, они кричат, Царю, Царю, што ли, задарить?!.. Нет, говорю, не Царю, а выйдете на Красную площадь, да выхватите там охотничьим оком из толпы распоследнюю нищенку, бродяжку, да к ней и подойдите, да ей - сей бирюзовый крест - на ладони и протяните. И приговаривайте при этом: носи, носи, бедняжка, на здравие, надень на шею, ладонью щупай, торжествуй, радуйся, молись, бирюзовый небесный крест на груди, как голубя, пригревая!..
На другой день палачи ко мне заявляются да отчёт предо мной держат: всё сделали, как ты велел, узник, выискали на Красной площади оборванку, юродку, не в себе девка, ходит-бродит близ храмов да песню поёт, широким крестом народ осеняет, а сама босая, а у самой мешок из-под гнилого овоща на плечах! Вот мы к ней и подкатились, и ей - бирюзовый крестик - и вручили! И она, представь, не удивилась, не отвергла, взяла! На ладони держит и балакает тихо: вот точно такой у меня и в Сибири был, мне его когда-то давно Богородица поднесла, с небес спустилась да на меня, в колыбельке спящую, его и надела, об том мне мать моя поведала, то и дело крестясь и мелко дрожа, а потом мать умерла, а потом я крест потеряла, а может, украли, а может, коварная Диаволица стащила, когда я в толпе по рынку шастала. На нас глядит пронзительно. В кулаке бирюзу зажала. Нас вопрошает: отколь он у вас, добрые люди? А мы ей: не добрые мы вовсе, мы Царские каратели, мы на преступников охотимся, а подчас и на зверей в лесу, в зайчином брюхе крест нашли, да вот тебе, несчастненькой, вручить и порешили: всё, мол, замурзанной нищей радость какую принесём!.. А она на нас так пристально глядит да мерно так, будто в медный колокол бьёт, изрекает: это не вы решили, это парень один решил. Вьюныш юродивый. Не держите его боле в тюрьме, выпустите на волю. И вот мы тебя, юрод презренный, на волюшку отпускаем. Выбегай вон из-за решётки да нас, милостивых, помни!
Не могу передать тебе, дитя, каким вкусным, когда вдохнул его до дна лёгких моих, показался мне свободный, сырой и сильный ветер. Дул ветер мне в лицо, мимо меня, сквозь меня. Выдувал насквозь мою боль и мою мудрость. И стал я безумцем. И к счастью мне это было.
Я не гнал от себя безумие моё. Я понимал: оно дано мне, как награда. Любую боль и любое сумасшествие в жизни и в смерти надо заслужить. Боль обращается в светящийся всеми складками твой святой мафорий, радость - в твою святую епитрахиль. Ты ими окутываешься. Их никто не видит. А ты, нагой, идёшь по зимним колючим дорогам, и стопы твои разрезает ножевой лёд, и жёсткая снежная крупка царапает, ранит щёки твои и грудь твою, а ты - счастлив. Дорого стоит твоё счастье! И необъяснимо оно.
Я ходил по дорогам Родины моей, и на людных площадях, в укромных закоулках, на излёте забытых кладбищ, близ детских приютов и разрушенных, ржавых заводов лечил, утешал, любил. Я любил людей, и люди это понимали. Меня не отталкивали, хоть и страшен я видом был - голый, в одной простыне, обкрученной вкруг чресел, идущий шатаясь, как на ходулях, в самую гущу безвременной, скитальным роем клубящейся толпы. Люди сбиваются в кучи и стога, люди трясутся в общей пляске, из их глоток выходит и тает в пространстве общий крик. Чем больше людей на земле, тем плотней они друг к другу жмутся. Я молился за всех, за всю необъятную толпу, и люди, хоть орали громче боя колоколов, почему-то безошибочно слышали в людском море меня, и во всей моей молитве все слова всегда разбирали. И - запоминали. Я видел: слово моё обладает могучею силой; произнесённое, огнём впечатывается в память услыхавшего, ожогом вспухает на руке, на груди, на лбу мимохожего.
И так, идя зимним путем, я становился всеобщим лекарем. Пройдя сквозь тюрьму, я понимал людскую боль. Наученный матерью-знахаркой, я умел уврачевать телесное страдание. А то, что я отверг тёплое одеяние внутри нашей родной зимы, так то правильно сделалось в жизни моей, верно сотворилось - тот, кто лечит, не должен себя лелеять, тот, кто других ласкает и от мороза спасает, не может ублажать себя пушистою шубой, сладчайшей едой! Ты другому сладость протяни. Ты инакому жаркую доху подай. И укутай дрожащего, нищего в богатую Царскую рухлядь. Никогда бедный человек не ощущал такой заботы. И вот я! Тут как тут! Мне тулуп бараний сердобольная вдова подарила - я немедленно его бродяге отдал, он сидел под мостом с нищими, и распивали они на троих бутылочку беленькой. Нищие заворачивались в лохмотья, да сидели на снегу в сапогах с чужой ноги, а у бродяги, что бутылку добыл, скрал, небось, с лотка на рынке у Кремлевской зубчатой стены, на плечах ничего не моталось, ни мехов, ни парчи, ни изодранной псами рубахи, ни лоскутного детского одеялишка, попачканного винными звёздами жалких пирушек: гол был бродяга как сокол, как и я же, близнецы-братья мы с ним были, и медленно подошёл я к пирующим нищим, и стащил с плеч бараний курчавый, седой тулуп, и накинул его на голого скитальца, и улыбнулся, и шепнул ему на ухо: Господь тебе то дарит, не я. А я - лишь орудие Господа. Изумлённо воззрился на меня бедолага, крепче запахнулся в дарёный широкий тулуп, а я вообразил, как тулуп тот носил бедный муженёк доброй вдовицы - и мысленно увидал, как мужик тот тулуп надевал, как в нём на площадь, в широкий Божий Мiръ, ступал - торговать, буревать, воевать, умирать.
Все мы наследуем друг другу. Каждый донашивает за другим его одежды. Бедные ли, богатые. Ты сегодня богач, а завтра бедняк. Кому суждено торговать, кому воевать, а кому умирать, а кому воскресать. Всё распределено в Мiре, дитя, всё нам предписано. И не отвертишься.
Я сам себя спрашиваю иногда: а как же вышло, что я смог трудиться Царским поваром у Царя на кухне и приуготовлять Царю со товарищи вкуснейшие, нежнейшие, дивные, немыслимые блюда? Еда - искусство. Я всю жизнь ходил голяком по площадям и молился. А яства? Поздно я осознал: еда тоже свята, и ею тоже можно молиться, не только насыщаться или преступно, без меры, наслаждаться. Ведь Причастный хлеб, и Причастное вино тоже еда. Еда Божия. Как Он молвил тогда, за Пасхальной трапезой, при зажаренном на живом огне ягнёнке и многосвечном светильнике, озаренный рвущимся на сквозняке пламенем: Тело Моё, Кровь Моя. Ешьте и пейте все. Не забудьте.
А все иные изощрения едальные, все другие измышления кулинарные - да, я это не только освоил, я это видел внутри себя; как всякое явление, что ещё только наступит миг спустя, миг перед тем, как ему прийти и воцариться, я видел его Время во всех подробностях: я не умел печь пирог, но видел его внутри себя - и месил тесто, и раскатывал на посыпанной мукою доске, и крошил-резал начинку, и задвигал пирог на противне в зев печи; я не умел делать студень, да видал внутри себя, как булькает на огне мясное варево, как крошу я туда пахучий, деручий чеснок и швыряю лавровый лист, как разливаю наваристый тот супец в глубокие лохани, а люди те лохани хватают и волокут, и ставят на холод, в подземье, в ледяной погребец, чтобы суп застыл и обратился в холодец, его же приятно и насущно ко крепкой выпивке подать.
Стезя поварская ждала впереди, а покамест я по площадям слонялся, из града в весь по первому снежку переходил, из веси в стольный град, покорно воздыхая, телеса мои припёр, и вот Москва предо мною, и вот я в ней, её красной живой иглой насквозь прошиваю, в ней, незнаемой, будто века её знал, проживаю, санями из плоти и костей качусь по её площадям, живой иконой лика моего умиленно торчу над её вопящими грешниками! Я ничего не боялся тогда! И теперь ничего не боюсь. Но тогдашнее моё бесстрашие граничило с подлинным самозабвением. Я сам себе не был нужен. Самого себя я не хранил. Понимал: Бог меня хранит. Понимал про себя ещё и так: важно жить во что бы то ни стало, потому что я рождён на земле спасать людей. И так я и жил, так я шёл и других спасал, всех: и кто меня охаивал, стегал меня наискось лошадиным кнутом и тыкал мне в рожу кнутовищем, и кто валился предо мной на утоптанный снежок, пластаясь, ползя ко мне на пузе: спаси-сохрани нас, великий Блаженный!.. благослови нас, великий юрод!.. сложи персты твои в знамение, осени нас, озари светом ладони и очей твоих!.. Я выполнял просьбы. Я не перечил никому и ничему. Всё принимал благодарно. Люди, они же стихия: снег, ветер, огонь; люди налетят и отхлынут, и забудешь бурю; заклюют хищно, расклюют по косточкам, по крохам, улетят, и забудешь острые клювы; а ясные глаза тех, кого спас, будешь всю жизнь помнить.
Вот твои глазоньки, дитя, вовек не забуду. Точно тебе говорю.
Однажды привели меня бояре, благодарные мне за то, что боярского сынка от пчелиных укусов спас, а то уж было Богу душу собирался изжаленный парнишка отдавать, не меньше пяти десятков пчёл укусило его, а всего-то улей глупец потревожил, захотел свежего майского медку добыть и угоститься; я прикладывал отроку к щекам, рукам, шее, груди и спине лепёшки из речной голубой глины, а к животу - примочки из ошпаренных кипятком капустных листьев; отрок уже помирал, хрипел, потом под холодной глиной и горячей капустой мирно уснул, а проснувшись, увидел, и все увидали: нет опухолей, жар исчез, и улыбка на лицо взошла! Вокруг боярского отпрыска и меня, лекаря его, бояре вприсядку на радостях сплясали. Да с собою ужинать в знатный трактир потащили. А трактир тот располагался не где-нибудь, дитя, а на воде, на пристани, к ней причаливали расшивы богатых купцов и Царские расписные ладьи. И для увеселений бояр бородатых, лишь для них, и ни для кого боле, открыли на пристани тайный трактир, где столы от ества ломились, где, упившися, срывали купцы скатёрки прочь, и посуда с едою, и бутыли с зеленым вином летели оземь и разбивались в зимние осколки. Вот туда-то меня и приволокли мои счастливые бояре, кумекая так: еда - высшая награда, едою можно всё купить, всё замазать, за всё расплатиться, а вином любую горесть и горечь залить.
Уселись мы все за накрытые столы, сновали меж нами половые, на вытянутых руках подносы качали, подмигивали нам, будто фокусы показывали. Раз! - и блюдо летит, а там утка в яблоках. Два! - и бутыль изысканной приморской мадеры китайской ракетой в дыму несётся, и прямо на нашем столе уж водружена. Три! - и миски с икрою кетовой, осетровой, сазаньей, щучьей, сельдяной, - чернь по серебру, медовый янтарь, алый сердолик, обгорелый уголь, рубиновые россыпи, - расставлены по столам, и ложки в тех мисках торчат, ешь не хочу, о рыбе убитой не вспоминай! Жить, чтобы есть! Есть, чтобы любить горячей! Любить, чтобы новую жизнь в бабьих брюхах зарождать! Всё так крепко повязано, не разорвёшь! Да и не надо!
И вот сидим мы в трактире том, я - нагишом - весёлый, молчаливый - на голой скамье, бояре - в обшитых италианским бархатом креслах, и тут, представь, стучит молотом дубовая дверь, и входит в трактирную залу - кто бы ты думала? Боярин наиглавнейший! Кафтан золотыми звёздами расшит. Красная парча рукавов, что до половиц свисают, искрится молниеподобно. Загнутые носки красных татарских сапог высовываются из бархатных, ярко-малахитовых портков, как красные утки - из зелёной молодой травы, густым ковром покрывающей косогор. Пальцы громаднейшими перстнями усажены сплошь, думаю изумлённо: как пальцы те живые, хоть и сильны, сносят такую неимоверную каменную тяжесть. Аметист величиною с куриное яйцо! Скол-орлец размером с булыжник! Я в лик боярину поглядел. Мне лицо важней. Как мыслит, как смотрит, улыбается. Хитрит, али не держит камня за пазухой и обмана за душой. Шапку он на затылок сдвинул; шапка казачью напоминала мне, нашу, сибирскую, воины Ермака ещё носили такие: опушка соболья, верхушка бархата синего, цвета небесного, таков цвет Богородицына плаща, как его богомазы на стенах церквей да на образах малюют. Небесная шапка! Невидимка! Знать, высоко взлетел тот боярин! И все встают, и наперебой ему кланяются. Кто в пояс, кто земным поклоном. И много о чём с боярином тем важным начинают заговаривать, да я не слышу в хоре голосов имени его и титулов его. А может, тогда я просто не хотел того услышать. А моим прежде-знанием знал всё, всё.
Тот боярин на меня воззрился и взор свой остановил на мне, задержал. Вонзил зрачки глубоко, мне в сердце. Я не дрожал, я ему тоже глубоко глянул в глаза. По лучам наших взглядов побежала от него ко мне - тайная ненависть, от меня к нему - тайная любовь. Всех я любил, несчастный юрод, и его тоже. Да, дитя, я уже знал, кто он такой, но себе до времени не говорил, и к нему до времени, как надо, не обращался.
Настал миг, он разлепил губы, вымолвил слово, и оно долетело до меня и раненой птицей воткнулось мне в грудь:
"Вкусно здесь кормят, юрод?!"
"Не жалуюсь. И не жалуется никто. Спаси Господи".
"А чем бы ты тут, в трактире моём, угостился, юрод? О какой еде, что не ел никогда, мечтаешь?"
И отвечал я так ему, не голосом, а всем нутром, всем сердцем, моим настоящим и будущим:
"Я не мечтал о еде никогда. Я жил на свете, ходил по площадям и пробавлялся тем, что Бог пошлёт: корочкой хлебца, рыбкой солёной, а бывало, и свежей, у нас в Сибири и сырую рыбу едят, только выловив из проруби. Я приветствую всякую земную пищу. Еда человеку потребна, чтобы не умереть. А не умереть он должен лишь потому, что он на земле широкой, во просторе её безбрежном делает суждённое ему дело. И время ему на это дело нужно. Сделать дело жизни как можно лучше. Вот задача. Вот радость. А отнюдь не еда. Люди ведь могут и голодать. В войну, в разруху; в назначенный Церковью пост. Да и пировать могут широко, с роскошью и песнями, не возбраняется в праздник! Поэтому нет у меня мечты, имеющей вкус еды! Нет и не было! Хотя, если нужно будет, я людям любую их, любимую еду приготовлю. Еда - радость. Не отниму её у братьев моих. Принесу еду на стол, расставлю, вино по стаканам и бокалам разолью, всем улыбнусь. Ешьте, едоки! Пейте! Где, когда ещё так попируете!.."
Улыбнулся я боярину в синей шапке, и улыбнулся он мне, безвестному площадному жителю.
"А не мёрзнешь ты, нагой?"
"Нет, - отвечаю ему смиренно, - не мёрзну, вот увидал тебя - и враз согрелся".
Захохотал боярин, да не обидно, а тепло, хорошо.
И я вместе с ним рассмеялся.
Так сидим вдвоём и смеёмся, и хорошо нам, тепло и чисто.
И все бояре за столами, видя, как мы смеёмся, угодливо смех наш подхватывали.
Вот сидим все в трактире и хохочем, и сотрясается трактир от нашего смеха, трясутся столы на дубовых ножках и стены, на них висят оленьи и лосиные рога, ружья, охотничьи ножи, бинокли, финки, кинжалы, ятаганы, казачьи шашки. Боярин сдёрнул с себя синюю бархатную шапку. Утёр ею вспотевшее лицо. По щекам его, гладко выбритым, катились крупные слёзы пота, русая бородка облепляла скулы и подбородок, лоб морщился в смехе, по высокому иконописному лбу с залысинами ходили сполохи: отсветы свечного пламени, скрещивающегося, рвущегося, гаснущего, умирающего.
"Распотешил ты меня, юрод. - Он задыхался от смеха, ещё раз прислонил шапку к лицу. Отнял. Глядел на меня ясными, пронзительными светлыми, почти белыми глазами. - Прощай. Может, свидимся когда!"
Встал из-за стола и пошёл прочь, а я, сидя на моей тюремной голой скамейке, посреди пиршественного зала, кишащего людьми, бросил боярину тому в спину:
"Ещё как свидимся! Пирог тебе с пулями и порохом со свиданьицем состряпаю!"
Ближний боярин забормотал: "Да это шутит он, юрод-то наш, шуткует, не взыщи, это он хочет сказать, с пулями-маслинами, с перцем-порохом... для веселья это он, прости его, для веселья!.."
Уходила, отдалялась парчовая спина, длинные рукава золотом пол мели. Запомнил я эту мотающуюся в дымном полумраке трактира широкую спину. Шапку синюю, цвета неба, бархатным шалашом торчащую на затылке. Красные кровавые сапоги, холодно мерящие половицы пира, измеряющие властным шагом слёзную гать.
Так вот, милое дитя, я и встретился с Царём. Ты уж догадалась! Догадаться тут легко! Как все перед ним склонялись! Старались угодить ему - на выдохе, на полуслове... Я никогда и ни над чем не старался. Я жил как дышал, и живу как дышу. Знаешь, что такое Ад? Я сейчас по нему гуляю. Ад - шагами измеряю. И не только шагами. Болью. Покаянием. Чужой ненавистью. Моей молитвой. Зимней моей Войной его измеряю, запоминаю, потому кто же, как не я, до дна, дотла затвердит его?
Меня пытались женить; на площади ко мне, голому, дрожащему, руки лодочкой в молитве сложены, подходила тётка в платках с кистями, вокруг головы и плеч обкрученными, личико её из платков высовывалось сочувственно, измеряла она меня глазами вдоль-поперёк, а в них мешалось, маслом в каше, презрение, жалость, надежда: "Ах ты, юродик бедненький, несчастненький!.. И холодно же тебе каково тут-то восседать!.. В сугробе!.. Ужас-то какой, ни в сказке сказать!.. И то правда, один ты тут одинёшенек!.. А что, если я тебя, бедняжечка, присватаю!.. Знаешь, на примете у меня и девицы есть, и бабёнки... И у всех, заметь, то избёнки свои, то кладовки, то сараюшки, то палаты расписные, а у одной даже, боярышня она, теремные хоромы... Да нет, не сваха я никакая!.. Я только так, тебя пожалела... Твоё словечко одно, кивок один - и я тебя хватаю за руку и к ним веду, к какой, сам того и пожелаешь... К богачке ли, к беднячке... И они, как и ты же, одиноки! И они хотят друга жизни, дружочка милого! Никому неохота умирать одному. Надо, чтобы тебя в смерти кто-то родимый за руку держал!" Тётка протягивала мне руку, и не брал я руку её. Долго, слёзно глядел на неё. И тихо опускала она руку, и роняла тихо: "Всё, всё поняла, юрод, бедняга... Божью жизнюшку ты ведёшь. Человечью - вести не хочешь. Что ж, в этом, видать, назначение твоё. Не обессудь! Видать, любовь твоя там, впереди, в тумане, тебя ждёт. А ты ведь прозорливый, друг ситный; может, ты уж и имечко её знаешь!.. Тогда - с Богом, иди по пути, иди к ней... А может, она, безымянная, небесная невеста твоя, и есть твоя вся жизнь... А не баба простая, земная..."
Тётка в трёх платках отступала от меня, осторожно, рукою, в снежном воздухе плывущей, крестила меня. Я в ответ крестил её. Так, обменявшись крестными знамениями, расставались мы на широкой шумной площади, и шла тётка обратно в толпу, из которой выскочила на миг, и сидел я опять в сугробе моём, что для меня был и стол, и дом, и крыша, и еда: иногда, возжелавши пить, я горстью зачерпывал из сугроба чистый синий снег и окунал в него лицо - так окунает морду медведь в холодный прозрачный таёжный ручей. И таял снег Московский у меня во рту, и я, юрод Сибирский, с наслаждением глотал его, снегом тем синеющим, небесным горних высот причащаясь.
А что ж потом-то было, спросишь? Да немного чего; и в то же время всё пережитое тянулось годами, веками; я не знал счёта временам, ибо затвердил истину: нет Времени, - и началась Зимняя Война, и в день начала Зимней той Войны увидал я здесь, да, да, вот здесь, прямо здесь, на площади Красной, где мы с тобой среди опасного пепла стоим и не дышим, мою любовь.
Дитя, вздрогнула ты при слове "любовь"! Что ты знаешь про любовь? Ах, знаешь всё? Тогда трудно мне будет поведать тебе про любовь мою; её зовут Ксения, и она юродивая, как и я, и она прозорливица, как и я; и она бродяжка, как и я, и вдали она будто рядом со мной, и, если я куда иду один, она идёт рядом со мной; и по Аду она шагает рядом со мной, и почему я здесь один, на Красной площади руинах, я не знаю; а может, любимая моя переселилась в тебя; дай-ка я в глаза твои погляжу, о, они так похожи на её очи, громадные синие, человечьи и птичьи, зверьи и небесные. Это глаза всего живого. У тебя такие же. Не удивлюсь, если тебя и зовут Ксеньей! Молчи, не говори! Я не должен слушать тайну. Лучше ты слушай, ещё послушай меня.
Бравый солдат привёл меня в Царский дворец. Царь подивился на меня, юрода, и отрядил меня на кухню: мол, ступай туда, где тебе самое место; копошись в снеди; изготовляй из неё роскошную жратву; а вознаграждения от меня не жди; довольно тебе будет и того, что живёшь ты не на площади во сугробе, а в тепле, средь печей и свечей, в Царском тереме. Я поклонился низко. Поварской труд мой я воспринял, как воспринимает монах монастырское послушание. И то правда, почему Царскому дворцу не быть Царским монастырём? Царь тоже исполняет послушание за послушанием. Я работал исправно, старательно. Стряпал так же, как на площадях пророчил. Еда - залог твоего завтрашнего бытия. Съел блюдо и забыл. А назавтра пришла Война, и только воспоминанья о живящей твою плоть и душу еде остались в закромах памяти у тебя; всё остальное, и горе и радость, сожрала, схрупала Война. Война - Ад, голод и гибель. Я работал на Царской кухне впрок, в запас. Насыщая людей; видя внутри себя их голодные слёзы, голод детей и матерей, жажду людскую, когда около прорубей во льду толпится измученный народ, подтаскивая к чёрной, на белом, проруби санки, стаскивая с них слабыми руками тяжеленное ведро и зачерпывая из зальделой реки чёрную воду. А ведро тонет, а жалкий плач не вырвется из истощенной груди.
Боль! Ты начнёшься завтра. А нынче - ешьте, люди. Ваш юрод сегодня приготовил вам пирог с бычьим сердцем, жаренные в чесноке куриные потроха, котлету с кровью.
Дитя, я сам попросился у Царя на Войну. Я не мог отсиживаться на вкусно пахнущей Царской кухне, среди поварят и судомоек, пока мой народ на полях боёв умирал.
Воюющий народ свят; и ему надо хорошо, радостно понимать, за что и почему он воюет.
Убивать просто. Проще, чем ты думаешь. Трудно потом жить с этим грехом на сердце.
Ибо убийство человека человеком - смертный грех. И человек не гусь, коему шею открутить, ощипать и на сковороду, не рыба, в сеть зашедшая, не бык, ведомый на заклание. Человек это человек. И он создан Богом по образу и подобию Божию. Так в той толстой, тёмным воском заляпанной материнской Книжище Времени, у икон под свечами вечно лежащей в избе детства моего, было кривою святою вязью начертано.
Почему Царь препоручил мне командовать танковым корпусом? Я не знаю. Он проверял меня на прочность: смогу ли я, сдюжу ли.
А я проверял на прочность тех солдат, что я сам, сам набирал в танкисты.
Да, дитя, сам! Никто не помогал мне. И ездил я, не удивляйся, вербуя в Царскую армию людей, по Царским тюрьмам. Сам прошедши тюрьму, я знал: тот, кто сидел под замком, превыше всего ценит свободу. Даже если за неё надо заплатить жизнью. Даже если за неё надо заплатить - смертью! Тут всё просто. Платишь жизнью - и свободен. И живёшь дале на свободе. На просторе. Домой возвращаешься. Родных, плача, обнимаешь. Про преступление твоё в слезах забываешь. Да нет, что я; помнишь, конечно, ещё как помнишь, и отчаянием наваливается оно на тебя в ночи, и отталкиваешь ты его от себя слабыми голыми руками, а оно придвигается и давит опять, и нет от него спасенья, кроме как во храм прийти, веру принять, покаяться. Путь человека к покаянию немыслимо долгий! И иные не проходят его. Умирают: от злобы неизжитой и боли неутишаемой, на Войне грохочущей, от ночного ужаса.
А смертью платишь - это, может, ещё лучше. Легче. Счастливее! Смерть берёт у тебя жизнь - и ты свободен навек. Перед Богом. Перед Временем, которого нет.
Я обучал танкистов боевому искусству. Учителей Войны в армию мою танковую со всего Царства согнал. Они наставляли и солдат, и меня; я не стыдился выступить перед всеми учеником, юрод ведь учится у всех и всегда, он вечный смиренный ученик, и он вечный храбрый боец. Я был простой площадной бродяга, потом Царский повар, и вот я стал Царский полководец; во сне мне такая судьба присниться не могла. А вот же приснилась! Сон стал явью.
Мои солдаты, ещё вчера Царские узники, на глазах становились смелыми воинами, не только храбрыми, но и умными, сметливыми; они не просто в бой оголтело бросались, они предугадывали противника ходы, рассчитывали, как лучше двинуть танки на врага - железной шеренгой наступать или окружить, взять в котёл. Из моего котла не выберешься! Я сам, уча бывших страдальцев, набирался военного ума-разума. Мне приказывали Царские генералы, что в штабе вокруг Царя сбились в плотную, невзрываемую стену: делай так, делай сяк; да мне не нужны были их приказы, часто неправедные, а частенько и невыполняемые; я сам себе приказывал, и сам, с танкистами моими и пехотой моею, их исполнял.
Дитя! Что есть Война? Война есть уничтожение врага. Убийство человеков. Чем боле ты убьёшь - тем славней ты герой. Враг не должен жить. Его убирают с дороги. А кто такой враг? Военные люди, мiрные люди? Мои солдаты сражались, и моих солдат враг убивал. Мы иных врагов знали по именам. Брали врага в плен, и ныл, рыдал пред нами враг: пощадите, помилуйте, виноват, больше не буду. Тут бы смеяться впору, да сердца наши тоже плакали, кровью, а глаза были ненавидящи и сухи. Мы бились, и нас убивали, и не считал я страшных моих батальонных потерь. Война! Это судьба. От неё не отвертишься. Не замажешь её грязью, сажей, растопленным медвежьим жиром, строительной известкой. От внутреннего взора твоего не заслонишь. Она вспыхнет, опалит, всего тебя напоследок озарит. И, ежели ты слаб, умертвит. А ежели силён - ты и в смерти останешься жив. Да, дитя, не смейся, так бывает.
По приказу Царя нам доставляли оружие и снаряды; и я обнаруживал - мало, мало автоматов, мало снарядов, косил лютый вражий огонь моих ребят, и я посылал гонца к Царю, чтобы гонец возопил на весь Царский Мiръ: где боеприпасы?! Чем сражаться велишь, Царь-Государь?! Мне в ответ привозили письмо, лист, закрученный в трубочку, был весь густо исписан Царской рукою. Чернилом начертал? Или кровушкой? "Мы ваш голод снарядный, генерал, удовлетворим вскоре, ждите, не отчаивайтесь, боритесь". А что, в рукопашный бой без снарядов идти? О дитя, у меня, юрода, с собою за пазухой ещё шевелилась молитва, я помнил все святые слова и ими, грешный, спасался.
На меня злились другие Царские генералы. Мало кто на Зимней Войне любил и ценил меня. Да что там... я, проживший на белом свете столько столетий, не требую любви. Я хочу её давать! Дарить! У меня её в преизбытке. А тут обнаружил я, что иные военачальники, дай им волю, готовы меня со свету сжить. И смеялся я; и оглядывал их лица, когда доводилось мне с ними на военных советах встречаться в сырых, пропахших мхом и корнями землянках, в сельских, жарко натопленных избах; и, утешая, похлопывал по плечу, по жёсткому, как деревяшка, изукрашенному геройскими звёздами мундиру особо кричащего за советным столом и брызгающего гневной слюной: ну, ты, громогласный попугай, не пора ли заткнуть фонтан, я ведь в прошлых временах сиделец тюремный, драться обучен, хочешь в скулу двину, а хочешь, в глаз, а пожелаешь, пулю всажу меж бровей, не промахнусь. И замолкал бешенствующий, и, умолкнув, измерял меня злобным взором, стегал зрачками, съедал глазами. И так я, бывший повар, становился незримой едой для моих же соратников; и понимал я бедным молчащим сердцем, смеясь торжествующим ртом, что нет мне места на земле среди Царем назначенных вояк, и стою я один, и иду один, и войско моё веду вдаль один, и сражаюсь один - никто моим танкам за всё время Войны не пришёл на подмогу, никто не влился в мои ряды ни при атаке, ни при обороне.
Так воевал я, и не знал я, не ведал ни сном ни духом, как мой народ, страдалец, издали, из градов и весей, глядит на меня: то ли наслышан обо мне, то ли уваженья преисполнен, то ли готов ко мне убийцу подослать, чтобы тот выстрелил в меня из-за угла.
Что глядишь? Думаешь: а если бы у тебя был пистолет, а если бы граната моталась в твоей руке, и лишь чеку сорвать и кинуть мне под ноги? Убила бы ты меня? Тогда бы ты была царевною Ада, прислужкой рыжекосой Диаволицы. А так ты девчонка, язык твой, ура, я чуть понимаю, веснушки твои сейчас, давай, ладонью оботру. Не веснушки это, а опасная небесная пыль, и вот уже тает. И течёт у тебя по лицу, по острому подбородку, и слизываешь ты языком солёные гибельные капли. Ты так мала, а ты уже в лицо видала смерть. Красная площадь! Не узнаю её! Это земля Ада. Значит, я из Ада, дитя, никуда не исчез! Всё я в нем! Я вот тут хвалился тебе, что умею Время провидеть. Хочешь, докажу? Ах нет, не буду. Если я тебе про моё грядущее расскажу, ты мне не поверишь. А сейчас, сейчас ты мне веришь? Да? Нет? Что трясёшь головенкой? Ты плачешь? По мне? Зачем?
Вот скажи, ты умеешь летать? А я умею. Меня Дева-Птица научила. Она моя Ангелица. Я вас познакомлю. Вы чем-то неуловимым с нею похожи. Ребёнок всегда на Ангела смахивает, даже шкодливый; а женщине быть Ангелом врождено, редкие девочки возрастают отродьями сатаны; женщина дитятко рождает, грудью его кормит, песни ему колыбельные поёт, и она уже - жилица небесная.
Не спрашивай меня ни о чём. Видишь, палец прислонил ко рту. Это чтобы не сказать тебе чего грустного, слёзного. Зачем тебе оплакивать меня? Я жив ещё. Я иду по Аду. А ты лоб не морщь. Площадь Красная возродится. Босиком будешь бегать по ней! Ягоды в корзинке носить, солдатам, что вернутся с Войны, предлагать: откушай, солдатик, герой, красную сладкую ягодку! Не горькую, нет! Расчудесную! Пьянее вина! Нашу ягоду, родимую! Вишенье, малину, красную смородину! Сама собрала! И будут солдаты из горсти твоей ягодки брать осторожно, и радостно пригоршни подставлять, и будешь сыпать ягоду алую из корзинки лозной, красиво плетённой, в живые руки, в раскрытые, доверчиво тебе подставленные жизни. Жизнь! Кровавая ягода! Бери и ешь! Глотай! Ягода - Рай! Вы все, ты и солдаты мои, те, кто остался жив на Войне, будете здесь, на Красной площади, стоять в Раю, Рай будет окружать, обнимать вас, крепко обнимать, до стона, до задыханья, до небесного виденья, кричать будете, пытаться из его объятий вырваться, да он, Рай, вас уже никогда не отпустит.
Что?.. Ты сама видишь там, далёко, самолёт?.. Какой самолёт? Шепчешь, я там лечу?.. А что, правда, видишь меня?.. В железном самолётном брюхе... довольного, весёлого... с Войны лечу, праздновать победу хочу... Что ещё видишь? Что молчишь?! Теперь ты не хочешь говорить, понимаю. Не хочешь откровенничать. Да и то правда, ты ж не пророчица. Ты просто девчонка, одна тут осталась, в Москве, одна выжила, а град весь завален смертью, засыпан гибельной пылью, дышать нельзя, а мы тут с тобою стоим да балакаем, да дышим полной грудью, верно ли это, я ж тебя на просторе, под небом сумрачным и страшным, великой опасности подвергаю. Уходи отсюда сей же час! Приказываю тебе! Слушай мою команду! Равняйсь! Смирр-р-рно! Напра-во! Шагом... арш! Что стоишь?! Не шевелишься?!
Ты же слыхала мой приказ?!
...ну не плачь, не плачь... Иди сюда, ко мне... Дай слёзки оботру... Дай поцелую... До свадьбы заживёт... до твоей свадьбы, милое ты моё дитя... Я всю жизнь хотел такую вот доченьку, как ты. Да не случилось. Каждому назначено Богом его дело. Кому - на площадях подаяние просить, на Лобном месте огненно пророчить. Кому - палачом - топором взмахивать, члены отсекать, кровь щедро проливать, головушку буйную рубить. Кому - в толпе при казни стоять, на смерть человека глядеть, как на его рождение; созерцать, как он во смерть с криком, с диким последним воплем рождается, и там, во смерти, мы уж не увидим его, там для нас, земных насельников, теряется его путь.
Приняла ты исповедь мою?.. Приняла... вижу... облила слезами... Эх я дурак, и зачем я только жизнь мою всю тебе рассказал... Не надо было... Растревожил я тебе сердечко... Выросла бы ты да все сама про меня и прознала... Да, дитя, Блаженный я, юродивый Василий, и жил я на свете век ли, тысячелетие, я не считал... и как оказался тут, в будущем, не помню... я всегда исповедовал: Времени нет и быть не может, это мы, мы идём сквозь Время... идём сквозь Ад, дитя моё, идём в блаженный Рай. И ты идёшь в Рай! Верь в это! Веру твою ни за что и никому не отдавай! Обнимай веру твою крепко-прекрепко! И, когда мы дойдём до Рая, мы там узнаем друг друга, обнимемся в Райском Саду, прижмёмся друг к дружке, и спрошу я тебя: как, девчонка, отряхнула ты пепел с твоих нежных, тонких русых волос?.. вдохнула ли ты, после пожарищной гари, чистый, душистый воздух Рая?.. сорвала ли ты златой Райский мандарин с тёмно-зелёной, плывущей по ветру ветки?.. Мы с тобой в краю любви. В Раю. Оглянись. Запомни сей миг. Не повторится он, сладкий, золотой, нежный, жаркий, крылатый. Никогда. Во веки веков. Аминь.
Я отступил от девчонки на шаг. Ещё на шаг. Я пятился от неё, как от зачумлённой, отдалялся от неё, пытался забыть её, не видеть. Душу мою. Обещание Рая.
Я ещё видел, как русая девочка всплеснула руками, покачнулась и повалилась на усыпанную ядовитой пылью брусчатку. И застыла. Так лежала. Я ещё видел, как смертоносный ветер шевелил развившуюся тощую коску у неё на беззащитном затылке.
ПОХОД НА МОСКВУ
Родная моя, Ксения моя. Где я? Где ты? Я опять в гуще Ада, я опять на Войне. И она мне не снится. Всё по-настоящему. Блаженная моя, во мне поднялась могучая волна гнева и боли, я не знаю, как с ней совладать. И поэтому я делаю то, что делаю. Ты, когда узнаешь о деяниях моих, прости меня.
Прости меня за всё. Я причинял людям, быть может, больше горя, чем добра. Счастье неуловимо. Я никогда не знал, как его подарить человеку. "Юрод, юрод!.. - кричали мне на площади, на рынке, на берегу ледоходной реки. - Открой рот, пусть птица-чайка туда залетит!.." Зачем я поднялся, взбунтовался и пошёл на моего Царя? Я же Царя жалел. Я понимал: Родина не может без Царя. Всегда стояла Русь, и всегда был на ней Царь. И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.
Я кликнул клич моим танкистам и верной, храброй пехоте моей: вставайте, заливайте в машины горючее, выступаем на Москву! А мы сейчас, светлая моя, в неведомом тебе красивом граде на излёте Ада; сюда долетают снаряды и мины, разрушаются башни и колокольни, но стоит город, и живы его люди, и плачут они в подвалах, обнимаясь и прижимаясь друг к другу, а крыши срывает бешеный ураган, бросает со звоном и скрежетом листы жести о выжженную землю. Засуха, боль, колючки терновника, пересохшие реки. Впору вскрыть солдатским ножом жилы и, утоляя жажду, пить собственную кровь.
Мы, армия, вошли в город беспрепятственно. Жители выходили на улицы и бросали под гусеницы танков вербные ветки, жёлтые мимозы, голубиные перья, венки из роз и гвоздик, еловые лапы. Мои солдаты смеялись и скрипели зубами: ёлки, как на похоронах! Я скомандовал: ни слова, ни упрёка, ель - святое дерево предков, а засуха назавтра обратится в новую зиму, и посыплет снег, белый острый, ранящий щёки и шею небесный песок, и снова нарядим громадную чёрную сироту-ель на главной площади города, сотворив печальные самодельные игрушки из бумаги, атласных лент, крашенных серебрянкой орехов, сосновых шишек, пятилучёвых древних красных звёзд, склеенных из лампадных стекляшек безжалостно разбитых калейдоскопов.
И все случилось, как я и предсказал: Великая Сушь обратилась в Великий Мороз, из ближнего леса на площадь привезли в кузове военного грузовика старую матёрую ель, вытащили, долго устанавливали в богатырскую крестовину, и я понял, я увидел: это была не ель, страшно-громадная, а моя матерь Марина, обращенная в чёрную, ночную мать-Медведицу с колючей, дыбом, шерстью. Я сам подходил и её украшал. Красной краски у меня не было, выкрасить игрушку-помидор или бумажный гриб-мухомор; я выстреливающим ножом вскрывал себе ладонь, охал и морщился, и вымазывал широко, богато льющейся кровью картон и холст, стекло и гипс.
Ёлку возвели, как Крест Господень, она упёрлась верхушкой в погоню рвущихся, сходящих с ума ненастных туч. Из-за бега туч выныривала Луна, косо взглядывала на нас, шарахающихся по усыпанной перлами зимы площади, на наших железных жуков, стрекоз и гусениц, на бешено-яркие флаги, - мы втыкали их над подъездами домов, водружали на высокие столбы, ввинчивали в сочленения танков. Зачем людям флаги? Цветные тряпицы? Чтобы издалёка чужаки могли увидать: наши идут, родные! Или: враг наступает! Стяг, он и детское твоё одеяло, и бабья свадебная фата, и пелёнка младенца, и саван покойника. Потому он и свят. И светел.
Я понимал: мы ввязались во страшное дело. Дела, родная, делятся на безумные и мудрые, на страшные и благословенные. Мне то, что затеял я сам, я и боле никто, кажется и верным и жутким. Я не мог не погрузиться в этот бедный, яростный, густой, не проглянешь сквозь, военный снег.
Что я предчувствовал? На что был готов? На всё. Знай, я и сейчас на всё готов. Ты научила меня смелости. Ходить где хочешь, глаголать что хочешь, плакать на виду, смеяться на мiру. Я собрал мои танковые войска, прошелся меж рядами, мои бойцы глядели на меня преданно, чисто, влюблённо. Милая, для них я не площадной юрод, не повар Царский, господарский, а их командир наиглавнейший! И слушают меня. И глядят на меня. И что я им скажу? Вот здесь, теперь?
Говорю: идёмте все на север, на Москву! Ад расступится пред нами. Танков гусеницы проутюжат дороги, наполнят гулом и бычьим мыком зимний ветер, разрежут долгим ходом белый морозный пирог. А Москва - не пирог. Не кус земного пирога! Нет! Москва наша - это сердце наше. А сердце Москвы, посреди неё бьётся - площадь Красная. Сердце ведь красное, кровью всё облитое. Вот и она тоже. Что мы скажем Царю? Я сам скажу. Я все ваши страдания - ему в лицо - выскажу! Как разрушить Ад? Как набросить петлю на Зимнюю Войну? Что с нами будет, если ещё и ещё продлится она, и не будет сил её вести, и враг будет одолевать, враг, говорящий на языке, что мы, все мы отроду понимаем, ибо из одного кувшина наше пьяное молоко льётся?!
Царь... Он не знает, где мы. А мы уже идём. Да ему быстроногие гонцы уж донесли. Ждёт. Сокрушается. Или злится? Против нас - охрану свою снарядит? Или переговорщиков вперёд вышлет?
Осознаю ли я, сумасшедший, юрод первостатейный, так пылко, страстно мою Родину любящий и Рай её забытый лелеющий, на кого руку железную поднимаю? Ад перед моими танками расступается. Дороги проседают и гнутся, хрустят их рёбра и позвонки, и ломается сизый слоистый лед на озёрах и прудах, и текут, указуя танкам невестин зимний путь, долгие, как жизнь, реки, и по их допотопному ходу идём мы, движемся, грохочем, не заглушить. Если танки идут напролом, по дорогам и бездорожью, их не остановить, родная! Я помню, когда я впервые услышал грохот и безумный гул танков. В Москве это было. Я спал, и от грохота проснулся: думал, земля очумела, взбесилась, и вот подземный огонь взламывает земную кору, и вот она трещит по швам, выпуская наружу стальной гуд, сдавленный крик и хрип. Ночевал я на старом, порванном матраце в заброшенном доме на слом, анфилады пустых, давно брошенных жителями комнат завалены битым стеклом, из разломанных шкафов по ночам выходят хохочущие скелеты, а иногда сама собой зажигается люстра под треснувшим надвое, покрытым пыльной виноградной лепниной потолком. Гул услыхавши, я с ложа моего вскочил. К окну подбежал. Вижу: от Красной площади по широкой улице, Тверской именуется, идут неведомые мне железные огромные коробки на колесах-гусеницах. Идут и рычат, воют, страшней голодных волков. Рык приближается! Стёкла в окнах трясутся, звенят! И вот стекло трескается надвое, разламывается и выпадает, ударяется об пол и разбивается на тысячу осколков. Наступаю на осколки босыми ногами. Прислоняю лицо к стеклу, нос о стекло расплющиваю. Адские машины идут! Идут! Ближе! Ближе подплывают! Камни дрожат! Гуденье улицы заливает, рушит в человеке надежду на защиту и покой! Нет покоя! Война!
Впервые я видел танки. Машины Войны. Я, юрод подзаборный, и думать не думал, что в жизни их увижу: в моей ли, в чужой, непрожитой. А вот сподобился. Следил, как катились они, грозные, воющие и визжащие, наглухо задраенные заклёпками и болтами, мимо окон пустого мёртвого дома, - известие о Войне, устрашение, ярость, возмездие. Да, вот она, смерть. Глядя на танки, я понял всё о смерти. И там, внутри железного мощного короба, сидит человек; и он, живой, машиной той руководит; и слушается она мановения его руки, дрожи его ноги, поволоки и вспышки его хитроумного глаза. Сам человек для себя смерть такую придумал! Нет, не для себя самолично: для врага!
Ксенья... Ксенья... а враг-то, враг... кто же он? Кто?!
Я Войну веду все эти годы, но, Ксенья, скажи хоть ты мне ради Господа Бога, кто же есть наш враг?! Мой враг?!
Только не повторяй слова Диаволицы. Мало ли что она тебе на ухо нашепчет. Не слушай её.
Бунт. Мой бунт. Я никогда не думал, что я заварю такую кашу. Но у котла стою на Адовой кухне, и поварёшка в руках моих, и хочу я сам себя хорошенько понять: почему я веду войска на Царя? Москва рядом! Идём без остановки. Танки грохочут. Воины обуреваемы голодом и жаждой. Я сам в танке моём сижу. Грохотом задавлен. Душно мне. Жарко мне. Я как в печи. В голове у меня голоса слышны. Слышу, как мне говорят, докладывают усердно: генерал, рядом уже Москва! Уже Царские укрепления миновали! И закрываю глаза. И грохот в ушах. Лучшая в Мiре музыка Войны. Век бы её не слышал. А вот привелось.
Ксенья, отвечаю голосам: вперёд, вперёд! Не останавливаться! Пройдём маршем! Лепятся к восхолмиям домики и домищи, катятся наперерез нам железные повозки, бесполезно сигналят, берут в кольцо, мы его танками прорываем, идём, торжествуем, давим всё живое и неживое на нашем пути. Открываю люк. Стою. Гляжу. Боже, Ксения, родная, что же я делаю! Я звучу танками моими в общем Адском хоре! Зачем! Я не хотел!
Оборачиваюсь назад, за мной - железная страшная колонна, она рушится, наплывает, рвёт зимний воздух, и мороз становится огнём, и я тихо, отчётливо говорю всем танкам и всем солдатам, кто за мной на Москву надвигается неумолимо: люди! Люди! Люди нашего Царя! Мы не просто бунтуем! Мы идём на Москву не свергнуть Царя с трона! А идём, чтобы дать понять: у Ада есть край! У Ада есть конец! Конец есть и у Зимней Войны! Чтобы сказать: не верим, что Зимняя Война бесконечна! Это неправда! Надо оборвать Адскую нить! Прекратить наматывать её на кровавый клубок! Пусть хоть тысяча Диаволиц на землю явится, и хоть тысячу плах и виселиц Царь прикажет на всех площадях всех городов возвести! Всех не расстреляешь! Не четвертуешь! Не перевешаешь! Жив народ. Вы же, солдаты мои, живы! И я жив с вами. И - вами!
Вот скажите, родные мои, соколики, бойцы мои, вы - любите - Родину?!
И будто бы слова мои чудом услыхали все. Все! Все! В каждом танке. В каждой хищной бронированной машине. На меня покатился устрашающий вал голосов, забился у меня в ушах, под черепом, метель взвила мою бороду и отнесла её вдаль, в ночную стужу, лохмы вздувались, опадали и били меня по щекам, погоны на плечах горели, прожигая кожу и кости, и я слышал, слышал этот хоровой великий ответ, впивал эту многоголосую ораторию Войны, не различал слова, ну и наплевать, а музыка ужаса и верности шла и шла, накатывала, растворялась в неистовом лязге и гуле, и уже краем сознания ловил я снеговые вспышки и звёздные взрывы, а голоса, наваливаясь, погребали меня под собой, и становился я одним из них, и так же звучал, и так же, шёлковым флагом, бился на ветру:
- Любим!.. Любим мы Родину!.. Превыше Родины нет ничего в Мiре!.. За Родину жизнь отдаём!.. И не пожалеем впредь!.. Родиной клянёмся... Родину, умирая, обнимаем... мыслью и сердцем... перед Родиной - на колени встаём!.. и стопы её натруженные целуем... Смеются пусть те, кто любви к Родине не знает!.. Царь ныне один!.. завтра иной!.. а Родина, Родина безсмертна!.. Врага будем ногами попирать, кто на Родину огонь обрушит и оружие поднимет!.. Тот, кто нам смерти желает, здесь, на Родине нашей, смерть найдёт!.. За тобой идём, генерал наш!.. На Москву!.. На Москву!.. Красная стена!.. тюльпаны-зубцы!.. Чесночные зубочки... кирпичи крошатся в пыль... жизни наши крошатся в пыль... танки гудят... а мы все идём! Даже и мёртвые - идём! Царь во дворце, а мы в пути! Царь, узри нас! Скоро мы пред очами твоими предстанем!.. Мы, герои твои... Мы в Аду жили! А теперь отдохнём! Москва для нас лучшие яства на столы вымечет!.. Царь, да не заради угощенья Царского мы воюем, жизни наши младые отдаём! А ради Родины нашей, красавицы нашей... матери родимой нашей!.. Вперёд!.. Вперёд!.. Генерал, веди нас!.. Тебе служим, Царю служим, не тужим, да только давай, генерал, спросим нашего Царя: доколе?! Доколе будет идти, грохотать Зимняя Война?! Есть ли ей предел?! И если есть... если и вправду есть... то... скажи!.. ответь... где он!.. Когда мы к сей пропасти, к обрыву подойдём... и в бездну Мiра заглянем... и - обнимемся у Войны на краю... у Мiра на обрыве... когда!..
И я, так шептал я им, Ксенья, в ответ, и я, и я Родину превыше жизни люблю, - и слышали они меня.
Бунт из меня вылетел наружу не потому, родная, что я пред Царём не склоняюсь, как весь народ. Да и в народе есть те, кто пред Царём головы не клонит! Я - клоню. Я - присягу давал. Но я ведь и свободен. Так же, как и ты свободна. Мы оба по площадям бродим. Оба мы ветру родня! На ветру стоим, в волосьях наших он гудит и гуляет! И начальником над военными людьми став, я свободы не потерял. И вот это горько. И это больно. Не справился я со свободою моей на высокой службе; не совладал. Кто мне в помощь? Один только Бог.
Да ты... ты...
Веду войско на столицу! Веду, путь указую. И так они мне верят, солдаты мои, что идут за мной, не прекословя, не восставая, не сомневаясь во мне ни капли. Раз я приказал - значит, они делают! И весь сказ! И растерян же я таким поворотом судьбы, родная! Ведь раньше приказывали - мне! Выталкивали взашей - меня! Изгоняли - меня! Наказывали - меня! Направляли - меня! И шёл я! И покорялся я! Ибо знал я, юрод: тот, кто прикажет тебе, сильнее тебя вовне, а ты, ты сильнее его внутри; так благо тебе, а не ему; изнутри Божия сила сочится, а не извне; ты себя сохраняешь, а он, указчик твой, на торжество власти его соблазняется. Покорствуя, я избегал соблазна! Ведь и змий в Раю соблазнил праматерь нашу Еву плодом со древа познания. А познать ведь можно, родная, не только счастье и Солнце. Узнать в лицо можно и Диавола. И укусит он руку твою, заразив тебя тьмой; и яд в крови твоей потечёт.
Так гудят танки, слух грохотом залепляют. Вот Москва. Я вижу её стены. Сейчас моя железная колонна войдёт в Первопрестольный Красный град. Град великий! Град обречённый! Град, к славе и небесам вознесённый! Вот я рядом. Вот мы, грохоча, в пределы столицы входим, и люди, люди по обеим сторонам дороги стоят, молчат, не понимают ничего, кто мы, зачем мы здесь. Танки грохочут. Гусеницы ползут. Мы въезжаем в Москву, и знаю, нам, всему войску, надо пройти город насквозь, грохотом старые стены сокрушая, и выкатиться прямёхонько на Красную площадь. Я же Медвежий Сын! Я же... таёжный Царь... Лесной Царь против Каменного Царя. Противостой! Прямо в лицо гляди! Глаз не опускай. Никогда.
Грохот танков. Оглядываюсь кругом. Высунулся из люка, из жаркой преисподней танка. А преисподняя-то снаружи. В Москве, родная, Ад. Зимняя Война и до неё досягнула. Как я люблю родные стены! Они в руинах. Как я пьяно, влюблённо бродил по всем тайным, от холода дрожащим переулкам! Они лежат в пыли, снегу, в осколках стекол, каменных обломках. А храмы? Храмы мои?! Господи! Не дай им погибнуть!
...выезжаем на площадь Красную. Грохот. Вой. Знамена рвёт ветер. Танки мои идут. Красная зубчатая стена восстаёт из белого моря снегов. Пушки упираются в незыблемый вековой кирпич. Все. Стоп. Пришли. Остановка. Погибель. Слава! Безсмертие!
...не надобно мне, Ксенья, никакого безсмертия. Не верю я в него. Спросишь: а в вечную Царскую власть - верю? И ничего не отвечу я на это тебе. Ибо не знаю ответа. Вместо слов взорванной стеной храма валится великое молчание. И стою я на площади Красной, высунувшись из танка, снеговая гибельная пыль летит мне на плечи, в лицо, и я молюсь, а не проклинаю. Проклинают пускай другие. Мне же за Ад родимый осталось только молиться.
И за тебя. За тебя.
ПОСЛЕДНЕЕ ПЛАМЯ
Возгорался всюду Огнь Московский, последний.
Василий не хотел верить, что последний; он, как мог, всем надорванным сердцем силился, отодвигал от себя эту тяжело-чугунную мысль.
В каких Четьих-Минеях означен последний срок родной земли, срок Вселенского пламени? Вопят люди, перебегая наискосок площадь. Бегут, задыхаются, плачут, глаголют, да поздно!
Здесь, внизу, неистово грохочут танки, а вверху, в широких, залатанных рваньём облаков небесах, трубно гудят самолёты. Чьи они? Наши? Вражьи? Никто не знает. Исчез перед ними всеобщий страх. Иные люди называют те самолёты зверями летающими; а иные - письменами загадочными; и пытаются те письмена читать; и гадают, куда самолёт серебряной рыбой поплывёт - в Берлин и в Дамаск, в Тель-Авив и в Пекин, в Багдад и в Калькутту, а может, в дальний, во льдах застылый, под Сияньем Полярным спящий Анкоридж.
Ночь озарена круглыми гигантскими паникадилами. Возносят свечи к поминальному небу золотое пламя, и оно предательски, страшно дрожит. Каждый язык огня - сердце. Сжалось до размеров золотого жука. Жёлтого липкого детского леденца в тёплой ладошке, в крепко стиснутом кулаке. Тук, тук. Пламя сердцем стучит. Пытается до Бога достучаться. Последние дни. Не может быть! Не верю!
Три великанских паникадила пылают в ночном небе над Москвой. Голодные люди в тоске выходят из домов и тихо, нога за ногу, спотыкаясь, бредут по улицам, залитым грохотом танков и воплями взрывов. Люди ослепли от мощного небесного света, от гула железных кораблей. Головы задирали. Пытались знаки небесные разглядеть, вытирали мокрые солёные лица ладонями, шарфами, варежками, грязными рукавами. Я знаю, что в небе горит! Это остров Огня, и там мы все скоро, люди, будем жить!
А разве мы будем жить?!
Глядите! Глядите! Кто в небе-то летит! Явился нам! Быстро все на колени!
Люди валились на колени и уставляли усталые от огней глаза в смоляные прогалы небес. Там, сквозь кудри пожарищного дыма, они различали человека; хитон его синий сиял, красный плащ на широких плечах переливался забытой зарёю; звёздами струились его власы, звёздами вспыхивали усы и борода, он пытался улыбнуться, да у него не получалось, и лицо дрожало, звуча колыбельной музыкой. Люди кричали: мы знаем его!.. знаем!.. то батюшка наш!.. то брат мой, сын мой!.. да нет, врёте вы все, то Царь наш, и он уж на небо вознёсся, почтим его широким, на весь Мiръ, песнопением!..
Пели люди. Осеняли себя крестом. А человек печально глядел на людей внизу, раскидывал руки в небесном парении, летел и за всех страдал, и вот наконец удалось ему улыбнуться, и все снега, все сугробы Ада засияли, вспыхнули тысячью снеговых алмазов от его бедной, нищей улыбки.
А Москва нежданно обратилась в Божий светильник, и возожглись в нём семь ширококрылых огней, в Новодевичьем монастыре и на Маросейке, на Страстном бульваре и на Поварской, на Тишинском рынке и на Сущёвском валу, и на площади Красной, прекрасной, огонь заполыхал - и Василий, высунувшись из танка, наблюдал это красное пламя, что тебе красное знамя, знамя то захлёстывало, накрывало огромную каменную сковороду, опять, как в начале Войны, стремительно возжигались, будто сами собой, громаднющие костры на мёрзлой скользкой брусчатке, и люди, люди падали близ костров и растягивались на покрытых наледью камнях, устали люди жить и ждать смерти, люди подносили друг другу кто пирожок, кто початую водки бутыль, глотали, рты утирали, скрючивались, на земле лёжа, напрасно пытаясь согреться; грели ладони дыханьем, натягивали на голые затылки траченные бабкиной молью воротники ископаемых шуб, - всё бесполезно: дрожь била их, колотила, значит, не мертвецы они были, а ещё живые, и могучие пламена горели по Москве, и издалёка, из любого укрытия, их было видать.
Семь громадных огней, а сколько малых, жалких, и не счесть! Везде, всюду, бессчётно. Россыпи, искры, головни. Тлеют, опять вспыхивают безудержно. Василий, не щурясь, глядел на красный огонь: здесь он, на площади его родимой, самый Царский, самый бесконечный.
Все костры на Красной площади слились в один, и он взмыл до небес, а где же, искал юрод глазами, где же возлюбленный его храм? В его честь возведённый... его именем, как младенец, наречённый...
Василий... Преблаженный... вот же ты, брат мой... вот...
Нет. То не ты, брат. То громаднейшая свеча вместо тебя.
Куда ты утёк? Убежал? Открой...
Наибольшая свеча. Витая. Многокупольная. Горит так, как сто костров не могут во снежной пустыне гореть. Горит, оплывает в угольно-непроглядной храмине небесной сферы, на каменном, железном блюде невольницы-земли. Искры золотыми зёрнами неистово сыплются. Ослепляют. Летят во лбы, во рты, в глаза, в сердца. Жизнь на глазах истлевает. Да и не жаль её. А жаль единственно огня. Огонь, он плачет, как человек. Рыдает, угасая, уходя. Рыдают сполохи. Лижут угольную соль ночи красные собачьи языки. У незримых Ангелов в руках алые щётки, и кропила обмакивают Ангелы не в святую воду - в нашу кровь, и брызгают живым в лица, крестя огнём, и мажут, замазывают боль и ужас, звёзды и камни, бытие и гибель, беспредельную метель и малюсенькие чёрные фигурки людей, оловянных солдатиков, разбросанных по площади, горящих мгновенным куревом в жадном вьюжном рту.
- Эй!.. Ты, да, ты!.. Из танка высунулся!.. Вот ты, солдат, скажи мне... что тут, на Москве, происходит?! Конец это всему аль ещё не конец?.. Не верю, что - конец... Я-то тут пришлый, прилетел вчерась из далекой земли... с Сахалина-острова... отсюда, ха, не видно!.. А тут такое... Все, кранты людишкам, так понимаю!.. Да и мне, видать, тут коньки отбросить... Да давай же, рот разлепляй, ты ж солдат в этом войске, говори мне быстро, чего ждать от того побоища!.. И, гори оно всё синим пламенем, где тут можно в кабаке попьянствовать всласть?!..
Василий медленно повернулся к мужику, что кричал ему ненужные слова. На синюю цигейку его военной ушанки слетала мелкая мошкара снега.
- Ишь, сладкоежка. Хмеля захотел напоследок! Опьяняйся смертью: близка она!
Мужик, в распахнутом осеннем пальто, ёжился на ветру. Рот его зло перекосился.
- Плохой ты солдат, слышь!.. Разве солдат мыслит о смерти!.. Он мыслит - о победе!.. Давайте-ка, соколы, побеждайте!.. А то мы все, на Москве, с голоду вымрем, друг друга жрать начнём!..
- Победим... не сомневайся... а ты, ты... в Москва-реке давай рыбку себе вылови... на обед... на ушицу... у проруби посиди...
- Смеёшься, солдат!.. Какая рыбка!.. Задрогну, и не откачают... никакой спиртягой не разотрут... А я, знаешь, солдат, всю жизнь прожил как святой!.. Жёнке всю дорогу был верен!.. А тут, думаю, все поголовно помирают, всех забудут, ветер косточки развеет, так, может, гульнуть на прощанье?.. напропалую... на все бумажки в карманах... за всю рабочую тоску... за весь обман и горюшко... за всю гречку и манку, что, шмыгая простудным носом, на кухне варила жена, надоеда... Разгуляться! Раззудись, плечо, размахнись, рука!.. стишок такой в школе учили... вот и размахнусь... правильно говорю, солдат, а?..
Он кричал, как пьяный.
Василий, стоя в танке над площадью и людьми, видел: идут люди, медленно, спокойно, будто и не происходит ничего; глядят прозрачными, светлыми глазами на бушующее пламя. И то один, то другой волокли на Красную площадь всё забытое, разбитое, несчастное. Кто нёс пустую бутылку. Кто волок берёзовое бревно, и ободранная берёста, испачканная мимо летящей кровью, вилась кудрями, моталась во вьюге. У кого в руках блестела вишнёвым лаком старая скрипка: то ли где украл, то ли свою принёс, детскую, наследную, а музыке так и не научился, зря родители скрипку покупали. Кто тащил проржавленную кочергу, давно ею в печи не шерудили, стучал ржавым железом по ледяной брусчатке. Кто с трудом, кряхтя, тянул разломанный обеденный стол, и ножки-бутыли смешно торчали вверх, как у зарезанной курицы, и скрежетала по мостовой столешница, и камни и лёд царапали её, и тот, кто сей стол тащил, говорил, плача, на него указывая: вот, я за ним с детства ел, обедал и ужинал, и отец и мать мои за ним ели, на него пищу ставили в мисках и кастрюлях, а теперь пусть он сгорит во пламени, ибо есть мне уже не придётся нигде и никогда, ни за столом, ни на снегу.
И слышал Василий, в распахнутом танковом люке стоя, как вслух, громко или тихо, вспоминают люди о прежней жизни, о том, как они жили в Москве до пришествия Войны и Ада; и всё, что люди говорили, выкликали, выплакивали, он запоминал, звуки начинали течь у него в крови, - крики, голоса, молитвы.
И бросали люди принесённое на площадь барахло, свою прежнюю любимую жизнь, в огромный костёр, чтобы сгорело их Время, чтобы не вспомнить его; если бы можно было, они бы свою память в огонь бросили, да не достать было память из дрожащей котёнком на холоду, сиротской души; там она жила, там и будет жить до огня Последнего, его же никто из живущих не запомнит.
- Солнышки мои... родненькие... ближе, ближе, дайте вас крепче обниму... Видите, как наши книжки горят?.. А вот так и надо, чтобы они - в огне - сгорели... Всё равно их никто не читает, так пусть хоть огонь почитает... А помните, милые, помните ведь, наверное, был тут у нас, на площади Красной, такой сумасшедшенький, ну, не в себе мужичонка, такой кудлатый-бородатый... голяком всё бродил?.. у Спасской башни, под курантами, всё восседал, сгорбившись, а то на снег ляжет и скрючится червячком, так, значит, спит... Помните?.. И я вот тоже помню... А он ведь истину баял: мертвецы восстанут из гробов, а ныне живущие во гроба все полягут... Вот и думаю: выходит, мы все сравнялись судьбами?.. И нет различия?.. И смерти, так выходит, нет никакой?.. Ровня мы все, ровня... вот где счастье-то зарыто... А мы-то за счастье на грешной земле всё воевали, воевали... Лупили друг дружку то камнями, то топорами, то пулями, то минами... А оказалось так всё просто... Мёртвые - мы... И живые - тоже мы... И враги - мы... И родня - мы... Всё есть мы!.. Ну не диво ли это!..
- Да, диво дивное! Да только поздно, видать, осознали мы это...
- А тебе, тебе страшно умирать?..
- Мне-то?.. А кто ж его знает... Бог всем положил умереть! Да ведь не знаем мы часа, никто!
И слышал Василий по Москве дивный звон: все церкви как с ума сошли, все церкви юродивыми стали, звон из себя наружу, как медных сияющих птиц, выпускали, как пули не смертельные, а живоносные, и звонили, звонили напропалую церкви, соборы и храмины малые, видом детские, по всей столице, звонили во Всех Святых на Кулишках и у Пимена, в Раменском и в Замоскворечье, на Никитском бульваре и на бульваре Славянском, в Сокольниках и в Алтуфьеве, и особенно ярко, мощно источала звон церковь Елоховская, раскрыты были настежь двери её, и на всю округу, где носились запахи гари и смерти, мёдом и мvром пахло из распахнутых дверей её; чудесный звон кругами расходился по Москве, сливался с гулом огня, сам становился огнём, и весь храм, качаясь от непрерывного звона в метельном мареве, становился огромным каменным костром, и достигал тот звенящий огонь храма Василия Блаженного на площади Красной, и сливались огни, обнимались, и шептал Василий, обращаясь к далёкой возлюбленной:
- Ксенья, Ксенья, это ты мне звонишь, это я тебя пламенем обнимаю.
Кругами, кругами шёл красный звон. Налетал слоями. Рассыпался по небесам красным жемчугом. Раскрывал крылья красными птицами. Кольца звона расходились по круговращенью метели. Люди, во звоне и летящем снеге, брели друг к другу, ослепнув от звона, оглохнув от гуда огня, протягивали руки, ища то ли в белой, то ли в красной мгле единственного, любимого, чтобы сказать ему напоследок: прости, и в смерти меня не забудь, и в небесах помни, помни, как в Аду тебя одного я любила, как я в преисподней любил тебя одну, - звон обнимал, звон пел о любви, звон звал утонуть в нём, уснуть навеки в нём и воскреснуть в нём, и люди, слушая звон, плывя в нём, с головой погружаясь в него, тихо опускались на красный снег, подкашивались их ноги счастливо и ослабело, заламывали они руки, закрывались их глаза, и падали они лицом вниз, в снег, в огонь, они уже не разбирали, умолкали и замирали, и так леденели, слушая звон нескончаемый, вечный.
Огонь не только молитву рождал в человеке. Не только смиренье предсмертное. Видел Василий, как наваливалось на людей предсмертное пьяное веселье, и отпускали они на волю, на простор, от поводка отцепляя, своего внутреннего развесёлого пса, своего медведя, цыганского, с шерстью цвета чернослива, обученного полоумной пляске! "Давайте рождать последнюю радость, люди!.." - так мысленно кричали люди друг другу, и каждый понимал: да, удалое веселье, вот прибежище последнее! Мы всю жизнь страдали. Кто нам запретит разгуляться? Пламенный танец! Пляска огненная! Хоровод занебесных костров!
Люди хватались за руки и бешено плясали, выкидывая немыслимые коленца, вокруг громадных ночных огней. Высоко подбрасывали ноги. Кто-то на морозе сбрасывал с себя сапоги, башмаки и так, босиком, танцевал. Так пляшут опоённые для смеха вином лошади, волки, собаки, коты. Люди неистово хлопали в ладоши, визжали, свистели, себе невнятными выкриками помогали, кто замёрз на ветру, тот в могучей пляске согрелся; танцуя, люди пели вместе, голоса слагались в нестройный страшный хор, ни слова не понять, а песня продолжалась, звенела, уходила рваным знаменем под звёзды. Да, под звёзды, под красные звёзды! Иные ещё светились на островерхих башнях Кремля, иные потухли, но свет от них, призрачный, густо-малиновый, чёрно-лиловый, пыльно-серебряный, ещё шёл, пронизывал пространство потусторонним дыханьем.
Люди, выплясывая на снегу, кричали, кто что мог.
Последние крики. Последний громкий смех.
- Ура! Да будет! Грянь, свобода!..
- Диавол нас, грешных, в тюрьму кинул. А мы - вырвались! Мы - под звёздами! На ветру! Простынем! Водки глотнём! Счастье вспомянем!
- Да что - вспомянем!.. Вот же оно, счастье!..
- Пляской Диавола растопчем!.. Эй, ты, сатана проклятый, в Ад нас ввергнувший, иди-ка сюда!.. Спляши-ка с нами!.. Да не посмеешь!. Мы тебя - всяко перепляшем!.. Мы - сильнее тебя!..
- А ты, слышь, ты Диавола-то видал?.. Ну, там, на дне Ада?..
- А то!.. Ещё как видал!.. Жуткая, скажу тебе, у него рожа!.. И, не поверишь, вроде как бабья... Космы красные! Белки красные! Губищи красные! Да и зубищи, прикинь, красные!.. А сама морда кру-у-у-углая, лунная... и катится диким красным колобком... и там, где лик тот Диавольский прошмыгнёт, всё горит красным пламенем... и сгорает навеки...
- Кончились, Диаволище, все твои пытки! Прекратились наши страданья! Костёр, вот наш праздник! Огонь, вот наша святыня! Попляшем на собственной тризне!.. У собственной могилы - хоровод поведём!..
Василий видел: на краю обрыва люди горячо уверовали в бытие. Он слышал, как кричат, хрипят глотки: "Нет, граждане-товарищи, смерть, это всё бирюльки, со смертью жизнь не прекращается, всё продолжается, длится!.. Нас бросят в пламя - а мы жить будем!.. На нас с небес обрушат огонь - а мы там, в огне, улыбаться будем, петь будем, обниматься!.."
Иные прохожие на коленях молились пламени. И Василий видел, как шевелятся их губы в благоговейной молитве; и слышал шепот их: "Огонь, огонь, огнище, гори ясно, гори высоко, свети далеко, осени нас ослепительной дланью твоею, дай нам благословенье твоё жаркое, исповедное, небесное".
Огонь горел и живое сжигал, но видел Василий, в распахнутом люке стоя: нигде не валялись до пепла сожжённые тела, не маячили головёшки, обгорелые скелеты. Огонь обнимал людей, но странно, в огне бесследно исчезали они, будто огонь был порогом, и, на него ступая, человек входил в пламенные врата, и они закрывались за ним навсегда. Куда вела дорога огненная? Люди, видя исчезновение близких, пытались разгадать тайну, а потом просто вставали на колени во снег и молились на золотую горюю икону Огня. Какой древний секрет огонь хранил? Почему именно огненная гибель людям была назначена; и гибель ли? Быть может, иное?
Кинули клич, и Василий слышал его: креститесь, кто не окрещён! Молитвы учите, кто никогда не молился! И люди крестили себя и детей, исповедали и причащали немощных стариков, понимая: огонь-то Господень, и важно явиться пред Господа очи спасённым, а не беззащитным.
И видел Василий, как на Красную площадь выбегала распатланная девица, нагие плечи её высовывались из кружев рубахи, она разбрасывала руки, приплясывая, подпрыгивая, то ли чтобы согреться, то ли бешеный последний танец танцуя, и сквозь дерганья тела, задыхаясь, кричала, и слышал Василий безумные крики её:
- Бешенствуйте, людие!.. Блудите!.. Творите что хотите!.. Нынче всё, всё разрешено!.. Открыто в прощенье окно!.. Чернота, красота - все смешалось, и не видать ни черта!.. Преступленье - свято!.. Грешник - навеки прощён!.. Нас уж никто не вынет из огненных, смертных пелён!..
И закрывал Василий глаза тяжёлыми веками, и катились по щекам его, измазанным сажей, мелкие, на изморось похожие, слёзы его.
Ночь лилась, подобно тёмному синему вину, в каменный бокал Москвы, и вино, насквозь просвеченное огнём, пили люди, задирая головы к небу, ловя ртом и ладонями звёздную крупу, звёздные хлебные крохи. Люди были птицы, и птицы с людскими лицами испуганно озирались, ждали Деву-Птицу, им сказали: не горюйте, скоро прилетит, а как прилетит - нам всем тут недолго ждать останется. Город был исполосовал саблями звёзд, небесными шашками, мечами и стилетами; а доктора новоявленные, хирурги добровольные, ходили ночь напролёт по раненому граду и сшивали - собой, жизнями, судьбами, плачущими беспрерывно глазами - зияющие, страшные прогалы, сочащиеся жжёным сахаром густой и скорбной крови.
Наступало утро, и выкатывалась в зенит слепящая Венера. Рядом с ней таращил слепой красный глаз жестокий Марс, и люди, плотней запахиваясь в тулупы и старые пальтишки, добытые из бабкиных пахучих сундуков, показывали на них и робко лепетали: "Муж и жена, видите, Красный и Синяя, рука об руку в небесах вышагивают".
Горячий воздух волнами плыл от костров. Ледяное дыхание поднималось от застылой Москва-реки. Василий шёл берегом реки, всё ему было здесь до кустика, до лодчонки, вмёрзшей в лёд, знакомо. Город он не узнавал, а вот реку узнал. На белом, как Царский горностай, без единой грязнинки льду темнели проруби; будто глаза выкололи ножами красавице под белым чистым лбом, и кровь в пустых глазницах запеклась подколодной чернотою. То и дело оглядывался генерал; ему всё казалось, за ним идёт она: не Ксения возлюбленная, а рыжекудрая Диаволица. Немудрено; она тут, рядом. Он чуял её присутствие. Никто не видел её, и он тоже, но он вдыхал колючий морозный воздух, и его, бывалого генерала, прошедшего не одну битву, прокалывали иглы непобедимого страха.
Ты хочешь меня одолеть. Ты чаешь меня низложить, растоптать. Я не дамся тебе. Меня Ксенья хранит; а ты кто такая?
Василий видел людей зрячих, с искусанными в кровь губами, внимательно глядящих на последний ужас бытия; но видел в толпе и людей слепых, и у них сияли счастливые лица. Именно слепые могли бестрепетно глядеть в лицо Аду. И Ад глядел на них - у Ада глаза торчали повсюду, из всех щелей, из всех подвалов, со всех разрушенных башен, взорванных, осыпающихся под ветром колоколен. Слепые глядели не глазами - сердцем. Отчего они ослепли? Выело ли их зрачки всеобщее рыдание, заволок ли ясное зренье тяжкий морок, неисповедимый больной туман? Слепые шли среди повсеместных огней, опаляемые последним жаром, раскидывали руки, щупали воздух, качались туда-сюда, живые маятники, еле удерживались на ногах, едва не падали, - они ничего не видели, а шли, продолжали идти, и Василий бросался вперёд, на лету подхватывая падающую в сугроб старуху, а она оборачивала к нему изморщенное гармошкой лицо, и он изумлялся светлым, искристым, молодым, невидящим глазам: они не видели Мiръ, но зрели Ангелов на небесех.
И слышал Василий, как люди, и зрячие и слепые, говорят меж собой:
- Горит!.. Всё горит!.. А долго ли, коротко ли будет гореть?.. нам никто не сказал...
- До победы гореть будет!.. До победы, слышишь!..
- А когда та победа наступит?.. Знаешь ли ты что о ней?.. открой мне...
- Да не буду я тебе ничего говорить... Я просто, просто, просто люблю тебя... люблю...
ЦАРСКИЙ ТРОН В НЕБЕСАХ
И остановился Василий, и задрал бороду длиннющую кверху, и вилась она по ветру, как высохшая, приречная старая ива.
И глядел Василий вверх, всё вверх и вверх.
Он увидел там знак. Немало дивился на него. Что ж, сей знак в небесах он рано или поздно должен был увидать, сомнений не было.
В небе, над головою его лохматой, среди облаков серых, белых и воронье-чёрных, над ржавчиной обожжённой земли, обмотанный цепью чугунных, душу из тела выдувающих ветров, стоял и сиял, переливался неубитым Солнцем золотой Царский трон.
И подошла к Василию-генералу, медленно по зольному снегу и нефтяному льду босыми ногами ступая, смуглая женщина с нежным ликом, летящим впереди времён; глаза Её плыли вдаль золотыми рыбами, ладони плескали серебряными волнами, на лилейных пальцах горели крупные звёздные перстни; на главе Её светилась, мерцала, гасла и вспыхивала опять, сквозь гарь и туман, многозубая золотая корона. Занялось огнём сердце Василия. Он молчал. Молчала и Богородица, застыв в виду всесветного пожара. Что, Царица Небесная, Матушка, Заступница, безмолвствуешь? Всё сказано уже? Слова людские осыпались на чёрный лёд последним чёрным снегом? Говори. Не молчи. Сын Твой распятый на нас, грешных, с небес взирает. Он есть навечный Царь Небесный. Зачем нам, людям, знак сей послан, Царский трон в последнем нашем небе? О власти ли задумаемся? О счастье, горе ли грядущем?
- Чадо моё возлюбленное... Василий-нагоходец... не бойся... ничего не бойся... молись...
Он хотел припасть губами к Её небесной руке. Сунулся вперёд. Движенье сделал - на колени встать. На пожарищную пустоту голыми ладонями наткнулся.
***
Глядел Василий и думал: вот, в небесах трон Царский, и дай мне, Господи, Царя на нём живого увидать, ни о чём боле не прошу, я и так сам к нему, сквозь весь Ад, во дворец приду; и ногою теремную дверь распахну; но сейчас, вот сейчас что означает сей символ мощный, толстоногий, золочёный, зачем над грозами, над вьюжными тучами, сработанный огромным плотницким топором трон восстаёт, молча возглашая нам, всем людям русским, про незыблемую Царскую власть?
Трон в небе внезапно дрогнул, полетел по ветру, развернулся, и увидел Василий сидящего на троне Царя.
У Царя вилась золотом, солнечно горела борода, прилежно, в кружок, подстриженная придворным брадобреем. Волосы вились, длинные отросли, валились на плечи червонным золотом. Руки золотом отсвечивали, высовывались, сверкая самоцветными перстнями, из парчовых, золотной нитью расшитых рукавов парадного кафтана. Позолоченные, с весело загнутыми носами, праздничные сапоги выплывали из-под трона, как две нарядные ладьи.
Зачем он весь золотой? Что мне тем златым виденьем Господь хочет сказать? Злато, упование, напрасная жажда людей... злато, нежная, предсмертная мечта девиц, бабёнок: украсить себя напоследок... О, нет, нет... златые иконы во тьме храмовой бессонно горят... златой горний Мiръ малюют этак богомазы... Нет! Золото - Царская корона! Золото - скипетр и держава! За что люди золотую нашу землю ввергли во Ад?! За понюх табаку?!
Это сделали мы?! Или люди чужие?!
Мы все, Господи, - люди, люди...
Царь поднял руку. На руке у него сидел, крепко вцепляясь когтями ему в вытянутый палец, золотой сокол. Другую руку Царь медленно положил на голову собаке, у трона сидящей. Жёлтая собака, шерсть серая с золотинкой; поздно Василий рассмотрел, что то не собака, а волк. Волк поднял морду и завыл. Из его пасти высовывался золотой язык.
А на коленях у Царя лежала огромная, толстоспинная, жирная золотая рыба.
Сокол красным глазом на рыбу косил. Волк выл неостановимо. На голове у Царя возвышалась казачья шапка, у неё и тулья была золотая, и верх жёлтого бархата. Над шапкой стало всходить, разгораться золотое сиянье. Солнце, Солнце поднималось над головой Царя!
Солнце, это знак. Знак радости. Знак праздника. Победы. Царь победит. Меня на новый бой, чтобы наверняка врага победить, пошлёт. Какой Ад я ещё должен пройти для того, чтобы не только над Царём, а надо всеми родными людьми Солнце взошло?!
Генерал опустил глаза с небес на землю - и ужаснулся.
На порогах домов лежали мёртвые люди.
Из домов выходили люди живые, и у них глядели мёртвые лица.
Люди волокли за собою по снегу санки, и в санках лежали мёртвые дети: кто в маленьком гробике, кто завёрнутый в дырявые, ветхие простынки, кто в той одёжке, в коей его застигла смерть.
Люди садились во снег и обнимались, им больше ничего не оставалось в Аду, как крепко, судорожно, железно обняться, прощаясь друг с другом.
По улицам шли старики и старухи, и делали маленький слабый шаг вперёд, ещё шаг, ещё шажочек - и падали на землю: кто ничком, кто навзничь, и у многих старых людей в руках светились золотом иконы, они с иконами шли и иконы обнимали, и иконы не видели их смерть, иконы глядели круглыми, слёзными глазами в необъятное сумрачное небо.
И выбегали из дверей, из дворов дети, и в руках их, у лиц их и губ светились, дрожали, звучали всевозможные инструменты, рождающие музыку: флейты, скрипки, свирели, губные гармошки, гитары и балалайки, вся музыка жизни собралась тут и напоследок шептала, кричала, пела, орала лихо, плакала тихо и горько, и всё, что могло на земле звучать, звучало тут, умирать не хотело, жило, пока трепетало, трещало и стонало, мелодию вело, исповедалось, рыдало, заклинало, проклинало, а потом опять всё - всех - любило: любовь звучащая вырывалась из детских рук, из пальцев и ладошек, и улетала ввысь, и понимали дети - не вернётся никогда. Дети грудились в живые стаи, в живые нищие соты, хватали друг друга за руки, пытаясь прижаться плотнее и на морозе согреться; детей было много, а музыка одна, и вот она исчезала, и они пытались её, последнюю, сыграть, да из замёрзших, слабых ручонок валились на снег кларнеты и арфы, трубы и ксилофоны, саксофоны и виолончели. Музыка! Музыка! Не покидай гибнущий Мiръ! Ты единственная, кто может восстать из мертвых в Аду! Ты живой Рай! Зачем ты молчишь! Зачем ты...
Дети кричали, плакали, умоляли, умолкали. Вместе с любимой музыкой. Инструменты заметал снег. Рядом полыхал костёр, и в костре горели и сгорали дерево, струны, клапаны, грифы, деки, звуки. Дети пытались обнять уходящую жизнь, что ещё вчера дрожала в их руках и пела им колыбельную песню, но снег и огонь погребали всё, что они любили, и слёзы их застывали ледяными нотами на ночном ветру, и общий горький вздох вырывался из всех грудей и летел, отлетал на небо, и оттуда, из мчащихся туч, пел далёким Сирином, отчаянным, невозвратным Гамаюном.
И опять и опять выходили люди из жилищ своих в ночь, и шли по городу, и проклинали Время своё. И пели последнюю песнь, и слова её никому нельзя было запомнить и повторить.
У каждого последняя песнь была - своя. Единственная.
Лошади беспрепятственно бродили по улицам. Таращили длинные сливины покорных, всезнающих глаз. Любой беды ожидали лошадиные глаза, видевшие виды, полные доверия и ласки, плакавшие от голода звериного и злобы людской. Распахнулись безнадзорные двери зоосада, выбегали оттуда дикие звери и, опьяняясь нежданной, никчёмной свободой, бродили по улицам, жестами, взглядами и неподдельным страхом повторяя людей. Так звери и люди воссоединялись; и видел Василий, как бредущая вдоль улицы старуха становится старою клячей, как выкатившийся из ворот растерянным колобком медвежонок, озираясь, трясясь, превращается в вихрастого мальчонку в мохнатой собачьей шубейке, в заячьей, крашеной шапчонке, латаной-перелатанной, за мёртвым братцем доношенной. Мальчонка ощупывал обеими руками шапку, шубу, плечи, живот, не понимая, кто он и зачем он здесь; потом оглядывался, видел красную Спасскую башню в огне, плавящиеся от Вселенского жара куранты, изумлённо, обречённо открывал рот, будто хотел выкрикнуть длинную, долгую букву "о", вот так: о-о-о-о-о-о-о-о!.. - вдруг замечал Василия, стоящего недвижно, глядящего скорбно и внимательно, - и бросался к нему, и обнимал его ноги, и что есть сил прижимался к нему, к его коленям под суровыми, цвета хаки, генеральскими галифе, - и клал Василий мальцу на плечи тяжёлые руки, тяжёлые как танк, тяжёлые, как вся земля под ногой, и под тою тяжестью оседал мальчишка в снег, и глядел в лицо Василию, а Василий безотрывно глядел на него, и выталкивал парнишка из себя, из самого сердца, его подземных глубин: дяденька... а что... это... я что, сейчас вот... тобою стану?!..
И тогда Василий отворачивался, поворачивался, ать-два, шагом арш, и шёл прочь от мальчонки, прочь, прочь, нельзя было шутить ни с каким превращеньем, - он понимал, что при последних днях, на последних тропах Ада, он, Ад, будет стремиться обратиться в Рай, старость захочет стать младостью, а Царь, Царь вселится в него, в Василия, в его грешное бродячее тело, и соблазн великой власти обуяет его, и возжелает он, Василий-юрод, стать Царём на Руси, да таким, какого в Русской земле отродясь не бывало; таким добрейшим добрых, таким справедливейшим справедливых, таким любимейшим любимых, что самому ему станет томно, больно и страшно - как же это всю жизнь, да, всю, напропалую, навылет! - жил юродом неприметным, скитальцем грязным, молельщиком суровым, сугробным, слонялся среди людей волчарой мыслящим, медведюшкой, языком Давыда Псалмопевца наделённым, а вот власти не имел! А вот оно, оказывается, сладко как - иметь власть! Настоящую, большую! Неизбывную! Такую громадную - на все жизни загодя: и наследства не надо! На все времена суждённые, только что рождённые или позорно казнённые: и эти вопли переплывём! А власть-то, вот она, никуда не девается! Власть - символ вечности! Ею Время побеждается!
Властью... или всё-таки любовью?!..
Любовь... любовь... где ты, где ты, любовь...
Золотой трон плыл над Москвой, и Василий, далёко отойдя от мальчика, минуту назад бывшего медвежонком, снова закидывал лик к зениту, наблюдая Царский на троне полёт. Царь, эй, гляди-ка, в небе сподобился летать! Крылья, знать, обрёл! А и кто тебе их дал-подарил, крылья-то? Зимняя Война?! Трубный глас победы? Тайный твой, за занавесью прячущийся волхв?! Торжествующий Ад? Рыжая твоя, хитрая невеста, Катерина?! А может, может... Ксенья намедни явилась, да золотое Райское яблоко в руке у ней, и тебе, Царь, она его щедро протянула, и молвила: ешь!.. не бойся!.. угощенье Рая!.. боле нигде не отпробуешь, только - из моих рук...
Трон летел по небу, Царь из поднебесья глядел вниз, и вот он увидал Василия, и остановил на нем горящий зрак свой. Горели высокие дома, пожарные каланчи. В голос плакали люди. В Аду, наперерез Василию, медленно ехал всадник на огненном коне, а из узкого кривого переулка выезжал другой всадник на коне, чья шкура переливалась иззелена-чёрным цветом, васильковой синью, вороновым крылом; и третий всадник явился, у каурого конька была крупными каменьями изукрашена сбруя, его ночные узкие глаза ножами разрезали белый слоёный пирог снега; и люди возвышали голоса, и люди плакали громче, и люди выкрикивали в туманный, безумный мороз: Конь Блед!.. Конь Блед!.. Последние времена!.. Последний день в Аду!.. Переживи, земля наша!.. Переживи!..
Василий шептал, повторяя: переживи... переживи. Всадник с белыми вьюжными космами, заплетёнными в тощие длинные косички, появился между домами, а казалось, он ехал по чёрному небу, плыл одинокой льдиной, отколовшейся от мощного толстого льда Москва-реки. Белые волосы. Белые глаза. Белые зальделые руки. Белые снеговые брови, метельные ресницы. Белый плащ; бьётся, вьётся по ветру больничная простыня, вся в крови. Баба на ней рожала? Старик умирал? Солдат ли вопил, выгибаясь во смертной муке: "Матери только не пишите!.. Матери не сообщайте!.. Пусть думает, я жив и побеждаю на Зимней Войне!.." Белый конь под тощим, как жердь-слега, белоглазым всадником медленно, сонно поднимал тощие ноги; не конь, а скелет коня ступал по улицам, буранная грива мела смоль ночи. Всадник был жив или мёртв, никто не знал. Рёбра торчали тюремной решёткой из-под лазаретной простыни, коей обвязан он был.
Это последний всадник; и он несёт последнюю весть; и нынче Ад прекратит его бытие, и мы покончимся вместе с ним.
Внезапно Василий остановился, и лёд на Москва-реке остро, больно блеснул, резанул его сизым тонким светом по краям роговицы, по безднам зрачков. Конец! Пропасть! Обрыв! Но кто же поручится, что конец - не начало?!
В моем конце моё начало... кто мне это говорил?.. когда?.. ах, да, мне это шептала Блаженная моя...
И плыл в небесах вперерез Царю на троне огромный дворец; и четыре стены его горели ясписом, лазурью, малиновым турмалином, россыпью алмазов; и стояли на крыше дворца Ангелы Божии, счетом четыре, и восемь раскинутых широко, на пол-Мiра, крыльев дрожали и дышали, воздымаясь, за нежными и сильными, мускулистыми спинами их; у Ангелов в руках светились золотом горны и трубы, и подносили они мундштуки труб к устам, и дули в трубы, выдували из них ветер, снежный сиверко, и погибшую, испепелённую музыку, и Божий небесный гром, и человечий последний стон.
И люди поднимали головы к испускающему лучи под облаками Царскому дворцу и перешёптывались: Боже, Боже!.. какую же красоту Ты кажешь нам напоследок!.. знаем, Твой дворец, не Царский, ибо Ты, Ты настоящий Царь земли Русской, а не Царь Иудейский... Тебя любим, родного сына! Тебя ждём и призываем, отца, ушедшего на Войну! Тебя обнимаем, единственно возлюбленного! Да, да, Тебя никогда не видим во гробе Твоём, ибо покинул Ты гроб, для того, чтобы к нам, русским людям, явиться в суждённый наш, последний час...
Василий выше закинул голову. Шея у него заболела. Он поднатужился и крикнул так громко, чтобы там, в вышине, Царь несомненно услышал его.
- Эй! Царь-Государь! Видишь меня с вершины твоей! Летишь надо мной! Весь Ад я прошёл во славу твою! И вот до края дошёл! А дальше идти не хочу! Москва моя не стала со мной сражаться, когда я её крепостные стены с моим войском - железной стрелой насквозь пронзил! И внутрь града вступил, а тут самый Ад и оказался! Кричу тебе: прими меня! Выслушай меня! Я пришёл, чтобы дать волю судьбе: пусть свершится! Я пришёл, чтобы бороться с тобой! Выйти на сраженье с тобой единым, один на один! Скажешь, обнаглел я?! Скажешь, обезумел?! Пусть обнаглел! Пусть обезумел! Я Ад прошёл из конца в конец, и я делаю, что хочу! Вот тебя повидать захотел! И много речей у меня к тебе, Царь! Много на сердце тьмы, наболело! Нашей битвой обоюдной мы ту тьму должны развеять! Да не битва то будет, пойми! Иной бой любовней самой любви бывает! Спасительнее самого спасения! Очиститься нам надобно честностью! Заврались мы! К обману притерпелись! Грозы хочу! Ярких молний! Без лукавства - боли! На весь свет - последнего костра!
Ангелы, стоящие в небе на крыше драгоценного дворца, затрубили в трубы громче. Звонкие трубные кличи оглушили, пронзили, из грудей, рук и спин кровь брызнула, полилась. Снег, обнимающий голые заледенелые деревья, обращался в белый огонь. Красная вьюга заметала руины храма Покрова. Сыпалась красная штукатурка со стен. Лёд на Москва-реке становился красным, багряным, рубиновым, визгливо трескался, и льдины в форме звезды вставали стоймя, чудовищными торосами. И в чёрно-красном небе, вдруг обратившемся в необъятного паука с красными глазами и красными лапами, стала восходить странная, страшная Звезда - раскидывала зелёные световые водоросли, голубино-сизые, синие, полынные казнящие лучи, светилась и гасла и опять яростно вспыхивала, мерцая умоляюще, переливаясь свадебно, разноцветно, как гранёный алмаз на груди у Царицы на пьяной роскошной пирушке; под треснувшим льдом в реке катилась чёрно-алая кровь - всех, кто погиб на Войне, был замучен, застрелен, запытан, взорван, раздавлен гусеницами вражьих танков, - а Звезда всё ярче сияла, всё гуще наливалась красным светом, вот этой, подлёдной, незапамятной кровью сладко-солёной, и проглядывала сквозь бешенство её лучей то вода Байкала, то нежный прибой Амура, то кошачий амазонит древних Саян, то емшан, емшан, трава степная, что затягивает душистой горькой погибелью простор под казацким Яиком, под Гурьевом и Ахтубой; захлестнула та Звезда зелёно-алым, подводным свеченьем всё живое и неживое - глазницы домов, лики мёртвых старух, тихо лежащих во снежном одеяле, зеркальные сны оконных разбитых стекол, и главное, озаряла Звезда земные костры, тот неистовый огнь, что последнюю пляску плясал по столице! И люди расширяли слепые и зрячие глаза, и шептали друг другу: гляди-ка, держись, не теряй разум от страха, огонь-то наш, прежде рыжий, красный, золотой, стал вдруг зеленью, синью речною, болью сапфирной, мороком глубоководным! Вернись к нам, златой огонь! Сгинь-пропади, синее пламя!
Василий произнёс вслух, сам себе:
- Звезда Полынь. Вот ты. Вижу тебя.
Он видел, как его танки шли на Москву и входили в Москву, охватывали её железными длинными руками.
Как многочисленно воинство моё. Как верно, что я пришел с бойцами моими в град Первопрестольный.
Танки легли вокруг Москвы, обвили её обгорелым стальным телом. Танкисты, высовываясь из люков, видели пламя уличных костров, видели, как горят дома и зимние парки, ужасались пожару: он повторял прежние пожары столицы, и он отличался от них тем, что был - последний. Огонь брал на себя, в красный ужас свой, в алое и золотое торжество, грехи всех, от мала до велика: Царя и последнего нищего, богача и последнего бродяги. Огонь, ты всех уравнял! Мы столько веков сражались за равенство, а вот ты, явился и порядок навёл! Последний. Безумный.
Лишь огнём можно выжечь позор и порок. Лишь пламенем - очистить тела и души от ужаса греха. Семь смертных грехов! И наиглавнейший из них - убийство. Я научился на Войне убивать. Я наловчился убивать. Я привык убивать! Кто, люди, кто теперь в Мiре грешней меня!
Трон, на коем восседал Царь, всё ещё летел над ним, и не знал Василий, досягнул до ушей Царя его крик или нет.
Я вызывал его на честный бой. Я хотел ему борьбой показать: борьба, убийство гроша ломаного не стоят! Победить силой - легко. Что родного Царя, что лютого врага, Ада владыку. А что за победой? Как она даётся? Во имя чего, кого она происходит?
Кому - и навек ли! - она принадлежит?
Времени?! Но мы все умрем. И некому будет годы считать.
Людям?! Но в новой, жуткой Войне убьют ещё больше людей.
Богу?! А разве Богу нужны наши жалкие, немощные земные сраженья?!
Ты. Рыжая Диаволица. Где ты? Знаю, рядом. Идёшь за мной. Ксенья ступает за мной во мраки Адовы, и ты не отстаёшь, идёшь по пятам. Зачем мы тебе? У тебя же есть Царь! Жених твой! Зачем я тебе, юрод площадной, генерал приблудный?!
Звезда Полынь посылала вверх, вниз, направо и налево, вперёд и назад синие лучи, копья-изумруды, снопы травы болотной, неисходной, и лился свет, как плач, и горечь жгла губы, горечь при вдохе вползала в раздвинутые меха лёгких, и понимал Василий: отравой дышим, отраву пьём, ядом языки и сердца обжигаем.
Земля, рассядься надвое! Пусть огонь хлынет из глубин твоих! Ты же вся, там, внутри, есть огонь. Мы, жуки, мошкара, муравьи, ползаем по тебе, а под нами, под тонкой земляной коркой, пылает огонь, мыслит, смеётся, дышит, вот сейчас вырвется наружу и всех, скопом, казнит. А чтобы неповадно было Богу молиться. И перед Диаволом пластаться. А надо молиться огню, ибо огнь последний есть начало и конец всего.
Василий поднялся от ледяных ковров Москва-реки и снова шёл по площади Красной. Ветер развевал полы его расстёгнутой шинели, отгибал китель, рвал генеральскую фуражку с кудлатой головы. Вот они и руины храма Покрова.
Накинь на меня звёздный омофор, Богородица, Ангелица! Да не убоюсь Диавола в женском обличье. Да преисполнюсь веры и любви.
Он не оглянулся назад. Смотрел только вперёд. И он не видел, как за ним по заснеженной площади, вперевалку, тяжело, припадая то на передние, то на задние чёрные, густошёрстные лапы, бредёт медведь. Зверь громадный, что тебе холм над рекой; время от времени медведь вскидывал к звёздам, усыпавшим смоляное ночное небо, морду и пытался зареветь, да куда там - смёрзлась медвежья песня в глотке, слиплись язык и нёбо на морозе, только жёлтые длинные клыки проблёскивали под обнажёнными в оскале сине-красными дёснами.
Василий замирал, и замирал медведь. Стояли оба недвижно. Потом Василий возобновлял шаг, и медведь катился вперёд чудовищным заросшим шаром, перебирал лапами, кряхтел, глядел вдаль красными, ярко горящими во тьме маленькими клюквинами-глазами.
Юрод широко перекрестился и переступил через то, что вчера ещё было храмовым порогом. Дверей не было. Дыра зияла, тьма. Сноп света пронизал тьму, участливо, нежно, радуясь, позолотил руки и лоб Василия, вошедшего в собор.
Медведь остался на площади.
Сел на широкий чёрный зад, как человек на пире; передние лапы свесил пред собою на груди, словно молил кого незримого о пощаде.
ТРОЕ В СОБОРЕ
Там, снаружи, огонь. Здесь руины. Ад, ты праздновать готов, ты мнишь - победа твоя!
А где мой Иконостас возлюбленный? Где он?!.. где... неужто разрушен... хищным огненным языком слизан...
Василий стоял и глядел снизу вверх на громаду Иконостаса, на волны ликов святых, заливающие светящуюся полынным инеем, осыпающуюся военным сахаром соборную стену. Боже! Немыслимо! Война их пощадила. Всех! Чудо Господне. Да разве ж мало Божиих чудес на земле. Вот, он зрит подобное чудо; да, святые сами хранят намалёванные богомазами образа их, и образ то не парсуна, портрет сгорит, и живой человек, с коего он писан, умрёт; человека подстрелят - и изображенье его пулевым дырами покроется, отверстиями от жалящих стрел; а тут!.. Святой вечен. Он безсмертен. Значит, и лик его, воскрешённый благоговейной кистью, безсмертен несомненно.
Лики слагались в волны золота, золото прихлынуло из небытия, сверкнуло небесной чистотой, плеснуло в заросшее бородою лицо генерала. Василию захотелось снять китель и облачиться в длинный холщовый хитон, подобно тем, в коих на Иконостасе застыли фигуры праотцев и пророков, да и самого Господа Христа.
Снаружи огонь. Пламя обняло собор. А что, если я тут сгорю? Со всей оставшейся, разбитой утварью, с медью окладов, со всеми бедными ликами Иконостаса? Огонь - дух, и он всяко пожрёт материю. И я - материя. И я, человек, пред огнём не дух, но жалкая плоть.
Там, снаружи, мысль его металась, он мучительно вспоминал, Грановитая палата, белая как снег колокольня Ивана Великого, да давно уже её всю, от купола до изножья, затянуло непроглядной сажей; там Боровицкие врата, там лошадиный горделивый Манеж, там грохот его родных танков и чужой разбойничий посвист уличных бандитов; там вся его жизнь, и горит она и сгорает, а его дух здесь, в соборе, и вот медный злачёный потир валяется на усыпанных каменной крошкой плитах, из него же тебя века назад, юрод, причащали, а нынче лежит святой сосуд мёртвый, и вмятина на боку, нет, это рана, и кровь, кровь льётся.
Ему стало жарко, он расстегнул китель. Танкисты, братья мои, солдатушки! Надо менять жизнь! Надо верить в Господа! Верите ли вы, бойцы мои, в то, что я буду вам хорошим Царём?!
Да разве хороший Царь бывает. Разве о добром и ласковом Царе надо мечтать. Добр к тебе только Господь твой. А супруг твой, супруга твоя, родители твои, дети твои могут и лютыми, наилютейшими врагами тебе быть. И только Господь, Царь Небесный, не исполосует тебя плетьми, не четвертует, не рассечёт саблями, не предаст.
Он услышал странные звуки. Пел далёкий хор.
И шире раскрыл он глаза, и понял, что вроде как слеп он был, и вот прозрел; что глух был, и вот сам воздух музыкой звучит вокруг него.
Какой же я буду добрый Царь подначальным моим? Всё так же буду я наказывать. Всё так же обманывать. Всё так же под живот мой дань с людишек моих собирать. Всё так же - или не так? Не так?!
Сапфирно, изумрудно возгоралось всякое, наималейшее изображение в нишах Иконостаса. Плыли и летели фигуры святых, обнимались, разрывались, расставались, рыдая. Опять вплывали в овальные и квадратные рамы свои, замирали, улыбаясь сквозь слёзы, слушая биение сердец своих. Вот икона праотца Ноя вспыхнула огнями святого Эльма на высокой мачте небесной ладьи. Вот налетел из убитой двери пожарищный дым, и Василий глубоко вдохнул его и опьянел, как от чёрной водки, и горели иконы великим радостным огнём, и дышали свирепым дымом, как раньше, века назад, там, в Мiре святом, дышали ладаном, воскуреньем кадильным.
И вдруг снялись с места замершие в укромных иконных нишах святые люди - и заскользили, и стали спускаться вниз, всё вниз и вниз, к стоящему в тени притвора генералу, и дым ласково проводил по ним невидимыми ладонями, обвивал, обнимал и опять выпускал на волю, и шли они, медленно и важно босыми ногами перебирая, по воздуху, по потоку ветра и запаху гари, по восковому, изумрудному лучу, ударяющему из-за соборной арки.
Кто они были теперь? Святые ли? Василий глядел потрясённо и не узнавал, и узнавал.
Нимбы золотом пылали, золотые тарелки и миски с его родной, сумасшедшей и шумной Царской кухни, где все друг на друга орут, друг другу соль в глаза сыплют и молотый перец, а потом, над плитой, над живым огнём, над счастливым запахом жареной гусятины или тыквенной мощной каши обнимаются, прощенья друг у друга за прошлое зло прося: "Прости меня!.. И ты, и ты прости меня!.." Давно разбитые, заржавелые тарелки и подносы сияли над затылками святых, обращаясь в круглость далёких планет, в светящиеся шары красных и жёлтых звёзд, постепенно остывающих, молча умоляющих: человек, мне молящийся, запомни мя грешного, запомни... Пока помнишь - я живу...
Перед всеми, перед хором, что молча пел ему чудо, не разжимая губ, шёл человек с выколотыми ножом очами. Великий зодчий, постник Барма, ставший разудалым, лихим разбойником; одною рукой он разбойничал и бесился, другой - продолжал возводить неписаной красоты храмины, вот и собор Покрова он тоже построил, и это ему, Барме, юрод ненастную его судьбу предсказал. Слепой Барма ступал по кадильному дыму Войны осторожно, нащупывая стопами верную воздуха струю, а за ним шли друзья его, собутыльники; они покаялись, лбы себе, каясь, разбивали в кровавых слезах; и один возвёл в лесу скит, другой каликой перехожим побрёл по дорогам, третий послушание принял в Желтоводском монастыре, ну что ж, так тому было суждено. И вот все шли навстречь юроду, и не узнавали его, а Василий-то всех, всех их узнал.
За спиною Бармы шёл тот солдат, что вёл-вёл и привёл юрода к Царю; солдат тот погиб в бою смертью храбрых, сам на Войну попросился, и был отпущен в грохот и дым, и был застрелен в грудь, в упор огневистой вражеской пулей. За ним шла ясноглазая девочка с отрубленной рукой, одна из тех, что умирала в Аду, во взорванном храме. Культя её была крепко забинтована, и улыбалась она, и торжественный мороз музыкой пошёл по спине Василия, когда он понял, что она увидала и узнала его. А за безрукой девочкой шёл Царский генерал с бездонными озёрными глазами, тот самый, что сочувственно глядел на Василия в избе на военном совете: пушистые усы его сияли, из бороды исходили золотые лучи, волосы искрились солнечно, русые, полевые, ржаные, и глаза плыли вешними водами, ходили в них тени подводного растения элодеи и быстрые тела нежных красных рыб, восставали и умирали призраки неисследимого Времени, его же не вернёшь никогда.
А рядом с русобородым Царским генералом с глазами-озёрами шёл бандит, что защёлкнул на запястьях Василия стальные Адские оковы во время оно; смертью злодей искупил деяние его, и предсмертное покаяние его Богом на небесах зачтено было, и прощён он был, и вознесён, и очищен от скверны. А близ воскрешённого к вечной жизни разбойника шагал танкист, молодой парень, что во вчерашнем бою сгорел в танке, и, весь обгорелый, шагал он вперед, оживший мученик, со вздутой кожей голеней и предплечий, с обожжённым лбом и щеками, превратившимися в водяные пузыри; он ничего не видел, глаза ему выел огонь, но он улыбался Василию, генералу его, и Василий в ответ улыбался ему дрожащими губами. А рядом с ним, вот диво, шла косноязычная девчонка, с коей юрод беседовал на Красной площади - день назад или пять веков назад; девочка мелко перебирала босыми, в пыли, обмороженными ножонками, не шла, а бежала, чтобы за всеми святыми поспеть, не отстать, -а за ней выступал, вытянув шею длинную гусём-вожаком, денщик Царя-батюшки, тот самый, что из душной избы во двор направился исполнять страшный приговор Царя, генерала Василия расстреливать, да не расстрелял; круглыми птичьими глазами испуганно, затравленно глядел на Василия Царский денщик, боялся возмездия, ждал мести, время несбывшейся казни прошло, наступило другое Время, и в нём человек уже не ждал судьбы своей, не мстил и не злобился, а сам приветствовал судьбу, распахивал навстречу ей, знамой, щедрые объятья.
Василий понял: он сам, сам тихо, неприметно идёт навстречу им, с Иконостаса сходящим, движется к ним. А это кто там, сбоку от череды идущих и плывущих, под крылом апсиды, под небесной трубою конхи, под повернутым страшным креном гигантским медным колесом паникадила?!.. о, рассмотреть бы... по имени назвать... неужели...
Он ждал её. Его босую солдатку. Его вездесущую тень. Его дражайшую Деву-Птицу, вот она, и крылья волочатся по полу собора, и горелый дух обволакивает виски, лоб и подбородок.
Ксенья, приветствую тебя. Неужели ты снизошла. Шла, след во след, за мною по тропам Ада. И вот ты здесь. В соборе Покрова. И ты, ты сходишь ко мне с горящего Иконостаса. Полно, да горит ли он? Все святые - живые. Да и ты живая. Скажешь ли мне что? Или так, промолчишь? Мне и слово твоё слышать не надобно. Я сам говорю его, я. Я - это ты. Любовь, это не я, а ты.
Ксения шла, приближалась к нему в её привычном, священном мешке, ему иной раз чудилось, она в нём родилась, рвалась на сквозняке дырявая мешковина, земное рядно, Василий с ужасом заметил: вот один шрам, наискось по лицу, вот другой, на шее, будто голову ей кто на плахе рубил; вот пятна крови засохли на холстине, там и сям, и на груди и на подоле, и загорались шрамы лучами, и скрещивались лучи-копья, сполохи Сиянья Северного, и всё тело Блаженной переливалось, вспыхивало занебесными огнями, такие огни издревле живут в эмпиреях, Жилище Блаженных, - и видел, видел Василий на груди Ксении, над ключицами, в яремной ямке, синий бирюзовый, рассветный крест нательный; и шла, шла она, всё вниз и вниз, из поднебесья, из позабытого Эдема, и глазами пела она неведомую музыку, и пальцами тихо перебирала, будто играла на невидимых гуслях, играла и пела для всех мёртвых и всех живых, для жителей всего Ада и детей всего Рая, и в Аду и в Раю люди слышали её, низко кланялись ей за единственную песню её, провожали её, идущую, плача, зрячими и слепыми, любящими глазами.
Василий протянул руки к Блаженной.
- Ксенья!.. Ксенья моя!.. Неужто!.. Я и мечтать не мог. Шептал себе: жизнь твоя на исходе, юрод, и счастье твоё не вернется. А вот же ты! Счастье мое!.. Зимнее... ночное... во звездах... свечою паникадильною...
И тут лязг раздался из-за угла.
И обернулся Василий быстрее молнии в тучах зимней страшной грозы.
В углу собора стояла Царская невеста. Косы рыжие расплетены. Всю её, от плеч и грудей, до пят укрывают. Во храме - нага. Ни тряпки на ней, ни рогожи. Власы шевелятся, ползут змеино, сами в косы вьются, сами развиваются.
- Что таращишься, юрод жалкий?.. Не ожидал?..
Я тебя всегда ждал. Ибо ты можешь подстеречь и человека, и Бога где угодно.
- Боишься меня? Такою ты меня ещё не видел? Я Царица Ада. Да разве же мне соблазнительно стать Русской Царицей, когда я владею всем, даже тем, чем нельзя владеть?! Всем, всеми сокровищами, от жемчужных слёз до гранатовой крови... от выстрела наповал до бесконечных, на всю оставшуюся тебе вечность, терзаний...
Не боюсь тебя. Не запугаешь ничем. Того, кто умер и воскрес, не убить дважды, трижды. Над воскресением ты не имеешь власти, Диаволица.
- А знаешь, почему я тут? И почему я нагая? Заманю тебя во дворец. Соблазню на единоборство с Царем!
Да я сам этого хотел. Ты нагло мои мысли прочитала!
Засмеялась тихо, вкрадчиво, тошнотворно.
- Да. Прочитала! И ничего я тебе за это не должна. Ты сам виноват. Ты слишком открыт. Тебя легко раскусить, как спелый орех. И сжевать, закрывая глаза от наслажденья, урча, припевая. Доверчив ты, юрод! Много всего ты умеешь на земле! А я боле умею. Побеждает тот, кто большим владеет. А ещё побеждает хитроумный. Доверчивый проигрывает. Падает на снег. Ползёт по пеплу Ада. Сгорает в военном огне. Вороны клюют горелое мясо. А где, спросишь, душа? А и нету души. Тихо из Мiра уходи. Звезду туши.
Это ты, Диаволица, день наступит, однажды из Мiра уйдешь.
Смех её резко, резво вылетел из неё, взорвался, вспыхнул, раскатился ядовито, красным горохом.
- Ха, ха, ха, ха! Да что ты говоришь! Вот испугал! Да ни в жизнь! Да никогда! А ты, ну, давай, поворачивайся, ступай за мной! Иди за мной, иди! По сторонам не гляди! А то окосеешь! Клыки изо рта высунутся! Язык алый из зубов свесится!.. Медвежоночком станешь!.. ха!..
Я и так юрод-Медведь. Загрызу, коли близко подступишься, чертовка.
- Ах, ах!.. Думал небось: вот столпники, святые, преподобные, равноапостольные, мученики, страстотерпцы ожили, и они, живые, сейчас вот идут к тебе, идут с увечной стены, идут с небес, идут тебе на подмогу?!.. Помощи желаешь... о протянутой руке мечтаешь... Да знаешь ли, за что тебя ненавижу?! Оттого, что ты сам святой. Да! Святой! Настоящий! Неподдельный! И обучать тебя не надо! Ни грима накладывать на рожу не надо, ни в плащ одинокий обряжать! Сам ты, какой есть, каким тебя мать родила, за всю твою юродскую жизнь - освятился! Деяниями твоими! И вот, да, Зимней Войной! Сам на неё попросился! Сам в ней - героем стал! А Царь, Царь один на ней хотел быть героем! А ты у Царя, так получается, Царский победный венец - отобрал! Нагло сорвал! Стянул! И что ж ты хочешь?! Царь тебя велит казнить на Красной, прекрасной площади! Ах, какая честь! Вон, вон оно, Лобное место! Не забыл его?! - Диаволица кивнула на чёрный прогал, туда, где когда-то моталась на ржавых железных петлях дверь собора. - Туда тебя поволокут солдаты! И не пикнешь! Будешь молчать, сколько сможешь терпеть! Но прежде чем смерть придет, вкусишь Ад земной досыта! Уж я попрошу жениха моего, Царя, чтобы попытал тебя сладко, во всю ивановскую, долгонько, изощрённо! Чтобы исторг палач из твоей глотки дикий, нескончаемый вопль! Вот тогда я возвеселюсь! Вот тогда - восторжествую!
За что ты меня так ненавидишь, рыжекосая Катерина?
Диаволица шагнула к юроду. Красные косы её скользнули с живота, с пупка и сосцов на спину, оголив белое, как всегда бывает у рыжих лисиц, нежнейшее, лилейное тело, текучее, льющееся тёплым постельным перламутром, перегибами льняных простынок и тончайшим кружевом вьюжных подзоров; она дышала легко и часто, вьюгой дышала, холодом, звёздной негой, Иномiрием, на закинутом румяном лике её написались прозрачные письмена, и Василий, прищурившись, смог их прочитать: Я НЕНАВИЖУ И ЛЮБЛЮ, И НЕНАВИЖУ СИЛЬНЕЕ, ЧЕМ ЛЮБЛЮ, И Я УБЬЮ МОЮ ЛЮБОВЬ, ЧТОБЫ НЕНАВИДЕТЬ СВОБОДНО И ПОБЕДНО.
- Господи, - вышептал он вслух, горько, - помоги тебе.
Громкий смех наполнил каменную чашу собора безумным вином.
- Это ты Диаволице зовёшь на помощь Бога?! Ну ты и дурак! Юрод воистину! Полоумный! Разве можно сталкивать лбами Бога и Диавола! А думаешь, почему я Диаволица?! Сатана нынче выступает пред народом в бабьем обличье. Баба, вот кто главнее главного! Мужское тайное владычество изжило себя. Земля сделала поворот длиною в тьмы тем сумасшедших лет, и природа вернулась сама к себе. Природа. Женщина. Жизнь. Смерть. Свобода. Радость. Боль. Скорбь. Война. Все, все, все, вдумайся, глупец, бабьего рода!
А Мiръ? А Рай и Ад?
- Ха, ха... ах... Ад... Рай... Пусть живут! Пусть корчатся в муках! Рай мучится на звёздном холоду. Ад стонет в разливах крови. У каждого собственные страдания. Иди за мной! Не думай ни о чём!
Он оглянулся и стал искать глазами ту, кого любил превыше всего на свете. Превыше и горячее света самого. Ещё до жизни и после смерти.
Голая Катерина, идя, отбросила власы с плеча рукою и обернулась к нему, смеясь.
- Её ищешь?.. Юродку твою?.. Брось! Мизинца твоего она не стоит. Оторви её от души твоей! Рассеки пуповину обманной любви твоей! И выбрось на задворки, в отбросы, сей крохотный, грязный, дёргающийся в судороге, залитый кровью плод! Он умер уже, он не страдает, не бойся! Мало живёт любовь после смертельной раны, ей нанесённой! Что такое любовь? Любовь людская - блажь, дурь, безумие, выдумка, мука! Тебе что, мучиться охота?! Не пора ли уже стать свободным от всего мiрского, юрод, так, как ты хотел?! Отвернись! Не думай боле о ней! Не ищи её нигде! За мной иди! Во дворец к нашему Царю!
Нагая белая спина Катерины маячила уже в ночном дверном проёме. Красные распущенные космы вздул налетевший ветер. Василий остановился. Будто кто вожжи натянул и его, как коня, остановил. Он замер, тяжело дыша. Медленно обернул голову.
Рядом с ним стояла Блаженная. Она была с головы до ног окутана пеленой тумана, по туману ходили, вспыхивая, мелкие снежинки звёзд. Вся она была небесная и глядела небом. Глубоко глянул Василий в её небесные очи. Она прикрыла глаза тяжёлыми, исплаканными веками. Седые, когда-то горящие червонным золотом, а теперь перепутанные, как зимние пути-дороги, в снегу вымоченные, ветром истрёпанные волосы падали на грудь и спину, прикрывали худое, измождённое за всю жизнь в Аду тело, сквозь мешковину просвечивала не плоть - душа: Василий видел, как под холстиной больно билось её многострадальное сердце, как сердечный молот разрывал изнутри ей рёбра и кожу, как горами, гольцами торчали ключицы и кости грудины, поддерживая саянский крест небес бирюзовый, как голодные тонкие, подъятые руки Архангельской лестницей уводили в дорогу, на святую муку, к последней песне.
БОЛЬШОЕ КЛЕЙМО С ИЗОБРАЖЕНИЕМ ЦАРЯ НА ПИРЕ
Среди руин Зимней Войны терем Царя стоял незыблемо. При взрывах откололись от белокирпичных углов два, три кирпича, не боле. Всё так же застывали, сапогами к земле примерзая, при крыльце стражники с алебардами и автоматами Калашникова, с базуками и секирами; всё так же сидел на коньке крыши флюгер - железный петух, позолоченный щедро, от души, сусальным златом: тем, коим на образах горний свет малюют. Петух золотым клювом указывал на Восток. Значило ли это, что с Востока помощь придёт? А может, сие означало, что надо войскам Войны двигаться на великий Восток и там принять последнее, Вселенское сраженье, и там наступит грандиозный Армагеддон, и там, на красном Востоке, решится судьба чёрного Мiра?
Василий шёл мерно, медленно; медно впечатывались его генеральские сапоги в испятнанный горькой гарью снег. За ним, поодаль, шла красноволосая Катерина. Откуда она взяла атлас и бархат, чтобы укутать стыдную голизну, никто не знал. Замыкала шествие Ксения; она ступала по снегу медленнее всех, и лицо её светилось всех счастливей.
Подойдя к крыльцу, юрод наклонил голову; так он кланялся сторожам, смирялся перед символами власти, перед древним оружием в руках бойцов; они его не знали, он их не знал, но заметил: просверкнуло в их стеклянно застылых глазах почтение к генеральскому его, в орденах, кителю.
Встречают по одёжке. Как до Потопа было, так и нынче заведено.
- К кому изволите?!
Голос какой зычный. Оглушит, с ног собьёт.
- К Царю-батюшке.
- К Царю самому! А есть у тебя разрешение-то, генерал?!
И этот орёт, как на пожаре.
- Я сам себе разрешение.
Алебарды скрестились.
- Уважаем тебя, герой, генерал! Да не велено без спросу!
- Пустите, негодяи. - Голос Катерины расстилался мягко, снежно. - Он со мной. И нас Царские генералы ждут. Меня узнали, надеюсь? Царская невеста я.
Стражники отдёрнули алебарды. Один отдал честь, другой глядел сладко, умильно.
- Добро пожаловать в Царский дворец! Так это в вашу, в вашу честь во дворце готовят знатный приём?
- В нашу!
Рыжекосая выступила вперёд и впереди пошла, светясь и переливаясь кровавым атласом плаща, за нею Василий, за Василием - Блаженная.
Распахнулось пространство, за ним Время, и они так втроём и втекли в настежь открытые двери.
***
Меня заманивают царедворцы, Ксения. Не могу тебе изъяснить; чувствую, попался в сети, и тащат, тащат меня, рыбу, из снежной глубины; накинули на меня петли, из тонких нитей сплетённые, и тянут, подтягивают незримые нити к себе, а я упираюсь, да те, кто тянет нити, сильней. Я побеждал в открытом бою, и я не готов к тайным схваткам. Подковёрные сраженья! Битвы в погребице, в кладовой! На задах, где сгрудились старые сараи! Я так биться не привык. Сей бой не по мне! А чую, меня к нему принуждают.
Родная! Кто, кто меня предаст?
Никто не знает часа своего, даже посреди Зимней Войны, коя сама и есть последний час человечества; и никто не знает часа его предательства, а ведь предадут, предадут. И - продадут. Сие в природе человека. Когда-то обуял его первородный грех. Зачем в Раю растил Бог древо познания? И что надлежало познать Еве и Адаму, когда сорвали с ветки и вкушали они опасный, сладко-горький плод?
Война - такой плод. Для иных горше горечи. Для иных - сладостный путь к чести, славе и деньгам. Всякому - своё. Да воздастся каждому и по деяниям, и по мыслям его. В мыслях тоже можно ой как нагрешить. Я как раньше поступал, когда по площади Красной расхаживал голяком? Увижу такого мысленного грешника - цап его за руку, к себе ближе притяну, да как у него над ухом и заору! Аж сотрясался я от крика моего! А о нём и говорить нечего: он от ужаса оседал в сугроб, инда на охоте зверь подстреленный. Взирал на меня снизу вверх, как на ката жестоковыйного. Не вели казнить, бормотал, вели миловать! А я гладил его по голове, будто ласковой рукою короновал его, шептал ему: что страшишься, не дрожи, это не я кричу, это в тебе твой несчастный грех кричит. Больно греху, когда он из тебя выходит. И не бойся, если ты сам будешь вопить от боли. Это бесу больно, бесу. Не желает он тебя покидать.
А в иных людях бесы, однажды поселяся, так и живут. Всю жизнь. До скончания века.
Вот поднимаюсь по теремной лестнице, крепко держусь за перила. В сапогах, а будто босой. Предо мною маячит Диаволица. Красный её плащ метёт мраморные ступени. Оглянуться боюсь: за мною тише воды, ниже травы идёшь ты, Ксенья.
Я боюсь тебя выдать, предать. Я боюсь тебя потерять.
И вот входим в обширный, как ледяные палаты на Москва-реке, пиршественный зал. Ох, ну такой роскоши даже я, бывший Царский повар, не приуготовлял для торжественных аудиенций и тайных празднеств Царя! Столы подгибались от сумасшествия яств. Глаз мой успевал заметить знакомые блюда, удивиться незнакомым, рот скорбно молчал, страшась вымолвить слова восторга; и ты, родная, ты молчала тоже, понимая: слова бесполезны, если за стенами терема все люди от голода умирают, а тут пир устрояется пышнее пышного. Коричневые грузди вспыхивали под свечами, зри, их обильно кедровым маслом полили. Осетра икра на огромном, чернёного серебра, блюде, не могу понять, чем украшена; а, разглядел, тонко, кружочками, нарезанным заокеанским лаймом. Пирог в полстола раскинул широкие, песочного теста крылья, а на крыльях тех сидели слепленные из мягкого трёхлетнего мёда Ангелы, дули в маленькие трубы, сработанные умельцем-поваром из застылого жжёного сахара. Начинка, мрачный сливовый джем, лезла вон из пирога, как лава из ожившего вулкана. Печёный гусь растопырил толстые, лунно-круглые ляжки, а из распахнутого тесаком брюха его вываливались на лёд фарфора чернослив, жареный чеснок, мандаринные дольки, резаные медовые Райские яблочки, шафран, гвоздика, корень петрушки - вот он, рог изобилия! А каменьев драгоценных там, в животе у бедного гусака, нет?..
Милая, сокровище моё превыше всех сокровищ Мiра. Помню, из бедного зайчишки, на охоте застреленного, добыли потерянный твой бирюзовый нательный крест. Ты мне то рассказала?.. Или тот заяц, во сне явяся, беззвучно нашептал?..
Все пирующие обернулись к вошедшим нам.
Застыл зал, нас созерцая, узнавая. А мы посреди зала стояли, будто на плаху нас, преступников, вывели пред ясные очи народа, на последний погляд. Катерина в бархатах и шелках. Ты, Ксения, в рубище. И я, в распахнутой, грязной и дымной военной шинели, в расстёгнутом потном кителе генеральском, в изляпанных смертной грязью сапожищах.
И, Ксенья, все наши глаза в сей пирующей, жирующей застольной толпе искали - Царя.
Я выждал время. Оно сперва растянулось бесконечным корабельным канатом, потом сжалось, смоталось в малый кошачий клубок.
И возгласил я, и ты, любимая, слышала мой голос, и не перечила мне, не остановила меня:
- Придворные! Пируйте на здравие! Никто не запрещает вам есть и пить, пока другие помирают с голоду. Веселиться, пока других на Войне убивают. Никто словечка не скажет вам обидного, не швырнёт в лицо упрёк, ибо живёте вы вашею обычной, привычной жизнью. Да только расступитесь! И выведите сюда, навстречу нам, Царя нашего!
Все молчали. Положили на скатерть вилки-ложки. Перестали звенеть ножами. Брякать рюмкой о рюмку, стаканом о стакан, братиной о братину.
На нас, над пиром стоящих, глядели.
Диаволица повернулась, и я видел половину её лица, видел горящий зелёный глаз, длинную красную серьгу в маленькой ракушке уха, раздутую презрительно и гневно ноздрю, угол жирно накрашенного рта, яркого, как вокзальный семафор, высокую башню гладкой шеи.
Вот она подаёт голос. Ксенья, молчи. Ксенья, держись!
- Вижу, вижу Царя моего! А он-то думает, я не вижу его! Да разве же может невеста не узнать, а хотя бы и во тьме, в кромешном мраке, возлюбленного жениха своего! Вот ты, Царь! Выходи, Царь, на свет! Вкуси, Царь, с нами от яств твоих! Приветь гостей твоих! Да какие ж мы гости-то, Царь! Не гости мы тут! А хозяева! Вот я, Катеринушка твоя! Ближе близкого! Роднее родного! Вот он, твой любимый генерал, герой Зимней Войны, Василий твой! Пришёл! Прибрёл! Смиренно стоит! Ждёт команды твоей! Обласкай его! Награди его за подвиги его! Не скупись! Расщедрись! А это... это...
Вот оборачивается она, Ксения, к тебе.
И надо ей, Диаволице, слово произнесть о тебе.
И вижу я: не может она.
Откинулась тяжёлая парчовая, золотая занавесь. Вышел навстречу челяди, пирующим генералам и гостям Царь. Я глядел на него и не узнавал его. Где тот грозный Царь, что видом его, сведёнными на лбу бровями, желваками, железно играющими на скулах, кулаками чугунными, крепко сжатыми, устрашал любого, кто представал перед взором его?
Видишь, родная, кто перед нами...
...бледен. Жалок. Смирен. Власы повылезли. Глаза внутрь черепа вдавились, свет природный утеряли; тускло глядят, безжизненно. Исхудал. Отощал беспредельно. При такой-то жратве - еле ноги таскает. Колени едва гнутся. Подошвы сапог шаркают по радужному драгоценному паркету. К нам идёт. К нам! Да боюсь, не дойдёт. Остановился. Глазами в воздухе плавает, ищет, за что бы надёжное слепнущим зраком уцепиться. Жизнь! Как же ты коротка! И нельзя клясться тобой: ты непрочна, тонка, и истончаешься всё сильней, и вот уже не жизнь ты, а паутина тоньше волоса, тоньше слезы дождя.
Я гляжу на Царя. Царь глядит на меня.
Еле слышно звучит его голос. Он это мне, мне говорит.
Руку ко мне худую тянет.
- Царедворцы мои... изловить тебя повелели. Затянуть во дворец... пожелали... Возненавидели они тебя... пуще Диавола самого. Зубами... скрежетали... я сам слыхал... Стой!.. слушай... не говори ничего... скажу, а то договорить не смогу. Заманили они тебя сюда... затеяли пир. Пир - видишь?.. так то в честь тебя... и свиты твоей. Ах, хороша эта свита твоя. Одна баба... другая поодаль... Бабы... опять бабы... куда ж мы, мужики, без баб... Война - и та баба... ничего не попишешь, с армиями мужиков за бабу надо сражаться... Чья Война - того и победа... А меня, а меня... а меня...
Тут зашевелились жрущие. Из кресел медленно, угрожающе поднялись люди в военных мундирах. Генералы Царские, господарские. Лица злобой перекошены. На меня глядят. На Катерину не глядят. На тебя, смиренная Ксенья, не глядят. Я - добыча. Я - дичь.
- Василий!.. Они предали меня!.. Они...
Обводит тощей, высохшей рукой сытых, довольных. Вздрагивают генералы. Ненависть ярче, мрачнее вспыхивает на их лицах, заливает скулы и лбы гневным огнём.
- Они все предатели!.. Думают, они пир затеяли... а это я... я пир затеял... им в пику, в противовес... чтобы они, тут, на пире, отравой обожрались... и все, все, как псы... передохли... под лавкой... под печкой... под забором...
Генералы повскакали со стульев, выпрыгнули из бархатных кресел. Потрясёнными взглядами обводили Царя, меня, Диаволицу, люстру, что неистовым хрустальным маятником на метельном сквозняке качалась над нами, скособоченные парсуны на стенах, рвущиеся пламена свечей в чугунных шандалах. Заорали! Руками в воздухе заполоскали, как безумные еноты над корытом! Пытались криками рот Царю заткнуть! Не тут-то было. Возвысил Царь голос. Последние силёнки в кулак собрал. Я видел, он не перестанет говорить.
Он должен был сейчас всё сказать. До дна. До капли крови.
До последней правды.
- Да! Василий! Они все предали меня. Измена!.. А ты, ты вот здесь, предо мной... ты... ты... меня... не предашь?!..
И мне надо было сказать правду.
Шагнул я шаг, пот тёк по лицу моему, кулаки сжимались в судороге, ты всё видела, и упала расстёгнутая, пропахшая порохом шинель с моих плеч.
- Царь! Если твоя истина ответит душе народа моего, я приму её с радостью, и во спасение народа моего и тебя, Царя народа моего, жизнь отдам. А если ты велишь мне не народ мой спасать, а единственно шкуру, Царь, твою, то прости, Царь, не обессудь, не буду я исполнять приказы твои! Не подчинюсь тебе! И такова правда моя, такова истина моя! На том стою! Я сын народа моего! Права Ксенья Блаженная, дочь народа моего: Цари сменяются, Царей забывают, Время зализывает раны и заметает снегами Царские могилы, а народ вечен, и его надобно воспевать, спасать, кормить и любить! Народ, вот мой Царь! А ты ведь не народом избран, Царь, ты есть наследная власть! Да, власть свята! Да, корона на тебе, и мантия на тебе, и скипетр в деснице твоей, и держава в шуйце твоей! Да ты, Царь, не Бог, ты всего лишь человек, как и я же, и наша дружба обернётся единоборством, и готов я хоть сейчас выйти на бой с тобой, ты-то меня однажды уже к смерти приговаривал, да запретил её Господь; Господь и теперь нашу битву запретит, ибо неравна она, разве могу я тебя, Царь, ударить, когда болен ты? Разве могу я тебя одною рукой к ногам моим положить, когда слаб и немощен ты?!
Молчание наполнило зал и стояло в зале, и пьяная чёрная вода молчанья плескалась у звёздной люстры, под лепным потолком.
Тихий хохот раздался. Хохотала рыжая Катерина.
- Ха, ха, ха!.. ох... Пожалел!.. Смилостивился!.. Дурак!.. Да ты убей его!.. Убей!.. Пока он немощен!.. Пока он слаб и слеп!.. Пока никто из этих жиряг, дельцов, обманщиков, хватов, слышишь, никто не воспротивится тебе... если ты, ты поборешь его... и займёшь его место... Его! Место! Его! Царский! Трон! Ха, ха... ха...
Одиноко, мрачно звучал в тишине её вкрадчивый, отвратный хохот.
Царь сделал ко мне шаг, другой. Так, шаг за шагом, медленно, как во сне, подбрёл ко мне.
Я глядел ему в глаза. Он глядел мне в глаза.
Наши глаза звонко, железно ударились друг о друга.
Мы схватились глазами. Мы взглядами сражались.
И это было страшнее всего.
- Противостоишь мне, - прохрипел Царь, - всё равно противостоишь... а я думал, будешь помощник мне... будешь правая рука моя и левая пятка моя... а ты...
Глаз не опускал.
И я глаз не отводил.
И страшно мне было, и ни в каком танковом, диком бою, когда всё вокруг горит-пылает, мне не было так страшно.
Ксенья моя, а ты стояла там, далёко, у двери в зал, обводила взором пирующих, скользила небесными твоими очами по лицам сытым, наглым, по двойным и тройным подбородкам, по обнажённым шеям в жемчугах, по ёлочным игрушкам медалей и геройских звёзд, что звенели на болотных мундирах, снежных кителях, лацканах пиджаков и отворотах смокингов, ты зрела, как люди толкают в зубы кур и щук, как вливают в глотки херес и мадеру, коньяк и чачу, ты жалела их, ты сожалела, что они такие, ты безумным сердцем разделяла с ними их страдания и их наслажденья, что никогда в жизни не были твоей болью и твоими радостями, но ты искала к ним пути, вдыхала, вливала в них чувство твоё, кое им не надобно было, они обсосали бы его, как телячью косточку, отбросили бы вон от себя, швырнули под стол, под бархатную белую скатерть, Царским собакам! Ты поодаль стояла, Ксения, молча, и ты ждала, ты за них молилась, а превыше всего молилась ты за меня, чтобы я жив остался! Чтобы не был казнён прежде суждённой мне смерти!
- А ты... тоже... предал... меня... Царя твоего...
И не нашёлся я тут, не знал, что Царю ответить.
Он сказал мне его правду.
Я - в сердце - хранил мою.
И знал я непреложно: правда всегда одна.
- Приговор ли то твой мне, Царь?
Вопрос мой прозвучал под сводами нарядной палаты ударом палачьего топора о древняный кровавый спил. Вокруг стола стояли, кулаками потрясали, пьяно качались генералы, мажордомы, купцы, промышленники, путейцы, иереи, фрейлины, казначеи, густая нелепая толпа роскошно одетой знати. Их речи на миг вспыхнули и тут же угасли. И в тишине, где страх обнимался с ненавистью, раздался слабый голос Царя, и схватился он слабою рукою за спинку ближнего кресла, обитого кровавым бархатом:
- Ты танки в Москву привёл... армию твою, войско твоё... Зачем? Не взять ли власть мою вознамерился?.. Отвечай открыто... не таись... я ложь за версту чую...
Что мне было делать, Ксения? Что было делать всем нам?
Царская власть свята. Да правда святее.
- Да, Царь. Хотел тебя с трона скинуть. Власть твою забрать. Себе. И самому - народу служить.
Лицо Царя, бледное, иззелена-светлое, светящееся страхом близкой и неотвратимой смерти, плыло предо мной белой узкой лодкой, и глядел я на его подбородок, нынче без бороды, гладко выбритый, глядел на глаза без надежды, на веки без ресниц, на щель шевелящегося с натугой рта, что ронял не слова - горькие ветки полыни; и понимал я, что не должен быть говорить того, что сказал, но не зря же я проделал бесконечный, длиною в жизнь, путь по Аду, недаром же я здесь, среди Ада, среди военной Москвы, стоял и на Царя моего открыто, не таясь, глядел.
И был Царь нынче священник мой, и был я нынче исповедник его.
Так Господь положил нам.
- Но ведь это бунт, генерал!
- Бунт, мой Царь.
- Бунт наказуем! Я велю казнить тебя!
- Изволь, Царь. Однажды ты уже велел казнить меня. А я вот он я, пред тобой.
- Ты... ты!.. - Он захрипел. Дёрнул к себе кресло. Оно всеми четырьмя изогнутыми еловыми ножками со скрежетом и стоном поползло по навощенному паркету. - Бунтарь!.. Ты не только предал меня... ты... меня... мятежом твоим... убил... растоптал!..
И вдруг, Ксенья, не знаю, что со мною в сей момент сделалось, но я ощутил Царя, старого, седого, немощного, с залысинами, со слабой, жалкой улыбкой, и зубы во рту есть, а улыбнётся, вроде бы их и нет, так улыбка пуста и горька, - моим ребёнком, дитёнком, коего у меня никогда не было, не породил я дитя на свет Божий, только чужих, незнамых детей хоронил, а тут вдруг старый мой ребёнок стоит, чуть не падает, чуть не плачет, и это я, так получается, его глазами избил, его честностью моей поборол, его... самим собою, героем Войны, изничтожил! Так где же тогда моя надмiрная юродская слава! Значит, я стал по людским законам играть в людскую игру! Прельстила меня честь, прельстили победы на поле брани! Обольстил хитон спасителя народа в Зимней последней Войне, мысль соблазнила: а может, спасу мой народ, а может, Война-то не последняя! И забыл я Божию жалость, забыл себя голого, сидящего во площадном сугробе! И как медвежия шкура шевелится на моих плечах нагих! И как ясный взор в толпу вонзаю, и на Солнце могу и умею без боли глядеть!
Погляди на Царя твоего без боли. Без стыда. Сам себя устыдись. Перед Царём - покайся.
Я встал перед Царём на колени.
Сколько раз я так, смиряясь душой, на колени вставал пред любым человеком, распоследним самым, пред разбойником, нищим, торговцем обманным, бабёнкой-гадалкой картёжной, мальчонкой с куканом свежеизловленной в проруби рыбы, ясноглазым иереем, крестьянкой в лапоточках, вот так, так, не в пиршественном роскошном зале, а в снегу, в площадной метели, под тусклыми, мигающими в ночи масляными фонарями?..
Царь мёртвой хваткой вцепился в кресло.
Казацкая шапка золотого бархата свалилась с его головы и грянулась убитым зайцем о скользкий паркет.
- Я люблю тебя, Царь. Прости меня, Царь!
Я увидал: глаза его блеснули слезой. Я увидал это, Ксенья!
И вместе с тем блеском нежным, предательским, он вдруг весь подобрался, раненым зверем для последнего прыжка, и выкричал - мне ли, себе ли, придворным, ослепительной, страшной, многозвёздной зимней люстре под треснувшим потолком:
- Противостою тебе! Противостой мне! Сразимся! Не мышцами, не силушкой! Мыслью!
Как он станет со мной мыслью сражаться, подумал я изумлённо, а что, если мне до конца смириться перед ним, мне, мятежнику, не положить его на лопатки, а дать ему выиграть, не унизить его, а возвысить, и унизиться самому? Никто юрода и никогда не унизит; он сам ниже камня, ниже червя земляного, ниже ручья, по весне в реку спешащего.
Стоя на коленях, я закрыл лицо ладонями.
- Бросай в меня копьё твоего великого ума, Царь!
Я не видел его глазами; видел сердцем. Мой старый ребёнок лик покривил, зубы старые, жёлтые оскалил, изрёк тихо, языком, как хмельной стрелец, заплетая:
- Вот затеял ты бунт, генерал. Танки на меня, твоего Царя, из Ада направил! Скажи открыто, чего ты хотел? Что задумал тяжёлого, страшного?! Неужели меня извести?! Со свету сжить?!
Я отнял руки от лица.
Только не отводить от него глаз. Глаз только не отводить.
- Я хотел изменить Время, Царь. Согнуть его в руках, как подкову. На счастье. Перегнуть палку власти твоей и сломать. Всякому Царю своё Время. Съел ты своё Время, Царь, и выпил; могу и я на троне твоём послужить народу, и любой другой, в ком живут геройство и любовь.
- Я тоже люблю Родину мою! - запальчиво, хрипло крикнул Царь.
- А Ад? Ад ты, Царь, любишь?
Теперь он замолчал. Трясся всем телом, как в лихоманке. Не знал, что ответить.
- Ад... кто же его любит... пальцем не покажешь на такого безумца...
Шелка зашуршали. Бархат тяжело падал на пол морскими, солёно-горькими складками. Подошла Катерина, большими шагами, сердитыми. Вскинула голову. Косилась на меня злобно и насмешливо. Потом, сощурясь, как на Солнце, поглядела на жалкую, младенческую лысину Царя.
- Ну, давай, покажи пальцем, Царь! На меня! На невесту твою! Вот я люблю Ад! И не только люблю его, но и живу в нём! Каждую минуту! Каждую секунду! И покидать Ад не собираюсь! Ещё чего! Мне и там хорошо! Лучше не бывает!
Царь тряс губой. Бледнел, будто лик ему из мелкого решета посыпали толчёным мелом, китайской рисовой пудрой. На лютой белизне только глаза темнели - кругло, совино, мертвенно.
- Катеринушка... ты чего это... окстися... зачем ты так...
Она усмехалась уже открыто, презрительно стегала Царя чернотой зрачков, блестела зубами в хищной, торжествующей красной улыбке.
- Хочу и буду! Я - правду говорю! Вот он, - на меня указала, - правду говорит! И не боится! И я хочу! И ты - слушай! Нечего отворачиваться! И дрожать нечего! Будь воином! Вот юрод - он воин! Кто бы мог подумать! Он со мной по Аду шёл! Храбро! Бестрепетно! Ни разу не застонал, взор пред ужасом не отпустил! А ты...
Царь силился выпрямить спину. Перекатывал желваки на мелово-белых скулах.
- А я... я всё жду тебя, красота моя... когда же ты... наконец... смилостивишься... соизволишь... ведь давно уже жду... целую жизнь жду... а ты... вон кто ты, оказывается... я и не знал...
- Его, - рыжекосая уткнула палец в коленопреклоненного меня, - вели казнить! Да не той казнью, коей раньше приказал! Он ведь вечен, юрод, он в крови полежит, встряхнётся да оживёт. Встанет да вперёд пойдёт! Он Богу молится лучше, горячей, чем ты! Но я сильнее. Против меня - никого! И это я, я...
Она сделала ещё шаг к Царю. Приблизила румяное, холёное лицо к его иззелена-бледному лику.
- Это я - Царица Ада! И это я - Зимняя Война! Я одна!
Тишина обрушилась на весь пиршественный зал, полный людей, и задавила его.
И блёсткая, громадная, хищная, звёздная люстра вспыхнула всеми хрусталями, прозрачными горящими горошинами, дрогнула и покачнулась, и стала дико, зверино раскачиваться на витом шнуре, и шнур оборвался, подобно ветхой пеньковой верёвке, и полетела люстра вниз, всё вниз и вниз, поплыла хрустальной рыбой, стала медленно, страшно падать на головы людей - и упала, и придавила мечущееся, жалкое, живое, и разбивалась на тысячи острых осколков, и летели осколки в глаза и во лбы, в ладони и груди нагие, и лилась и брызгала кровь, и орали люди заполошно, захлёбно, визжали на тонкой, высоченной ноте, визгом забираясь в потусторонние небесные сферы, и разломился праздничный стол надвое ледоходной льдиной, и из разлома повалила посуда и медная утварь, вёсла и грабли, полотенца и ковши, расквашенная в лепёшку еда, вино разливалось ручьями и сладкими лужами, кричали и пели далёкие, забытые голоса, весь расколотый Мiръ бесился и круговращался посреди взорванной Диаволицей пирушки, и всё сильнее дрожал бедный Царь, а я всё стоял на коленях, понимая - вот сейчас, именно сейчас, страстно и огненно, как никогда, я должен Богу молиться о том, чтобы ещё на кроху времён наш Мiръ был спасен; ну неужели, Бог, Ты его не спасёшь, ещё на мгновенье грешным нам не подаришь!
- Она - Война! Она - Война! - истошно кричали люди.
Показывали на рыжекосую пальцами, золотыми ложками, ножами, осколками бокалов и зеркал, махали на неё вышитыми полотенцами, швыряли в неё отломанные ножки кресел, разбитый фамильный фарфор салатниц и супниц.
- Она нас - счастья лишила!..
- Прежней жизни!.. Богатой, сытой!.. Отняла... отняла!..
- Владычица Ада!.. Двери Ада открыла - и радуется!..
- Убьём её, люди!.. Убьём её!..
Камзолы в крови. Кружева красны. Осколки тарелок звенят. Вино заливает щиколотки. Люди, сходя с ума, прилепляются плечами, локтями друг к другу, медленно движутся к спокойно, мертво стоящей среди зала Диаволице.
А она - ни с места. Глядит, как Царский народ идёт её убивать.
И смеётся, во весь намазюканный алой людоедской краской рот, во всё румяное лицо, во весь воздух вокруг неё, во всю её жизнь, до крохи посвященную Аду, - смеётся над этим несбыточным действом, хохочет над жалкими людьми, что вознамерились руку поднять на саму Диаволицу, владеющую жизнями и смертями и Адом всем; и есть у неё мечта - Раем владеть, и себе она давно шепчет: буду Раем владеть, и им - буду.
Люди доходили до невидимой черты на цветном паркете, спотыкались, скользили по плашкам блестящим, узорным, и падали. Носом в паркет. Носы разбивали. Юшка струилась по подбородкам, по крахмальным волнам жабо. Шли и падали, шли и падали; валились друг на друга, создавая из тел дёргающую ногами-руками, безумную живую гору. Отползали прочь. Стучали зубами, как на морозе. Кто мог креститься - крестились. Перекатывались с боку на бок. Изгибались в судорогах. Бочонками откатывались от места, где столбом, врытым в паркет, стояла Катерина.
- Колдунья... колдунья!.. Прочь!.. Спасайтесь... кто может... утекайте...
Громко, нагло и весело хохотала рыжекосая, сии картины наблюдая.
Ксенья! Где же ты!
Я оглянулся. И я тебя, родная, увидел. Ты шла ко мне по воздуху. Обозначилась в воздухе тропинка, и ты, раскинув руки, летела по ней, живой самолёт. Мой самолёт! Я узнал тебя. Серебряный мой, небесный крест, без веса, без земных вериг. Мiръ от тебя отлетал твоей мешковиной. Вот ты рядом. И руки раскинуты. Для объятья. Для Креста ли?! Хочешь, чтобы Господь меня - на тебе - живой - нищей - горячей - распял?! Согласен я! Обниму тебя! Убоится она! Твоя Война! Наша Война! Она в Мiръ подло влюблена! Да она ж без Бога, одна! Она ничья жена! Она вся выпита до дна! Она...
Ты подошла ко мне вплоть, и я встал с колен быстрее ветра, легче вздоха. Обнял тебя.
Здесь, среди воплей и разрушенья, в виду зелёных гибельных очей Диаволицы, здесь ли обниматься нам?!
Горячий шёпот твой. Близко. Над щекой. Над дрожащей душой.
- Не гляди в её сторону. Жди. Сейчас Царь тебе скажет...
Звон поплыл по залу, по дворцу, по мрамору застывших от ужаса лестниц.
Били старинные Царские часы. Наследные часы; их бой ещё Иоанн Грозный слушал, а до него Василий Тёмный, а до него Иван Калита, а до него...
Сквозь густой, тяжёлый, сумрачный звон донёсся слабый голос Царя; он словно бы звал на помощь.
- Ну что, бунтарь!.. Ты ли меня победил... я ли тебя... не ведаю... но я отпускаю тебя. Ступай с миромъ! Нет тебе запрета!.. Ни я, ни кто другой не может тебя посечь, за решётку кинуть, тайно выследить и умертвить, прилюдно, на месте Лобном, казнить!.. Никто... Смел ты... прям... крепок... юродство твоё тебе на пользу пошло... старая закалка, площадная, снежная... Снег тебя века бичевал - что тебе Царские мои бичи да плети?.. Живи!.. Уважил тебя. Не трону тебя... ещё и указ выпущу... чтобы никто... никто... не смел... тебя...
Голос оборвался. Царь смешно всплеснул руками и мешком упал на пол зала.
- И на него не гляди... Нельзя... Иди... Путь свободен...
От тебя, Ксенья моя, исходил жар, как от костра.
И повернулся я; и шёл я; к двери шагал или в небеса, на плаху ступал или в зенит, не знал я; но шёл, ибо ты так, любовь моя, приказала. Дошёл до дверей. Ни на кого не глядел. Ни на ползущих по паркету раненых людей; ни на раздавленную роскошью бедную жизнь; ни на упавшего среди зала моего Царя; ни на Катерину, она все хохотала и хохотала, заливая хохотом бездну. И лишь когда я переступил порог, я оглянулся.
На тебя, Блаженная моя.
На тебя, небесное, родимое счастье моё.
Счастье всегда безумно. И я, твой юрод-Медведь, хожу пред ним, радуясь ему, на задних лапах. Я готов кувыркаться пред тобой, любовь, реветь от радости, от боли, быть вместе зверем и Богом, огнём и мечом. У нас ещё будет счастье, Ксенья, так твердил я тебе, твердил себе, спускаясь по лестнице вниз, всё вниз и вниз, а душой взлетая в небеса. Я улечу отсюда. Далёко улечу. Отсюда не видно. Война прервётся. Она гнилая нить. Не вечна и Диаволица. Она все века жила на Земле, да, верно. Но всему приходит срок. Она умрёт. Умрёт, как все. Как я. Как ты. Мы с тобою не вечны, Ксения. И это чудо. Непорочное зачатие есть чудо, но и обычное зачатие тоже чудо; безсмертие есть чудо, но ведь и смерть, родная, тоже чудо.
Я вышел из Царского терема на волю. Улица разостлала предо мной искристый ковёр. Битые стекла, обломки кирпичей, сколы гранита, бетонные плиты. Пока гремел пир, налетели вражеские самолёты, взорвали дома и храм поблизости. Мои танки гудели вдалеке. Мои бойцы, будьте теперь, сироты, без меня. Я должен лететь. Я улечу. Меня никто не остановит.
Далёко горели огни. И близко горели огни.
Я подошёл к ближнему костру и протянул руки. Грел их над огнём.
- Огонь, - тихо сказал я ему, - спаси и сохрани Блаженную мою от беды и греха, от боли и обмана. Она гибели не боится. И я не боюсь. От смерти - не храни. Смерть, она вездесуща. Она придёт, когда пожелает.
Огонь мотнулся ближе ко мне, хотел меня обнять.
И я не отшатнулся.
Огонь обтёк меня красным ручьём, погладил по плечу, лизнул по-собачьи мне лицо, щеку. Я закрыл глаза. Слёзы бежали по щекам, а может, по земле, а может, по снегам, льдинам и буеракам. Я редко плакал. Плакать не хотел. Да огонь зверино, мощно обласкал меня, как черношкурный Медведь, мой отец, посреди колючей забытой тайги.
И плакал я по отцу, по матери, по лютому Времени, по любви твоей великой, моя Ксенья, по нескончаемой Зимней Войне, и шептал я себе солёными губами: я никогда не буду Русским Царём, но так я люблю великое, родное, священное Царство моё, и сделай милость, милый огонь, сотвори меня малым угольком, головёшкой в кострище твоём, да только на вечной, верной, кровной землице моей. Ни о чём больше не молю. Плачу и люблю.
ЗЛАТОЕ КЛЕЙМО С ИЗОБРАЖЕНИЕМ САМОЛЁТА, ЛЕТЯЩЕГО НАД АДОМ
Кто, как, когда отыскал ему летательный аппарат, с крыльями, разбросанными шире Большой Медведицы, с ослепительно блестевшим фюзеляжем, с вёрткими шасси, что, как нелепые цыплячьи ножонки, таинственно и смешно высовывались из разверстого серебряного брюха? С кем он говорил, придя на заштатный, странный аэродром в сиротских, пустынных полях близ горящей бесчисленными кострами Москвы? Он не запомнил людей в лицо. Запомнил лишь промасленные робы. Хриплые, кряхтящие голоса, ненужные клятвы, отдание чести, навытяжку стоят, выпячивают грудь, выгибают позвоночник, уважение надо ярко выказать, а генерал, он что, он разве приставит тебя за это к награде, да он, хоть и Царская шишка на ровном месте, а такой же человечек, как ты. Убитый Войной! Военной молью побитый!
Кто, зачем изгибал пред ним спину, пытался услужить ему, приятное сделать, на подносе - цыпленка табака поднести? В полёте, любезный генерал, вам опять жареную курятину подадут. Такие наши правила небесные. Да ведь Война; куры все перевелись; петухов всех сожрали; гусям всем, вот жалость, шеи свернули. Да в костёр, в костёр! В котёл, и баста!
Разрывы гремели. Война шла и шла, и кончаться не собиралась. Идя по Москве, созерцая ужас живой и мёртвый, он думал: ну, всё, устанут люди от смерти; ан нет, не уставали, только, творя её, распалялись от вида её все сильнее и злее. Он сквозь зубы бросал тем, в камуфляже, на аэродроме: неважно, добровольцы вы или воюете по контракту, вас Царское начальство всё равно построит в армейские ряды, вы станете государевой армией, а меня уж с вами не будет, и не спрашивайте, кто станет вами командовать! Не знаю я. Я могу придумать, враньём вас утешить. Да лучше и страшнее правды ничего нет на Божием свете. Крепитесь! Вам ещё воевать. Не любопытствуйте, куда лечу! Вам сей полёт не по плечу. Я слишком смел для Зимней Войны! И Царь больным зубом её, Адову кость, не смог разгрызть. Хоть очень хотел. А я ему в том не помог. Что? Говорите, Царь меня возненавидел? Возможно. Я допускаю всё! Допускаю даже то, о чем помыслить не мог ещё день, ещё миг назад!
Он шёл, переваливаясь в сапогах с налипшими комьями грязи, по лётному полю, щурился на самолёты и вертолёты, что то садились, то взлетали опасно и судорожно, дрожа лопастями, суетясь жужжащими оборотами железных винтов.
Я неудобен. Я неугоден. Я сам-то себе неугоден. Сам себя иной раз готов растерзать; покаяться в том, чего никогда не бывало. Человек человеку враг. Человек, глядя на человека, хочет, чтобы тот, другой, стал как он; и разъяряется, когда видит, что нет, не станет другой как он, и тогда хочет другого убить. Вот вам и причина Войны. Вот Диавольский путь. Злоба. Зависть. Ненависть. Месть. Война. А что после Войны?
- Генерал! Куда вы! Вот ваш самолёт!
Он остановился. Серебряную машину обтекал чистый холодный ветер. Рядом с небесной птицей он, в грязных сапогах, в шинели, заляпанной воском, глиной и кровью, в продярывленной пулями генеральской ушанке, сам себе казался метлой, коей дворники Москву метут; лопатой, коей они, ночные работники, снег скребут.
- Ясно!
- Трап спустили! Поднимайтесь! Там вас наши люди ждут!
Наши. Что такое наши? Сегодня наши, завтра чужие. Предатели. Сегодня преданные донельзя, а завтра тебя предадут. Предать - что это значит? Кому отдать? Передать? Богу? Преисподней?
Предайте меня огню. Я давеча ему, как Богу, молился.
Поднимаясь по трапу в самолёт, он видел слепые иллюминаторы, стекла отсвечивали кровью неба и снежными бинтами, обматывающими лётное поле.
Я улетаю. Всё внутри меня гудит. Я сам есмь самолёт. Раскину руки, и поминай как звали. Я прыгал однажды с колокольни Ивана Великого; привязал к рукам самодельные крылья и прыгнул. Эх, красота! Крылья сам сварганил: из бумазеи, льняного полотна, рыбьего клея, гнутых деревяшек, отрубленных куриных лап, рыбацкой сети. Долго делал. Все смеялись надо мной, пальцами по лбу стучали: безумец! дурачок! юрод! полоумный! Куда рыпаешься! Пошто с жиру бесишься! С колокольни он, видишь ли, прыгнет; жить надоело?!
И прыгнул... и летел... и внизу стоял мелкий, дрожащий народец, черные букашки-людишки, мои родные, безмерно любимые люди, и орали они наперебой, и пальцами в меня, летящего, тыкали, и бабы визжали, и ребятня смеялась заливисто, громко... Юрод!.. Юрод!.. Глядите-ка, Васька-то из сельца у гольца - вниз сиганул!.. Сейчас, глядь, разобьётся!..
Я не разбился.
А может, разбился. Я не помню.
- Проходите, товарищ генерал!.. Самолёт пустой... выбирайте кресло, какое хотите...
Василий наклонился, чтобы войти в овальный, в виде яйца, дверной проём.
Чернота. Какая тьма. Вступаю во тьму. Ныряю во тьму. А что за ней?
Девушка в пилотке улыбалась навстречу ему, словно век его не видала, и вот встретились, наконец-то. Девушка скуластая, румянец во всю щеку, на плакате старинном нарисованная, слишком смешливая, улыбка сверкающая, а кудерьки на висках седые.
На Войне близких потеряла. От горя поседела. А может, в плен попала. Пытали.
- Не пустой. Мы ведь с тобой тут, милая, полетим. А ещё летчики. Первый пилот, второй пилот. Всё как надо.
- Так точно!
- А если самолёт наш вдруг падать будет - ты посадить его сумеешь? Обучена?
Девушка покраснела ягодой малины.
- Так точно, товарищ генерал!
Василий засмеялся - так хорошо, готовно и светло она выпаливала это армейское "так точно".
- Тогда я спокоен!
Счастливица. Она не знает ничего о болезни Царя. О торжестве Диаволицы. О бесконечности Зимней Войны. Ей кажется, Война ещё немного погремит и закончится: завтра, послезавтра, через месяц, через год. Она не понимает: есть вечность. И с ней шутки плохи.
Он плотней уселся в кресло и откинулся на мягкую спинку, и внезапно она стала твердой, железной - самолёт сдвинулся с места и почти мгновенно набрал скорость отрыва, Василий не заметил, когда он отделился от земли и стал упорно, неуёмно набирать высоту. Юрод глядел вниз. Всё вниз и вниз. Чернозём. Белые полосы грязного снега. Больничная марля небесных бинтов вдоль и поперёк по израненной земле. Стонет земля, да всем на её стоны плевать. Реки мёрзнут, дрожат. Кричат столбы, визжат туго натянутые, смертельно обвисшие под ветром провода. Руины, руины повсюду; руины застилают черноту, заслоняют деревья и косогоры. Бывшие храмы. Бывшие риги. Бывшие овины. Бывшие подворья. Бывшие бараки. Бывшие колодцы, водопроводы, водонапорные башни. Жизнь бывшая, она так быстро и незаметно перестала быть сиюминутной. Зачем человеку прошлое? Чтобы он на него любовался?
Пусть меня Царь обвиняет в чём угодно. Царю я неподсуден. Только Богу. Никакая земная власть теперь не вольна надо мной. Куда я лечу? Сам себе я запрещаю об этом говорить. Пусть даже для меня самого это останется тайной. Танки мои! Война моя! Виню ли я себя в том, что воевал в Аду? Что вёл вас, бедные бойцы мои, через Ад? Простите мне. Не я выдумал законы Войны. Они помимо меня живы. Я всего лишь юрод. И сейчас полечу туда, где никто из вас ещё не бывал и о том не слыхал.
Самолёт неуклонно поднимался, всё вверх и вверх.
Он летел над Адом.
***
Ад самодержавный. Ад в Царской мантии снежной.
Горностай тайги. Ожерелья дорог.
Трупы на дорогах, мёрзлые, обледенелые человечьи брёвна.
Живые карабкаются, ногтями цепляют землю. Землю едят, с голоду умирая.
Ад, а где же Бог? А Бог в другую сторону летит. На другом самолёте.
Земля расстилалась под ним, самолёт набирал высоту неуклонно, могуче. Василий не хотел смотреть на Ад, но смотрел, смотрел в иллюминатор. Тучи тоже плыли Адовы, мрачные, цвета нефти. Летательная машина пронзила слои туч и вырвалась на свет, к Солнцу. Ад просвечивал внизу живо, горячо льющейся кровью. Где кровь, где земля? Они крепко обнимались. И, чем выше поднимался самолёт с генералом внутри, тем яснее виделась ему отсюда, с неимоверного верха, дорога вниз, всё вниз и вниз, кругами, чёрной спиралью: в глубокую воронку уходила дорога, а земля разевалась медвежьей пастью, драконьим чёрно-красным зевом, яминой без дна - могилой, где захоронено будет Время, когда и ему выйдет срок.
Василий видел отсюда, сверху, его бойцов. Танки шли, и шли, и шли, танкам не видно было конца - новеньким и обгорелым в битвах, зачехлённым и железно-голым, покрытым иероглифами дерзких надписей и полудетских рисунков и напрочь закрашенных нефтяной, земляной краской. Железо и земля. Так заповедано. А Война, что, Война заповедана тоже?
Господи, ответь, Твой ли Крест Война? Может, она не наказанье человеку, а награда Твоя? Чтобы не умирали мы, хрипя бессильно, в сиротьей постели, на буранных площадях близ дико орущей зазывные частушки рыжей торговки, а погибали с честью, со славой, в неравном бою, обливаясь кровью и Тебе молясь, - героями?
Танковые клинья шли, и шли, и шли, забивались глубоко во вражий тыл. Генерал не знал, не понимал, наступление проводить он сам приказал или танки, суровые танки всё сами решили. За него. Без него. Все знают: он улетел. Им Господь сообщил. Или Диаволица. Теперь уже всё равно.
Куда я лечу? Свою ли медвежью шкуру спасаю?
Или мне дано Ад сверху увидеть напоследок, прежде чем я в него, на самое его дно, молча спущусь?
Переплетенье тел. Круговращенье тел. Живые обнимаются с мертвецами. Тела небесным колесом крутятся вокруг чёрного бездонного зрака, Всевидящего Ока. Ксенья говорила ему про сей Небесный Глаз. Он не верил. Вот - увидел. В чёрном Космосе есть множество неизречённых тайн; и вот Всезрячее Око, оно тебя пронзает, оно втягивает тебя в себя, не отвертишься, и самолёт твой летит именно туда, в эту круглую чёрную пропасть.
Яма под летящим самолётом разверзалась всё шире и глубже. По земному кругу, над ямой, трепыхался на ветру голый тощий берёзовый лесок. Ветер гнул и ломал жалкие тонкие стволы. Берёзы валились наземь, как от взрывной волны.
Первый круг. Там слепые бессильно орут. Насильники там грудь себе царапают, и ногти их отросли подобно зверьим когтям, и с губ их капает красная слюна: повыбили им зубы, исхлестали по щекам, а кто, и имён не запомнили. Второй круг. Лети, машина! Куда бы ты ни полетел, ловкий гладкий самолёт, а всё равно все, уходящие вглубь страданья, круги видно! Сладострастники хохочут, а пламя лижет им ступни, а топор воздымается, и палач отрубает запястья: не погладишь теперь ласковыми пальцами ни щеку, ни уста. Третий круг, третий! Мы не преступники! Мы просто люди, люди! Василий глядел вниз, и видел, как люди плачут кровью, и по его впалым, заросшим густой бородою щекам тоже стекали красные крупные капли. Не плачьте! Мне так же больно, как вам! Так же томно! Дико! Дурно! Отчаянно! Страшно!
Самолёт летел вперёд стремительно, и всё никак не мог миновать яму, уходящую к центру Земли, узкую воронку предвечной могилы, словно бы ползла яма за самолётом по земле, так и подсовывалась ему под брюхо, и не мог юрод оторвать взора от воронки, круглой, так похожей на небесное Око Всевидящее: так земля чёрным зерцалом небо отражала, так земля изнутри на него, на полёт его глядела, так, чёрный круглый рот раскрыв, безголосо, страшно ему пела, последний псалом, последний кондак, так чёрною сетью рыболовецкой снизу вверх взмывала, на него надвигалась, и то правда, поймать, поймать Аду насовсем надо свободную серебряную железную рыбу, с этим дерзким, вольным безумцем внутри! Раз и навсегда поймать! Ещё немного... ещё изловчиться... ещё...
Четвёртый круг, пятый... шестой... кто там мучится... кто вопит и стонет? Он глядел, да уже не видел. Радужки заволакивало пеленой слёз. Вот бы из парчи слёз пошить мафорий. Облаченье иерея не из муара, не из атласа, не из кокетливой тафты и густо надушенного гипюра - из слёз полночных, из вздохов нежных и тяжких, из бормотанья просящего, потаённого: Господи, оставь мне жизни любимых моих... Господи, не покинь!..
Круг седьмой. Будь со мной. Ангел вострубил. Кровь разбросала великие щупальца-реки, речушки, речонки вширь по угольной, высеребренной жёстким льдом, смиренной земле. Земля свыклась с Адом. Земля его родная, глядишь, и мыслит вся, всеми слоями своими: я и есть Ад, что людям его в подземье искать; он везде, на поверхности он, на дне реки он, под камнем он, дома от взрыва падают, распадаются на куски, разламываются чёрствым хлебом, бетонным ситным, деревянным ржаным, - не уйду, шепчет земля, от Ада, он мой Царь, склонюсь к ногам его и испрошу прощенья у него, за всё, что я, земля, и люди мои содеяли, чая достигнуть Рая, за долгие века.
Выше забирал самолёт! Круг восьмой разверзался. Там воры и убийцы обнимались с праведниками и святыми. Всё по заповеди Господней там случалось: прощали святые грешникам грехи, и плакали бедные, исстрадавшиеся грешники у них на груди. А кто раньше не раскаялся, не сумел, не хотел, - сейчас, выстанывая ужас, скрипя зубами, вопя от боли, на коленях полз к тем, кто от судьбы не отказался. И от Бога не отвернулся. И в язык родной смачно не плюнул. И, когда предлагали веру сменить, крепко на земле стоял, говоря так: никогда! Бог мой - со мной, в радости, и в горе, и в смерти самой! И убивал враг верного вере своей. А теперь грешник тот, убийца, что глотку верующему во Христа перерезал, на животе, на локтях, землю пятернёю цепляя, полз к праведнику тому: прости!
Ползла яма, выбрасывая вперёд и назад кровавые щупальца, в тени самолёта, стремившего бег в небе. Василий вцепился в подлокотники кресла. Что там, в глубокой густой, непроглядной тьме круга девятого и последнего? Что - на Адовом дне? И есть ли оно, Ада дно? Может, ещё ниже и глубже уходит ямина, и тонут там все мысли, чувства человека и зверя, гаснет в последней тьме всё, что мы лелеем и любим, проваливается и летит в бездонье не только тело, кувыркаясь в разъятом пространстве, но и душа, душа?
Душа...
Василий судорожно, больно цапнул себя рукой за грудь. Где она, душа? Где гнездится птица? Тут? Вот тут?.. Под ребром... почуять нутром...
Он щупал себя, распахнув китель, за грудь под гимнастёркой, рвал гимнастёрки ворот, царапал погоны, хватал себя за шею, за кадык, утопали его худые пальцы в мохнатой медвежьей бороде, он пытался нащупать вместилище души, последнее её прибежище, где же, где, гимнастёрка горела под ладонью, пуговицы разлетались, катились по полу самолёта, а ведь пол сей запросто, через миг, станет потолком, всё же перевернется, и пикнуть не успеешь, и это ты, да, ты упадёшь, свалишься в девятый круг, в последний круг, он разомкнулся под тобой, он ждёт тебя, и ты не отвертишься, тебе суждено, ну разве можно побороть судьбу, всё же письменами на роду написано, ты же помнишь, медвежий ребёнок, толстую, в телячьей коже, великую Книгу Песен под образами в избе, около неё все так же горят толстые, с конскую ногу, медовые витые свечи, да, две таёжных свечи, величиною с добрую лапу медвежью, твоя мать, Марина, сама из пчелиного воска их намедни слепила, сама фитили из конского волоса в их сердцевины воткнула, сама громадной спичкой по синей коробке долго чиркала, чтобы возжечь. А ты стоял и смотрел, малец. Рот разинут. Глаза светятся аквамаринами. В таёжной речонке сии самоцветы мать нашла. Лесушко бажоный, спасибо тебе, нас, грешных, возрадовал, меня и сыночка моего, медвежонка возлюбленного, уж распотешил! Век не забудем! Век помнить будем!
Он упёрся взглядом в чёрную дыру, что расширялась на дне воронки, под девятым, самым слёзным, обречённым кругом, и сердце его замолкло, потом дрогнуло, потом дико, быстро застучало. Сотни, тысячи молоточков выбивали под рёбрами дробь. Его бойцы работали оловянными солдатами, пребывали забытыми, без роду-племени, полковыми музыкантами. Не останавливайся, шепнул он самолёту, только лети, не бросайте штурвал, что бы ни случилось, шептал он лётчикам, да никто его не слышал, самолёт летел все так же уверенно, гудение царило в заоблачном холоде, предвещая битву, а потом невероятное замирение, в подлинный, навечный миръ уже никто не верил, может быть, лишь далёкий умирающий Царь краем сознания, краем неизжитой любви ещё верил в него.
Я помню каждый солдатский крик. Каждый предсмертный хрип. Каждого убитого. А они, они помнят меня на небесах. Я знаю. Враг думает, самолёт летит бомбить его города, а это просто со мной внутри летит железный крылатый бочонок, и я даже не спросил первого пилота, куда. Что надобно мне? Выждать в тылу? Накопить силёнок? Занять оборонные рубежи? Накричать на виноватых подчинённых? А если не виноваты они? Мои танкисты! Я люблю вас! Я никому не дам вас в обиду. И даже себе не дам.
Чёрная яма поднялась ужасом над землёй. Надвигалась. Летела по ледяному ветру угольным диском. Война гремит. Падают, бьются друг с другом люди. Бойцы одной земли. Бойцы другой земли. А земля-то одна. А жизнь одна. И Ад один. Да ведь и Рай один.
А где, где тот Рай? Сколь веков прожил я, медвежий Блаженный, на землице, а вот до Рая не дошёл. Так и не увидал Рай. Да так и не увижу. А жаль. Красивый он, должно быть, Рай. Яблоки там... мандарины... смоквы сладкие... виноград висит тяжёлыми гроздьями, разноцветный... медовый, золотой, рубиновый, синий... и звери, да, там гуляют звери, на воле, без оград и злобы, без кнутов и решёток... праздничные, ласковые... волки тебе башками о колени трутся... лисы хвостами ласкают... А там кто, гляди-ка, Медведица-мать!.. и вокруг неё медвежатки клубками по снежку катаются... и стоит рядом с ней моя мать, знахарка Марина, и руку зверице на загривок бесстрашно положила... и шерсть её чёрную, густую, как зимние иглы еловые, всё гладит, гладит, гладит...
А я, я - всё лечу и лечу...
Война. Хищница. Дай тебе волю, ты все пожрёшь. И косточки не оставишь, зубами чёрными смелешь. Война, а глаз твой - Луна. Луна синяя, мертвенная; Луна серебряная, ледяная; Луна кровавая, Красная, самая страшная, всеобщую гибель предвещающая.
Красная Луна вставала в небесах напротив Солнца. Солнце светило бешено, разъярённо. Красная Луна катилась с небес на землю, она понимала: ещё немного, и упадёт. Василий глядел на Красную Луну; он вспомнил Красную площадь, и пьяного Барму-зодчего, коему он будущее предсказал, а хмельной Барма ничуть тому не поверил. Верь не верь, а Время судьбы придёт! Тебя не спросит.
Красная смерть, вся покрыта красной пылью, серебряными опилками. Пыль хрустит под ногою Ангела. Овевает крыло самолёта. Рыжекосая тайга под крылом.
Меня никто не подаст на пиршественный нарядный стол на фарфоровом блюде. Никто не набьёт моё брюхо, как румяной утке, резаными яблоками. Никто, слышите, никто не нафарширует меня, как щуку, моими же потрохами.
Где он летел? Он не понимал. На обратной стороне Мiра? На теневой, неведомой лунной стороне? Небесная медаль на геройской груди то сверкала кровью, то мерцала могильной чернотой. Есть ли сознание там, в запределье?
Вот когда умрёшь, тогда и узнаешь.
Он закрыл глаза, но зрачки его огнём горели и веки насквозь прожигали, и он видел и с закрытыми глазами. Он видел душой. Самолёт летел. Но вроде как и не летел. Застыл. И всё внутри него застыло. Омертвело. Он не двигался. Пристегнуться ремнями безопасности забыл. А если самолёт будет падать? Ну будет и будет, так записано в растрёпанной, весом в пуд соли, материной Книге Судеб, в её последнем псалме. Он будет падать и упадёт в Иное Царство. Нынешний Царь до него не досягнёт. И никто из живущих. Славная ли это судьба?
Я не хочу умирать! Не хочу умирать!
Кто его слышал? А вот услышали же. Милая, с мордочкой хорошенькой таёжной лиски, небесная девушка подошла к нему, услужливо склонилась, а он с улыбкой глядел, как её хорошенькая, кокетливая коротенькая юбочка ползёт вверх, всё вверх и вверх по бедру, становясь всё смешней и короче.
- Вам что, генерал?.. Может, что-то подать?.. У нас есть коньяк... курочка к нему... ой нет, лучше всего, конечно, шоколадка...
- Ещё лучше лимон. Тонкий ломтик лимона.
Стюардесса засмущалась. Как хорошо, красиво она умела краснеть! Во всю щеку взбегал тёмный румянец, будто бы она только вбежала в самолёт с жестокого железного мороза, в мехах и козьей шали, или пред зеркалом ломтиком свежей свеклы скулы себе щедро намазала.
- Лимона... нет!.. Жаль, но вот нет... не захватили...
- Это ерунда. Неси коньяк и шоколадку.
Небесная девушка упорхнула и быстро прилетела снова, изогнув тонкую спину, поставила на откидной столик перед Василием маленький поднос; на нём стоял большой, круглый, как мяч, бокал коньяка и лежала крошечная, воробышку клюнуть, шоколадка.
Василий задумчиво развернул фантик, захрустел фольгой и вытащил шоколадку. Положил на ладонь. Поднёс на ладони стюардессе.
- Вот. Угощайся. Жаль, что у тебя крыльев нет.
Девушка взяла шоколад из руки генерала. Растерянно глядела. Шоколадка таяла в её руке, пачкая пальцы, пахла сладко.
- Каких... крыльев?..
Василий тихо рассмеялся.
- Обыкновенных. Таких, знаешь, больших, широких. Ангельских. А впрочем, кто тебя знает. Может, и есть. Только ты их скрываешь. Таишься. У хороших людей они есть. Они без них не могут жить. На земле крылья никому не нужны. Но, когда мы улетаем, они могут очень даже понадобиться.
Она разжала ладонь. Шоколадка вся растаяла. Василий взял её руку в свою, поднёс вымазанную шоколадом ладонь ко рту и вылизал всю её ладошку языком, как пёс.
Она вырвала руку и зарделась ещё пуще. Прижала ладони к щекам.
- Ой, ну какой вы...
- Выпьем! - Василий взял с подноса бокал. Грел его в ладони. - За победу!
- Ой, да, за победу...
- За любовь!
- Да... согласна...
- За тебя!
- Ой, ну что вы...
Он глотнул коньяка и протянул бокал стюардессе.
- На! Держи! Пей!
- Да я... да нет лучше...
- Это приказ!
Он подмигнул ей и накрутил прядь волос из длинной, безумной бороды себе на палец.
Глядел, как девушка пила коньяк. Глотала, боясь его, генерала, ослушаться.
- Ах...
Махала ладошкой вокруг рта: горечь, огонь по-детски утишала.
Василий вынул у неё из руки бокал и допил остатки. Самолёт гудел, летел.
Спокойно всё было вокруг.
И в небе, и на забинтованной лазаретным снегом земле.
Горели земные огни. Горели огни небесные.
Летели в самолёте девушка и генерал.
Выпили на счастье в Аду коньяка.
Может, она там, в иных веках, станет моей Ангелицей. Дева-Птица, я не забуду тебя. Ни теперь, ни тогда не забуду.
***
И они не поняли, как, зачем и когда раздался удар; мигнула молния, отнимая зрение; и разнёсся дикий треск, вынимая из черепа слух; и осталось ещё время для того, чтобы крикнуть совсем немного, очень мало слов друг другу, не лётчикам, далёко они ужасались содеянному, там, в пилотской кабине, быстро надо было кричать, напоследок, и не кричать, а хрипеть, а может, визжать, нет, конечно, шептать, и шёпот другой услышит, а может, тебя обнимет, прижмёт к себе, утешая, спасая, хоть и нельзя никого никому спасти.
Поднос с пустым бокалом и конфетной фольгой падал на пол. Мiръ кренился в иллюминаторах. Василий крепко, сильно, горячо обхватил длинными, костлявыми, сумасшедшими руками площадную побирушку. Они стояли на осколках стеклянного снега. На рынке все, торговцы, зеваки, ямщики, мимоходы, мальчонки-воришки вопили в голос.
- Падаем!.. Падаем!..
- Господи, да спаси-сохрани-помоги, святый Боже, святый крепкий... святый безсмертный... помилуй нас!..
- Держися, народ!.. Ведь завтра в поход!..
- Кренимся, валимся, людие... друг за дружку хватайся!.. так спасёмся!.. выдюжим так...
Он крепче вжимал в себя худенькое, жалко-нежное, рыбье-скелетное, дрожащее зимней веткой на ветру, девичье тело, тело смертное, мимолётное, незнакомое, и назавтра забудет, а ведь даже сегодня уже не будет, так что ж о завтрашнем дне речь бестолковую вести, самолёт валился и разваливался на куски, выдувало из него всё живое и мёртвое, они оба теряли сознание, но все ещё не потеряли, не выпускали из рук и из губ, их сердца толкались друг в друга, выбивая друг друга из грудной клетки, чтобы взамен страха туда, под рёбра, последнюю любовь и заботу впустить, и елозили руки их по спинам друг друга, её - по болотному кителю генеральскому, его - по форменному, суконному синему пиджачишке стюардессы, Ангельской официантки, да это ж лучшее, вкуснейшее застолье, милая, какое я, Царский повар, только видал и вкушал в жизни моей, ни за что и никогда, и в смерти самой, этот терпкий коньяк между небом и землёй не забуду, - и сорвал резкий ветер железный потолок у них над головой, и разорвал надвое, натрое, на множество кусков железную ткань, что защищала их в полёте от верной смерти среди звёзд, и разломился хлеб жизни, а они так и не успели отщипнуть от него по кусочку - белого хлеба, белого снега, белорыбицы, белого, пьяного вина из белого, зимнего винограда, вина Войны, вина последней клятвы, - и лётная девчонка, дрожа, обхватила генерала плотнее некуда, как жена мужа внутри свадебного камчатного, шёлкового света, и заорала недуром:
- Падаем! Генерал! Падаем!
И крикнул он ей в ответ, понимая, что не это бы надо ей выкричать, а нечто иное, но глотка крикнула сама, вылетело слово, излетел дух:
- Не падаем! Нет! Улетаем!
И лицо его возлюбленной Ксении, с закрытыми глазами, с улыбкою самозабвенной, глянуло на него вместо испуганного личика незнакомой девушки, и имени он её не знал, и не узнает никогда, а они уже летят в небесах, вольно и страшно, и ветер вырывает девчоночку у него из рук и несёт рядом, несёт поодаль, уносит, крутя в воздухе, и она кричит, а он не слышит крика, только видит разинутый в вопле рот, и улетает она, тает, исчезает.
А он один летит. Летит.
КТО ОДОЛЕЕТ
Диаволица всё рассчитала точно. Она хорошо видела цель. Надо было взорвать снаряд в небе впереди летящего самолёта. Прицельное устройство всё верно ей показало. Она улыбнулась. Изогнулись торжествующе красные, маслено-блёсткие губы. Она поднесла руку к спусковому крючку. Зенитная пушка замерла. Ждала. Отсвечивала облупившейся болотной, военной краской. Огонь!
Не успела поджечь древний порох.
Юродка выросла из-под земли, из крови и снегов, и схватила её за руку.
- Что ты тут делаешь, дрянь!
Диаволица плюнула Ксении в лицо.
Ксения продолжала крепко держать, отводя в сторону от пушки, её руку.
Катерина руку зверино вырывала. Обжигала Ксению злыми глазами.
- Сгинь-пропади!
Блаженная не исчезала. Не пропадала.
- Умри!
Она не умирала.
Две женщины боролись. Странная то была борьба. Стояла Блаженная, крепко за запястье Диаволицу схватив. Так вцепилась ей в руку, что пальцы в кожу, в плоть вдавились глубоко, как в спелое яблоко; и вот-вот закапает сок, испятнает снег под ногами. Катерина стояла, широко ноги раздвинув, как мужик, изо всех сил уперев их в мёрзлую, комковатую, застылую чёрную кашу вспаханной недавним боем земли. Ветер страшно, зло развевал власы обеих. Рвал рыжие, нагло-алые косы Диаволицы. Безумно, весело мешал их, спутывал с несущимися вдаль злато-седыми космами Юродивой. Слившись, летел по ветру длинный Космос кос обеих, волосы, женские долгие, бесконечные, мученические души, а ведь одна баба сейчас умрёт, а может, и другая, да наплевали они на смерть, одной важен меткий выстрел в небеса и гибель самолёта, другой - победа над злом, его Царством и яминой, Адом его.
Каждому да воздастся по делам его? По сердцу широкому его!
Ксения потянула Диаволицу на себя. Будто желала обнять. Поцеловать. Быстро поняла рыжекосая замысел Блаженной. Сейчас подтащит к себе, обеими руками обхватит, на снег повалит. Разгадали мы тебя, Божия тварь!
Крутанулась Катерина вокруг себя, упустила Ксенья её хищное, увертливое запястье. Упала на юродку грудью. Упала Блаженная на притоптанный снег. Лежала, раскинув распятые руки. Наступила Диаволица ногой на грудь Ксении, обнятую мешковиной, придавила её башмаком к земле жесточе, теснее. Стон вырвался птицей из Ксеньиной груди, вспорхнул из-под рёбер.
- Жалкая! - крикнула Катерина.
Стоя ногою на груди поверженной Ксении, опять протянула руку рыжекосая к болотному пусковому механизму. Нажала на спуск до отказа. Порох внутри железа возжёгся. Снаряд вылетел из пушечного жерла; машина рассчитала всё точно, обладая железным ледяным разумом, направила ракету прямо по курсу самолета - туда, вперёд, где железный крест слой воздуха ещё не пролетел; снаряд взорвался там, далёко, полетели осколки, вонзились в бока самолёта, поохотилась Диаволица удачно, свершилась месть, и обе женщины глядели в небо и видели: разломилась серебряная птица надвое, натрое, начетверицу, падал носом вниз фюзеляж, отрывались в полёте обломки и неслись быстрее вихря к земле, и, лежа распластанной на Адском снегу, видела Ксения, как летят в небесах люди, нет, Ангелы, нет, птицы, конечно, лишь людские у них руки и ноги, - вот синий цыплёночек, отроковица, пальцы ветер хватают: ветер, спаси!.. - вот лётчики, расстёгнуты кители, перекошены вольным паденьем упрямые лица; и увидала она его, единственного, юрода своего, сына медвежьего, сумасшедшего: раскинув руки, он летел, вверх ногами, вниз головой, в сером, набухшем снегом небе колесом кувыркаясь, летел вниз, всё вниз и вниз, а Ксенья глядела вверх, всё вверх и вверх, шепча: Господи, помоги!.. Господи, не покинь!.. - и услышала она торжествующий, безумный хохот рыжекосой, и придала ей силы волна любви, снегом поднявшаяся из врат души, и извернулась юродка, и схватила в обе руки голую белую щиколотку злодейки, и дёрнула на себя, и на неё, на распятую на снегу Ксению, Диаволица всей тяжестью упала.
Лежала на ней. Изругалась площадно. Ксения рванулась, выпросталась из-под Диаволицына тела, ухватила обе её руки с крашеными длинными ногтями и заломила ей за спину. Рыжекосая билась в злых судорогах. Ксения возила её лицом по снегу, по грязи.
- Ешь землю! Ешь снег! Ешь! Вот тебе свадебка твоя! Свадебный твой пир!
Катерина, валяясь на земле, тяжело обернула к Блаженной грязное, грозное, расцарапанное, тёмное от прихлынувшей крови, гнева и ужаса, и во злобе красивое лицо.
- Да я за вашего презренного Царя нарочно замуж иду! Чтобы, как час придёт, во время брачной ночи... его...
Ей не суждено было договорить. Блаженная, крепко держа её за руки, закинула голову к небу.
И видела она, как птицей летящий человек упал на родимую землю.
И приблизила Ксения захолодавшие губы ко грязной щеке Царской, Адской невесты поверженной, и внятно, раздельно, чеканя кровавые слоги, как Часослов читала, медленно ей сказала:
- Никого не убьёшь. Ни Царя. Ни слугу его верного, Василия-юрода. Нет им смерти. Рай их ждёт. Поджидает. И меня не убьёшь. Как ни старайся. Твоё место на земле занимаю? Ступай в твой Ад проклятый. А я на земле. Она - мой Рай. Я в Раю навсегда, и нет мне пути в твой Ад, назад. И век буду я, Дева-Птица, сидеть в Райском Саду на ветке яблони с золотыми яблоками, и петь песню. Богу. Зверям. Птицам. Рыбам. Людям. И даже тебе, Диаволица! Песню прощенья - тебе! Я-то тебя, презренная тварь, давно простила. Вставай! Ступай! Ненавистью себя украшай! Клевещи! Глумись! А я тебя простила. Нападай! Убивай! А я тебя простила. Хоть весь Ад на меня, всю Войну твою обрушь! А я тебя простила.
Разжала Ксения руки. Попятилась. Отступила. Руки разбросила, пальцы растопырила. Глядела, как медленно поднимается с земли изгвазданная в ледяной грязи Диаволица, как зелёной, змеиной ненавистью подземно горят её радужки.
Стояла перед Ксенией Катерина.
Стояла Ксения пред Катериной.
- Я тебя... всё равно найду!..
Ксения молчала.
Хрипы из груди Катерины выталкивались сами, комки грязи, трупы подстреленных в голод птиц, льдины, по осеннему теченью реки плывущие, как слёзы, в ледостав.
- Тебе... от меня... не уйти!..
Ксения молчала.
Теперь Катерина пятилась от неё. Шаг, ещё шаг, ещё шаг.
Ноги идут. Ноги идут. Вспять. Противусолонь. А глаза не уходят. Глаза сверлят, пробивают, простреливают, пригвождают. Глаза-пули. Глаза-гвозди. Глаза-проклятья.
- Убью тебя!.. И не приду воткнуть крик мой... во гроб твой... Так и истлеешь в лесу... в полях... и коршуны тело твоё... расклюют... Убью!..
Ксения молчала.
КОНДАКЪ, ГЛАСЪ ЧЕТВЁРТЫЙ:
Духомъ Божіимъ водимь, преблаженне Василіе, оттряслъ еси мірскій мятежъ, и житія треволненія возгнушался еси, и, совлекся одѣяній тлѣнныхъ и облекся въ ризу безстрастія, убѣжалъ еси ловленія льстиваго міродержца, и былъ еси страненъ во твоемъ языцѣ, и, паче земнаго богатства избравъ богатство небесное, увязлся еси вѣнцемъ терпѣнія. И нынѣ, преблаженне Василіе, моли Христа Бога о творящихъ святую память твою, да зовемъ ти: радуйся, преблаженне Василіе.

ФРЕСКА ПЯТАЯ. РАЙ НА ЗЕМЛЕ
Удивительно, что может сделать один луч солнца с душой человека!
Ф. М. Достоевский, "Униженные и оскорбленные"
(РИСУНОК В КНИГЕ ЖИЗНИ:
ПАДАЮЩИЙ С НЕБА НА ЗЕМЛЮ СОЛДАТ)
ПОЛЁТ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ
Он падал, а этого никто не видел.
Хлебопашец надавливал всем телом на плуг. Вчера здесь шел бой, и вспаханное поле утоптали солдатские сапоги, выутюжили грандиозные танки, ревущие чудища; разрытую землю усыпали отстрелянные гильзы, осколки снарядной амуниции, брошенные где попало ружья, копья, алебарды, пистолеты и пулемёты. Хлебопашцу важно было привести поле в порядок. Холодная весна, что и говорить. Надо растащить трупы, швырнуть их в кусты, в канавы при дороге; собрать смертоносное, никому уже не нужное железо, и тоже свалить его в кучу; а потом, потом запрячь в плуг тощего конягу, и так идти, идти вдоль по земле, и взрывать острым ржавым, гигантским клыком плуга чёрную мягкую, холодную, пахучую плоть. Чёрное, вечное тесто. А кто там летит в вышине - да это всё равно; может, картонную куклу кто из кабины вертолёта сбросил, а может, большая птица летит, журавль, цапля, дрофа: подранок, подбили.
Старуха на крыльце взорванной избы сидела, мотала клубок. Прищурясь, поглядела в небо. Ах, вот оно и зимнее солнышко! Тепло прибывает, и завтра будет ещё теплее. Погреются старые косточки. Зачем вы, злые люди, убили мою избу? Ну да Бог с вами. Война ведь идёт. Не убережёшься. Ах ты Господи, да кто ж это там стремглав по небу-то несётся? Не рассмотреть мне без очков! А очки-то разбил кот, вот шкода! Лапой с комода стряхнул, играл так, значит. Стекло вдребезги. И вот щурюсь, щурюсь теперь, да все никак не дощурюсь. Нету у зрачка силёнок. Мышей не ловит. Ах, котяра, придурок! Не дам ему нынче рыбы. Господи сил, да ведь это ж вроде как человечек летит! Солдат небес. Помстилось мне всё. Не выспалась я. Где тут выспишься, взорвана крыша, и ветер тепло уносит. Жрёт ветер тепло моё, как кот рыбёшку.
На берегу реки сидели два огольца, рыбалили. Удочки воткнули в холодный песок. Поплавки не дрожали. Один покуривал чинарик. Другой почёсывал себе локти сквозь залатанную рубашку. Где тулупчик мой? А холодненько! Вон твой тулупчик, я в него зимнее яблоко завернул! Рыба-то где, дружище? А рыба вся ушла в глубину! Войны боится! Эй, глянь, там кто-то летит! Где? А в небе! Да ну тебя! Розыгрыш! Брось ты шутить! Я не шучу. Только вот куда делся? А Солнце-то ослепительное какое! Ну уж меня ты не заставишь на Солнце глядеть. Уж лучше на поплавок! Давай, ну, дурак, тяни! Тяни же! Подсекай!
На краю поля поднялся на колени не мёртвый, раненый солдат. По лицу полосы крови. Полосы слёз. Стоит на коленях, колени в чернозём вдавливаются. В землю уходит. В земле тонет. Плачет. По родным солдатикам, по друзьям погибшим. С губ слизывает слёзы. Себя ощупывает: жив, да, жив, чудо какое. И буду жить! А может, не буду. Больно на ноги встать. Вот только так и могу стоять, на коленях. Да на землю глядеть. А лучше в небо. Ух ты! В небе-то кто-то летит! Это у меня от ран, от боли в глазах мельтешит. Брежу я. Сейчас землёй умоюсь. Ишь ты, летит, видишь, какая бредятина. Не верь сам себе, ты, слышишь. Нету там никого. Птица это летит, и крылья раскинула.
На крыльце взорванной избы девочка стояла. Тощая, личико в рыжих веснушках, платьишко порвано, землёй испачкано. Она от обстрела хоронилась в саду. Голые яблони дрожали всеми ветвями. Девочка сощурилась и закинула к Солнцу нежное лицо. Летит! Средь облаков! В лучах! Ей показалось. Да, конечно, ей показалось. Она сложила ладонь трубочкой, чтобы лучше рассмотреть, вела рукой-трубой-подзорной по небесам, по земле, по комьям чернозёма, по излучине реки. Голые яблони, сироты, стояли за ней, сторожили её. Из земли торчал железный хвост снаряда; носом аспид в землю вошёл, да не взорвался.
Всяк на земле делал своё дело. Старик волок санки, на санках лежал маленький детский гробик. Молодуха набирала из колодца воды погнутым снарядом, жестяным ведром. Бежали домой огольцы, один торжествующе поднимал выше головы кукан с насаженной на него жалкой плотвицей. Вязала старуха овечий носок. Стучали голые ветки яблонь друг об дружку. Звонил ещё живой колокол на далёкой мёртвой церкви. Пели горючие зимние птицы-синицы, ждали праздничных птиц весенних.
И никто не видел, как падал с неба на землю юрод, не спасли его самодельные крылья, Время, смеяся, его не спасло, не спасла его дальняя, непрерывная молитва Блаженной Ксении, задирал он, падая, ноги выше головы, раскидывал руки, весь Божий Мiръ напоследок пытаясь обнять, и Ад и Рай, и вырывалась сама из его груди, прежде чем он разобьётся о землю и превратится в кровавое тесто, детская колядка, так колядовали они с матерью его, Мариной, Царя-Медведя смышлёной женой, в сибирских горах, у гордых гольцов, гранитными вершинами звёздное полночное небо целующих, да, так ходили и пели ночью, во Христово Рождество, и так ласково было на душе, так ясно, чисто, морозно, звёздно, улыбчиво, празднично так, слёзно так, и текли по лицу хорошие слёзы, мать шептала: то Божии слёзы, слёзы радости, поплачь, сынок, - и утирала сии слёзки ему холодной покраснелой голой рукой, сдёрнув тёплую голицу, а голица падала и терялась в снегу, и он, малёк, её искал во сугробе, и находил, и протягивал матери, а Марина тоже плакала радостно, носом шмыгала, щёки солёные голицей отирала, и, взявшись за руки, шли они к ближней чернобрёвенной, мощной избе, и рты их во пенье широко разевались, и цветные ленты на корзинках по ветру развевались, и громко пели-голосили они любимую колядку, без страха без оглядки, он помнил слова, их петь так чисто, так сладко... не торопись, не спеши, ведь всё по порядку...
Коляда... коляда!..
Я красива, молода...
Держу за руку сынка,
А дорога далека...
Дайте, людие, вы нам,
Дайте Божиим ветрам,
Дайте Божиим звездам
Испечённый Божий храм!
Тесто-жавороночка...
В бархате робёночка...
Царского сыночка -
Уж такая ночка...
Пирожка подайте!
Без песни не скучайте!
Мы колядочку споём
С вами хором да вдвоём...
Вифлеемская звезда!..
Коляда... коляда...
Он, летя к земле, так ясно слышал эту колядку, что опять начал петь её - и пел, пока летел, и ему ничего боле не оставалось, как петь-голосить её, радостную, в Рождество Твое, Христе Божие, в его самого Рождество, да он и не мыслил, что у него оно будет такое: в полёте, в чистом безграничном небе, слёзном, солёном, у неба было солёное лицо, у него тоже, они с небом плакали и соприкасались лицами, прижимались щеками, холодной и горячей, и, стремительно летя к суждённой смерти своей, он пел во все горло, плача от безумной радости:
Коляда! Коляда!
Протекли рекой года!
Я дитёнок! Вот и мать!
Горя боле не сыскать!
Горя-боли не найти...
Крестик не сожму в горсти...
Нам несите из избы
Лук да жарены грибы!
Пули, слёзы да гробы...
Письма рваные судьбы...
Месяц выставил рога -
Неси кус пирога:
А начинка кровяна,
То пекла сама Война...
Нет, крикнул он сам себе, не нравится мне эта печальная колядка! Зачем всё про Войну да про Войну! Я другую спою! Счастливую! Вкусную! Сладкую! На всё Рождество пусть пирогом раскинется! Во весь стол земной, снежный! И мы разрежем тот пирог! Да, земля сама - тем белым, Царским столом будет! Под все наши яства сладчайшие - всем медвежьим, мощным боком ляжет! И вымечу я, Царский бессменный повар, на сей стол всё, чем богат наш Мiръ!
Вот, людие! Моя последняя колядка! Наша последняя заплатка!
На всём нашем дырявом Мiре, на последнем пире, так неохота вставать из-за стола - и сразу в бой, побудь же хоть немножко, человече, ты самим собой, ты же не Диавол, не Диаволица, ты не предатель-генерал, ты не в колесе спица, а ты просто летящая в небесех птица, тебе сие не снится, тебе - облаков напиться, тебе в объятьи с Богом слиться, вот в сей колядке, да, в ней одной, твоё счастье хранится...
Коляда!.. Коляда!..
Не состарься никогда!..
Ты, Медведь, хозяин мой,
Возвернися ты домой...
Ты, Медведица моя,
Обыми огнём меня!
Звёздной россыпью ночной
Воссияешь надо мной!..
Вот и Ксенья тут стоит,
И со мною голосит!
Просим-молим, люди, вас:
Дайте мяса про запас!
Дайте крошку сахарку,
Дайте зубчик чесноку!
Колобка румяный бок
И ватрушки завиток!
Дайте яблоко в Раю!
Я слезами оболью!..
Поднесите штоф вина -
Рождества любовь одна...
За здоровьишко попьём -
Ещё песенку споём!..
За дорогу, за версту -
Ещё Господу Христу...
Славься, Господи Христос!
На дворе трещит мороз!
Красны щёки, красен нос...
Снег не вижу я от слёз...
Люди, люди, путь далёк!
Наколядую пирог...
Ты на всех пирог ломи...
Ешь ты, Боже, меж людьми...
А потом с людями пой...
Наколядуем с Тобой...
Прочь ты, горе!.. прочь, беда...
Коляда... коляда...
Он пел колядку до тех пор, пока земля не расступилась и не обняла его.
Боль была такой сильной, что он не почувствовал боли.
...и никто, никто на всей земле не видел, как он упал.
СЛЕПОЙ ЦАРЬ
Так ты, любименький мой, и не видал со твоих небес, как я мой Ад перебегала. Вкось-наискось! Бегу и думаю: а ведь не добегу! А по правую рученьку мою - Ад, и по левую рученьку мою - Ад, и нет дороги назад! Надо мужества набраться, ну и я набралась. Стойкости преисполняться! Ну я и преисполнилась! А как, не знаю! Бегу и гляжу: снежное поле без конца без краю, а посреди поля - люди лежат. И вражины, и наши. А где наши? Где вражины? Все бездыханные. И я всё поле, веришь ли, обошла пешком-босиком, над каждым павшим в бою склонилась, каждому литию спела как могла! И молитовку прочитала заупокойную - как уж сумела! Господи, шепчу, Ты их во Царствии Твоём не забудь! Не покинь! Притисни к Себе, пригрудь! Матерь Твоя пускай будет им Мать, Ты станешь им всем Небесный Отец! Пройдут века. Ведь, как надо, пройдут. И явятся новые люди на Землю. Забудут они, из-за чего распря та великая случилась, Зимняя наша Война! Ох, что это я: а может, крепко помнить будут. Злобно челюсти сжимать. Слова ненависти повторять.
Ах, если это так, драгоценный мой, зачем же я тогда, Блаженная, на белом снежном свете жила?
Зачем ты, возлюбленный мой, Василий-нагоходец, жил?
Б
егу и помышляю: а долго ли ещё бежать-то?! Дорога, это ж мёртвая петля! Лентие такое колдовское, начало с обрывом возьмут да склеятся у тебя на глазах. И вроде ты тут была и видала всё в округе, а вроде бы и не бывала никогда. Неузнаваемо всё. Там, где дубы мощные, Царские стояли-шумели, теперь обломки бомб разбросаны. Где терема слюдяными стёклышками нежно блестели, и кони пред теремами ходили-паслись на травушке молодой, нынче мёртвые танки горами железа горбятся: а среди руин, по мёрзлой земле, ручей журчит, оттепель нахлынула. Плачет земля ручьём. Точит слезу. А мне плакать некогда, родной. Мне - надо - бежать!
И вот бегу. И добегу. Я босая, мне легко. И что ты думаешь? Господь-то помог мне! Глаз скосила, а за плечом - крыло распахнуто! И за другим - крыло на Солнце перьями горит! Бегу, а ну как и взлечу! И взлетаю, вообрази. И - лечу. Земля уходит из-под ног! Так ведь оно и бывает, во счастье! Счастлива. Лечу. В облаке отражаюсь, инда в зерцале. Вижу мой призрак, а себя не вижу. Не различаю! Нет теперь меня. Есть Дева-Птица, и она летит, ножки устали, Бог ей крылышки подарил. Ну, теперь столицы нашей и Царского дворца досягну без труда. Распластала крылья по ветру! Держит ветер меня! И руки раскинула! И впору песню запеть!
Милый мой, нагой на снегу юрод мой, ты ведь там, в Первопрестольном граде, ждёшь меня. А я не тебя пойду искать. Ты сам меня найдёшь! По свету, по Солнцу... по моей песне. Далёко песня разнесётся. Подлетаю к Москве, а кругом грохочет! Залпы здесь, залпы там! Канонада нескончаемая! Война идёт. И мы идём. Вместе с ней, в ногу идём. Внутрь неё идём. Пробираемся в её чащобе железной. Многие не выныривают из железных стволов, из металлических веток. Оступаются на скользких, в крови, корнях, из земли рёбрами торчащих. Где наши деревеньки? Где Алтуфьево, Раменское, Обираловка, Коломенское? Всё разрушено. В сколы разбито. В лоскутья разорвано. Не сшить. Не собрать. Только мимо лететь, над ними, несчастными, и плакать, плакать.
И вон они, крыши теремные! Вон и Кремль, превыше жизни возлюблен, красный, кровавый! Вон Иван Великий гусью шею ко звездам голодно вытянул! Да, постреляли в них, в исконные наши камни! Порушили стены, зубцы поломали! Да всё стоят! Стоят! А погибнут лишь тогда, когда бездонный неведомый Космос пасть многозвёздную жадноразинет - да на обед всю нашу Землю и пожрёт разом. Его трапеза; наша могила. А мы-то мыслим - вечно живём! Ползаем по разделанному мясу материков, разрезаем хлеб океана! Кремль, как же тебя ненавидят толпища, полчища людей: скуластых, чёрных, жёлтых, морских, болотных, песочных! О тебе едва слыхали, а уже на тебя держат зло! А ты, Кремль, повенчанный с вечностью, Большой русской Медведицей коронованный, терпи, да заране всем зло прости. Как раньше прощал. Эй, Царь! Небось не видишь меня, Деву-Птицу, твою Ангелицу, а я вот она, подлетаю к тебе! А я тебя вижу: стоишь по дворе у крепко вбитого в землицу острого кола, да на колу мотается на ветру - бородою - мочало, да начинай, Ксенья, песню сначала!
Башку задрал... бородёнку твою ветер сейчас по волоску повыдерет...
Снижаюсь... во крыльях ветер горестно шумит... не желает меня ветер от себя отпускать... полюбилась я ему, пока летела, пока держал он меня на руках...
О землю ногами толкнулась. Не устояла, упала. Поднялась, от грязи отряхнулась. Огляделась.
Все размётано. Разбросано. По Царскому двору ещё живой кот колобродит, чёрный, ночной, тощий как веник-голик. Мяукает пронзительно. Душу вынимает. Там и сям мертвецы валяются. Никто не хоронит. Нынче погибли, недавно. В воздухе порохом ещё пахнет, слабо и жутко: прилетели враги, сбросили смерть, улетели. Дверь во терем распахнута настежь. Заходи не хочу. Воруй сокровища Царские! Поднимаюсь по ступеням крыльца. Крылья за собой волоку. На земле-то тяжёленькие они. Надо терпеть. Не все их узрят.
Не всем внятна и близка будет тяжесть моя, кою всю жизнь таскаю-ношу.
Близ открытой двери обернулась. Крикнула:
- Эгей! Царю мой! Узри меня! Принимай гостьюшку!
Лопата седой бороды Царской дрогнула, в мою сторону повернулась.
Царь, хватаясь за обгорелые ветки деревьев, медленно, трудно побрел к заснеженному крыльцу. Тяжело взбирался по лестнице. Шумно, с присвистом, дышал. Оказался рядом со мной; уткнулся слепнущими глазами в мои всезрячие глаза.
Он чуял жар, от меня исходящий.
- Я ослеп, да голос узнал. Юродка?.. та, босоножка... с Василием моим всё по снегам таскалась?.. Да?..
- Да.
- Выжила на Войне?.. если ранили, лекарю моему скажу... перевяжет...
- Ранена, да, да раны заросли, Царь. Как на собаке, на мне всё заживает.
- Ты не собака... не собака...
- А что, Царь, худого в собаке? Чудесный зверь, Божия тварь. Подруженька человечья. Бродячую, грязненькую - приголубь, приручи, отмой! Дай кров ей. Дай пищу и питьё. И другом собака тебе станет вовеки. А коли ударишь её ногой, прогонишь прочь - так тебя, времячко просвистит, тоже вот так же ногою двинут в бок, тоже погонят в три шеи!
- То правда... правда...
- Веди, Царь, в палаты твои! Замёрзла я! Да прикажи к столу вина хорошего, вкусных яств подать! Верю, верю я в твои подвалы-закрома!
Я сама взяла его, завтра слепого, за руку. И повела.
Знала я все ходы-выходы во дворце; сама привела его в тот зал, где завсегда свита его с ним пировала. Подвела его, через весь пустой холодный воздух, к его Царскому застольному трону. Усадила заботливо. Хлопнул Царь в ладоши. На слабый, чуть слышный хлопок его выползли из углов люди, мной не замеченные. Похожие на бродячих котов, кошек, обессиленных удавов, хилых некормленых кроликов. Люди на четвереньках ползли к голому, без скатерти, пиршественному столу. Царь прохрипел:
- А подать сюда... наилучшие блюда... наизнатнейшие...
Люди с трудом поднялись с корточек, с четверенек. Побежали, качаясь пьяно. Возвернулись, неся в руках тарелки, котлы и кастрюли. Разложили по немытым, с засохшей едою, тарелкам и мискам похлёбку из медных гильз со ржавыми дубовыми листьями. Филейку из облепленного клейстером жмыха. Отбивные из тощих ящериц, меж поленьями в дровянике пойманных. Жареные осколки снарядов, украшенные ледяными фигурами. Запечённого прямо в перьях больного голубя, а на мёртвой лапке кольцо почтовое, куда-то летел, бедняга, с весточкой спешил. Речные перловицы, наподобие устриц, сбрызнутые чистым медицинским спиртом. Аптеку разбомбили, канистру спирта под завалами отыскали. Гато из корявых, подгнивших яблок-дичков, на задах во дворах собранных.
И на последнее лакомство подана была длинная, страшная, с дикими стальными плавниками, с неба на землю нырнувшая рыба вражьего снаряда. Прилетел, да не разорвался. Повара, крестясь и молясь, насилу приготовили.
Любимый мой, я глядела на всё это великолепие и не знала, с чего начать. А вилок, ложек да ножей не было и в помине, и я понимала, все угощенья надо брать с тарелок руками и грызть, урча по-зверьи, по-волчьи, по-собачьи, и облизывать пальцы, и радоваться, что тебя самоё не изловили, не накинули на тебя сеть, не отнесли, бьющуюся в сетке и орущую недуром, на кухню, и там не засунули в печь, не насадили над безумным огнём на вертел.
- Царь! - Я взяла в руки гнилое Райское яблочко, положила его на ладонь и глядела на него, как на драгоценный рубин из Царской короны. - Думаешь, зачем я к тебе явилась, могучий Царь?
Глаза Царя, затянутые пепельными, паутинными бельмами, отсвечивали старым зелёным смарагдом из египетских копей.
- Не знаю... не ведаю...
Я улыбнулась.
- Всё-то ты ведаешь. Всё знаешь. А лишь притворяешься невеждой. Мудрый Царь, тогда догадайся!.. И догадаться не хочешь. Лень тебе. Слеп ты. В лицо догадку мою, красавицу, не видишь. Так я тебе сама её скажу. Я прилетела к тебе, Царь, с полей Зимней Войны, чтобы ты, Царь, уж прости, Царь, за великую, первую и последнюю просьбишку мою, одним мановением владычной руки твоей - остановил Войну! Да не прошу я! Требую. Слышишь ли, Царь?!
Я видела - он слышал.
Ослеп он, но ещё не оглох.
И я последней музыкой, всем голосом последней любви на сердце-дудке, на рёбрах-гусельках играла перед ним.
- Не молчи! Услыхать всё что угодно хочу! Согласие! Гнев! Отказ! Вели твоим змеям подползти и казнить меня, ежели не по нраву тебе просьба моя! Да сыта Земля уже по горло вечною Зимней Войной! Сыта, Царь! Ты святую власть в руках сжимаешь. Твой скипетр, твоя держава. Твоя железная корона! Так исполни, что люди хотят! Волю народа твоего! Спаси грядущий Мiръ! Спаси...
Глотку мою, Василий, словно бы тугая петля захлестнула. Словно казнили меня на стрелецкой висельце посреди широкой, как белое поле, метельной площади Красной.
- Землю твою...
Молчал наш Царь. А что ему было говорить? Не было слов. Не было приказов. Белое поле слепоты расстилалось пред ним. Не было Царской невесты; не было конца и краю треклятой Зимней Войне, она сама себя вела, сама уже давно царствовала. Я видела призрак Диаволицы там, в углу. Она стояла, усмехаясь, и на бархатной подушечке держала корону в руках. Острые зубья, железный гребень. Призрак плыл мёртвой водой и качался сожжённой яблоней. Я прошептала себе: не сметь, не смотреть.
- Молчанье, Царь, что же, знак согласия? Или знак презрения? Или, может, смерти знак?.. Тогда...
Я зажмурилась, родной мой. Тьма заискрилась передо лбом моим.
А раскрыла я глаза мои всевидящие уже в новую жизнь.
- Тогда повторю я просьбу Василия-юрода, твоего повара, твоего генерала. Отпусти меня на Войну! Да и не нужно мне, ежели рассудить, согласия твоего. Я и сама уйду, как прежде ушла. Видать, Царь, я Ад ещё не до конца прошла. Вот когда пройду до конца, собой его измерю, тогда сама Войну твою и закончу. Сама с ней покончу! Тебя не спрошу!
Я видела, как он дрожит. Сначала мелко начал трястись, потом всё крупнее, волнами, шла великая дрожь по отощалому телу его. Так трясётся земля, огонь выпуская. Бельма на миг скатились с его очей. Обнажилась тополиная зелень кошачьих зрачков. Вспыхнули радужки. Теперь, я знала, он видел меня.
- Ступай! - прохрипел Царь. - Не держу!.. Но, коли умрёшь, не воскрешу тебя!.. Да и Господь уж не воскресит: довольно наигралась ты с Господом в прятки!.. Иди!.. Ни у кого пощады не проси. Смело сражайся! Я, твой Царь, раньше... ой-ёй как воевал... только молнии сверкали, в кулаках моих зажатые... и молниями теми - врага разил... Ступай!.. глаза мне не мозоль... прозрел на гневный миг, молитвами твоими, а сейчас опять престану видеть...
Я встала. Стул с грохотом упал. Рыба снаряда мирно лежала на длинном блюде, ждала своей участи. Или взорвётся и всё под обломками погребёт, или на зады, в отбросы, железяку вышвырнут.
- Прощай, Царь. Не поминай лихом.
Родной мой! Он понял: я прощаюсь навек. Когда я выходила из зала, мне в спину, меж лопаток, между вольно раскинутых крыльев моих, что я тяжело тащила по разноцветному паркету, воткнулся костяно-твёрдый, ледяной снежок его вскрика.
- И в Раю!.. и в Раю... помни меня!..
Я кинула мой ему крик через плечо, и он долетел до него ожившим тем, отчаянным, с битой тарелки взлетевшим, жареным почтовым голубем.
- Буду помнить! Никогда не забуду!
ПЕСНЯ У КОСТРА
Она вернулась на Войну как в дом родной.
Всё ей было тут привычно. Всё знакомо. Всё, вплоть до смертного страха, до руины, до завывания ветра в холодных, бездымных трубах, торчащих, над разрушенными крышами, протянутыми к небу кривыми жестяными руками.
Её бойцы узнавали тоже. Кричали ей: Ксения!.. погодь!.. подойди сюда, к нам!.. бинт у тебя есть в сумке, а вата?.. у нас тут солдата крепко ранило, распахало спину аж до кости!.. помоги, пособи!.. обработай рану спиртом, перевяжи... да нам дай, дай спиртику-то глотнуть... святое дело... Она подходила, мешок развевался у неё за спиной. Босые ноги прожигали в снегу торопливые узкие следы. Никто не видал её крыльев. Крылья тайной оставались для зрячих людей; их видели те, кто ослеп. От взрыва слепли люди, от тяжёлой контузии, а иной раз им глаза выжигал огнемёт, а иногда танкист горел внутри танка, и от жара глаза лопались и вытекали, и перевязывала Блаженная ему обожжённые руки, ноги и цыплячью юную шею, а слепые вдруг поближе придвигались к ней и шептали восторженно и еле слышно: видим, видим, голубушка, видим Божии крылышки твои. Береги ты себя!.. ведь ты, матушка, не баба, а Птица... Ангелица...
Она часто пела бойцам у костра. Бои редко велись ночью. Ночью наступал странный, кратковременный, а казалось, вечный передых. Солдаты разжигали костёр, и Ксения садилась у огня. Война здесь, у костра, казалась и ей, и всем бойцам чем-то таким нужным, важным, неотъемлемым от всей прошлой и будущей жизни; ночью, у костра, они понимали: человек с человеком воюет всегда, и главное - победить зло, и самое трудное - определить, где оно у врага, то зло, таится. Ведь мы, думала Ксения, для врага - тоже враги! И они, наши враги, сражаются с нами не просто так, натиск наш отражая, а ведь за что-то, для них святое! У нас - святое, и у них - святое. У нас - священная ненависть к врагу, и у них - священная к нам ненависть. Где же великая тайна Войны? Узнаешь эту тайну - все на свете войны сразу остановишь. Ксения вздыхала: вот бы узнать! Да никто в целом свете не мог бы сказать ей, на кончике какой иглы, в каком яйце, в какой утке, а утка в сундуке, а сундук на сосне, а сосна на одинокой скале, а скала в море-окияне, сокрыта сия тайна. Ни Господь. Ни Царь. Ни герой.
А ты, ты, Василий-юрод?.. ты-то можешь?.. ты-то - знаешь...
Откуда-то бойцы добывали старую, Войной разбитую-раздолбанную, испанскую гитару-шестиструнку; Ксения, как могла, настраивала её, подтягивала непрочные колки, склоняла ухо, проверяя чистоту тона, всё ей не нравилось, струны издавали нестройные, мрачные звуки, да делать было нечего, бойцам хотелось песен и гитарного рокота во краткой передышке. Вечный бой! Покой лишь снится. Вот пусть сегодня, сейчас приснится. Ксения тревожно перебирала струны, будто боясь музыкой опоздать куда-то, на важную встречу, на единственное свиданье, и струны отвечали невнятным ропотом, подземным гулом, и выпускала Ксенья голос на свободу - чистый, ясный, просторный голос, и холодная зимняя ночь тот голос в объятья принимала, и всеми звёздами мелко, быстро целовала, и глядели ночные заледенелые берёзы, как гуляют Ксеньины руки по живым медным жилам, по кровеносным сосудам бедной музыки, и голос катился красным ярким колесом по заснеженному окоёму, по всей изрытой, израненной ойкумене, по замершим лицам бойцов, озаряемым взлизами огромного костра, а в костре сгорали старые доски, ветхие бумаги, среди них и рукописные, да никто никогда больше не прочтёт нищих писем, торопливых записок, что люди иных времён друг другу наспех строчили - на прощанье, перед смертью, перед праздником иконы Страшного Суда, - голос Блаженной проникал внутрь усталой от Войны души, утешал в рыдании, гладил по седому виску, благословлял на завтрашний тяжёлый бой, и он уже не казался последним, ещё оставалась надежда, ещё плыл вдаль голос в широкой песне, не просто говоря о любви: он, голос, и был сама любовь.
А ночь шла и проходила, и у кого-то на донышке фляги находился глоток спирта, или глоток довоенного коньяка, или глоток вишнёвой домашней настойки, или перцовки глоток, а может, горилки, с малюсеньким стручочком красного жгучего перца, на дне притихшим, а дно ночного солдатского пьянства оказывалось так близко, до жалости, до горести рядом, и вот уже нет ничего, чем душеньку взвеселить, и снова кричали ей: Ксенья!.. спой!.. распоследнюю!.. нашу любимую...
А какая же была у родных солдат самая любимая, медсестричка Ксения и не знала; опять надо было догадываться; и догадывалась она, что да, вот эта, старая, военная, ещё с той Зимней Войны, о которой не все знали, но все её кровью помнили, а если память у крови есть, то, значит, и голос есть, и кричали, шептали, хрипели ей солдаты: Ксения!.. пой!.. звучи!..
И звучала она.
Мой костёр догорает в ночи... завтра грянет отчаянный бой...
И глядели солдаты в огонь, и закрывали глаза, и каждый видел пред собою любимую свою.
И шептала Ксения в перерыве между куплетами, когда на фальшивой, разбитой напрочь, дребезжащей гитаре, с ранами-трещинами в живой тёплой деке, звучал простенький слёзный проигрыш: милый, родной, любимый мой Василий, я так скучаю по тебе, но это не может быть, чтобы я не увидала тебя, я обязательно увижу тебя, так суждено, ты жив, возлюбленный мой, ты жив и здоров, тебя не сожрала Война, тебя не убили, ты дышишь, молишься и глядишь вперёд.
И, пока она это шептала, она верила в это, а когда надо было снова петь, опять не верила.
Ты шепчи о любви мне, шепчи... хоть во сне я побуду с тобой...
Это ты, ты мне поёшь, родимый, шептала Ксения, перебирая струны, и краем глаза видела она, как плачет молоденький боец рядом с ней, засовывая руки в огонь, так железно замёрзли они.
***
Царь на лавке лежал, как простой мужик. Принакрыт был парчовым кафтаном на куньей подкладке. Вытерся мех хищной куницы. Порвались золотные нити сумасшедшей парчи. Лежал Царь, сложив руки на груди; так во гробе лежат. Мыслей не было подо лбом. Голосов не было вокруг. Лежать так день, год, век. Жизнь теплится ещё. Грохочет Зимняя Война. Кто остановит её? Кто победит?
Сквозняк дунул во все отверстые двери, насквозь прошел ураганом, выдул из дворца остатки детской надежды.
На пороге Царской спальни стояла рыжекосая Катерина.
Атлас падал у неё с плеч донизу красной, казнящей волной. Бархат синей грозовой мякотью обхватывал грудь и живот. Из-под бархатной юбки торчали кожаные мягкие туфли с загнутыми носами, расшитые восточными узорами, рыбьим бисером, золотыми печными искрами.
- Здравия тебе, Царь! Исполать тебе! - Она поклонилась до земли. Всегдашняя насмешка изгибала её густо, жирно намазанные кармином губы. - Почивать изволишь? А я вот она! Во дворец прибыла! Свадебку с тобою желаю сыграть! Забыл?! Ничего! Не грусти! Вспомнишь!
Царь лежал на лавке, уставив слепые глаза в потолок.
Потом медленно повернул голову.
- Свадебку, говоришь? - Он облизнул губы. - Свадьбу! И жена ты мне будешь! Настоящая! Да только ведь, Катеринушка, повара-то у нас теперь нет, свадебный пир нам закрутить на весь крещёный Мiръ! Нет! Тю-тю наш повар! Фюить! Крылышком махнул! И нет его!
Он горько, беззубо расхохотался. Рыжекосая взмахнула в воздухе рукой, изображая: птичка улетела.
- Так то нам не помеха, Царь! - Глаза и улыбка рыжекосой горели безумным светом; так горят светляки в ночи над старым, гнилым пнём. - Мы и без повара справимся! Я сама что, не хозяйка?! Да я тебе весь дворец переверну, с ног на голову поставлю, а свадебку сыграем!
Катерина хлопнула в ладоши. Откуда-то из углов, из щелей повыползли мыши, крысы. В лапках держали крошечные дудки, дули в них усердно, раздувая щёки. Невозможный писк поднялся до теремного потолка, потолок пошёл мелкими, змеящимися трещинами, испещрился кракелюрами. Под ноги Катерине, под лавку к лежащему на ней Царю подползали змеи, одна подняла хвост, чешуйки на кончике хвоста дрогнули, двинулись и затрещали. Змеи, какая потолще, какая потоньше, поголоднее, расползлись по Царской спальне, заползали на разобранную Царскую кровать, под атлас одеяла, сворачивались в кольца на шёлковых подушках. Царь таращил ледяные глаза. Пытался привстать, сесть. С трудом ему это удалось. Сидел, вцепился пальцами-когтями в край лавки, тяжело дышал, с присвистом.
Катерина хлопнула в ладоши ещё раз, двери шире раскрылись. В спальню въехал белокурый всадник на тощем белом коне. Сивые волосы всадника торчали в стороны. По спине змеились верёвочные белые косички. Сивая грива коня падала до полу и мела собою паркет. На плече у всадника тяжело лежала крестьянская коса-литовка. Он глядел внутрь себя белыми глазами под белыми, снежными бровями. Лик его, белее мела, ледяно застыл, без дрожи, без улыбки.
- Здравствуй, рыцарь мой верный, - прошептала Диаволица, - долгонько я тебя ждала! И вот ты здесь! И Конь Блъдъ, прекрасный зверь твой, под тобой! Свидетелем будь на нашей с Царём свадьбе!
Всадник медленно поднял одною рукой над головой тяжёлую косу. Металл сверкнул в тусклом свете оплывающих свечей. Мыши перестали дуть в дудки, глаз не могли отвести от застывшего рыбой подо льдом, острого лезвия.
Хлопнула в ладоши Катерина в третий раз.
И, откуда ни возьмись, понабежали девочки, девки, бабы, старухи, грузные и тощие, красивые и уродки, стуча башмаками и ботинками, сапожками и туфлями, старыми валенками притопывая и сбитыми каблуками половицы и паркетные плашки поколачивая, на ходу подпоясывая фартуки, и рассыпались по дворцу, и волокли столы, и вздёргивали в воздухе скатертями, на столешницах их расстилая, и тащили горы посуды, стопки и бокалы, уставляя их бесконечным, изобильным фарфоровым, стеклянным блеском белые равнины забытых за годы Войны камчатных скатертей! Сервировка кипела, а вот и мужики появились, помощники, они, приседая и кряхтя, тянули в залы, залишки и зальчики громадные кастрюли за алюминьевые уши, за дужки держали дымящиеся котлы, несли чугуны и сковородки, а в тех кастрюлях, котлах, чугунах и сковородах кипела, шипела, ворчала, билась, вертелась, источала тысячу запахов бедная сваренная, зажаренная чужая жизнь, которую можно было - съесть! Сгрызть! Проглотить! Почмокать ею, смакуя! Насытиться ею! Забыть её!
Да, на весь дворец пахло съестным, но слепой Царь не различал еды, что там в котлах, что на тарелках, он уже не видел, только слышал стук, звон и гром, и хохот Катерины, и переругиванья кухонных баб, да, пир готовился горой, на славу, да откуда же...
- Да откуда же у тебя вся эта еда, невеста моя?! Ведь Война! Люди от голода умирают! И я умираю! Ты же видишь! Я умираю! А я так хотел жить! И дожить до победы! А вот...
- Я - победа твоя!
Она выпрямилась перед ним, бессильно сидящим на ветхой лавке, выпятила полную белую грудь, кружева сползали тихими змеями, бесстыдно обнажая то, чему надлежало быть главным соблазном Земли, да вот беда, время вкушать сей соблазн прошло. Нет уже вожделенья без любви. И нет страсти без молитвы.
- Свадьба, Катерина, это... это...
Дымом зла мгновенно окуталось её лицо. Из тумана гари и дыма злобно глядела она на Царя.
- Говори!
- Это когда жених и невеста... обнимаются... не только телами... а...
- Говори!
Она, стоя в дыму, свирепо раздувала ноздри.
- Душой!..
Царь нашёл ещё в себе силы, чтобы задушенно, жалко, тихо выкрикнуть это слово.
Рыжекосая дрожала от ненависти.
- Идём! - Вытянула к нему руку. - Хватайся! Поведу тебя! Нас там и батюшка ждёт! Обвенчать! И пир ждёт! Поесть от пуза! Наплевать мне на твою душу! Пока живёшь на земле, наслаждайся! Затем и рождён!
Схватила его за руку, грубо дёрнула вверх, насильно, жестоко подняла.
И повела за собой, потащила.
И в зал втащила; там на столах, вокруг столов и под столами царил, плясал, пировал Ад - никогда ещё Царь не позволял этакого непотребства во дворце его: коты сидели на столах, урчали, когтили мясо, угрызали его вместе с мышами; впорхнувшие в распахнутые окна с мороза синицы жадно, бешено клевали сало, буженину, копчёные окорока; волки с шумом и треском перемалывали жёлтыми страшными клыками бараньи и свиные кости; собаки, вцепившись зубами в Царский соболий тулуп, таскали его взад-вперед по радужному паркету, трепали, рвали, рычали над ним; среди привычной человечьей пищи на столах, среди бокалов чешского стекла и чашек расписного китайского фарфора, лежали снаряды, высились в тарелках медные горы гильз, вместо вилок на камчатной скатерти валялись пистолеты, вместо ложек - тиски, клещи, напильники. И лишь ножи оставались ножами: вон нож средь посуды застыл, вон кинжал, вон короткий боевой меч, а вон навершие копья сломанного. После битвы! Перед битвой! Да это всё равно. Пир ли, смерть ли. Где мы? Где я?
Шум... визг... мяуканье... вой... железа лязг...
- Где... я?..
- А в нигде, великий Царь!
Лишь один рот на лице у Диаволицы остался, лицо растаяло, исчезло, остались одни огромные, чудовищные, великанские, хищно вывернутые, влажно-красные, истекающие кровью и смехом губы. Они смеялись. Обнажая зубы в улыбке неудержимого глума. Обнажая лютую ненависть. Открывая до дна торжество небытия.
К сердцу Царя подступила волна ужаса и гнева. Слепота застилала ему волю. Он захотел быть сильным, как встарь! Понимал: не сможет. А может, как она, Диаволица, взять да громко хлопнуть в ладоши? На это - достанет ли сил?!
Он стоял и качался. Вот-вот упадёт. Война шла далёко. Война грохотала близко, здесь, в свадебном зале. Что надо крикнуть?! Кого на помощь позвать?!
Он - догадался.
- Рай!.. Мой Рай!.. Не умирай!.. Ко мне!.. Сюда!.. Спаси!.. Я Царь ещё!.. Я... Царь... ещё...
Налетел ветер и махом, разом, сильно и бешено, повыбил все оконные стёкла во дворце.
Ворвался ветер во дворец. На крыльях нёс цветные, искусно тканые ковры. Сыпались с ковров мандарины и лимоны. Раскатывались по полу. Врывались крылатые Ангелы, арфы дрожали и звенели у них в руках. Вошёл старец, белая борода его летела по ветру, ветер беспощадно мотал и рвал её, белые космы ветер радостно вил и за спину ему бросал, белый плащ летел крыльями, легче пуха ступал старец по гнилому воздуху Ада, и там, где он шёл, воздух вспыхивал, паркет загорался, и он, торжествуя, невесомо ступал по огненной светлой дороге. И Царь не узнавал, не понимал, как в зеркало, в чудного старца сердцем глядясь, сам ли он это, а может, это тот, вечный юрод, Василий-нагоходец, старик уже, и нет никакой одежонки у него на плечах, лишь белый плащ метели, белая накидка вьюги, полярной пурги! Белый старец глядел на белого всадника на белом коне, и всадник впервые за все это время, как явился людям, дрогнул исхудалым лицом. Оскалил зубы: то ли в улыбке, то ли в рыданьи, то ли во проклятьи. Старик протянул руку. Вьюжный плащ заскользил вниз, всё вниз и вниз. Снега вмиг укрыли Царский паркет, а мыши и крысы, прервав пиршество, верещали так, что из ушей текла кровь. Старец теперь шёл босиком по снегу.
Сердце Царя стало зрячим. Лучи Царского сердца выходили из груди его и просвечивали насквозь камни, зверей и людей.
- Как Ксения... - прошептал Царь. - Как Василий, юрод мой верный...
Он наклонился и, шатаясь, стащил с левой ноги сапог, потом, кряхтя, с правой ноги другой и бросил прочь. Стоял босой. На полу, как на плывущей льдине.
- И я... как они...
Разбитые стекла зазвенели, осыпались последние осколки, и призванный Царём на Русь Рай, искрясь, перламутрово переливаясь, испуская мощные солнечные ли, лунные ли лучи, водопадом втёк во дворец, целуя его изнутри, преображая, обласкивая, - воскрешая.
Рай! Царь узнавал его в лицо. Он чуял его. Его тепло. Его полдневный жар. Аромат его сладких плодов, россыпей ягод. Негу звериных, птичьих, женских тел. Он чуял, слышал, как Рай совсем близко подошёл к Аду. Они теперь стояли друг против друга на вечной Зимней Войне - Рай и Ад.
- Кто из вас первый начнёт... кто другого поборет... Рай, только не сплоховать... ты же сильнее... ты же... горячей...
И горячие зверьи тела стали льнуть к ногам, к коленям и бёдрам Царя; он протягивал слепую дрожащую руку и гладил, гладил по шерсти, по ласкающимся, дружески, любовно бодающим его головам, по мохнатым спинам, по драгоценному меху, ах, зачем человек охотится, зачем рухлядь со зверя сдирает, на украшенье себе, на утепленье, на продажу, меха дороже алмаза, потому что мех раньше был живой, мех бегал по земле, стонал, рычал, кричал от радости в любви, мех хотел продолжить род, мех хотел жить! А мы убили зверя и освежевали! Как быть! Как жить на земле! Без убийств! Без крови! Доколе человек будет убивать живое - дотоле он будет убивать человека! Мы... будем... убивать... друг друга...
Царь гладил по пятнистым головам пантер, гибких леопардов и гепардов, гладил по серо-жёлтым жёстким холкам угрюмых волков, гладил хвосты гордых павлинов, шепча: а вот и она, Жар-Птица весенняя, - гладил барсуков и лисят, обнимал за шею коней, льнул плачущим, мокрым от запоздалого счастья лицом к смиренному льву. Где я? В Раю? Да, Царь, ты в Раю! Прижмись крепче к живому! Услышь, как страстно, тяжело, кровавым молотом, бьётся живое сердце! Полюби его заново! Прости его! Переселись в него! Мы просто разучились слушать, как бьётся сердце в чужой груди. Так начинаются войны! Когда человек перестает слышать сердце другого!
И сам не понял Царь, как, когда подкатилась к нему под ласкающие руки другая шерсть, другая спина, - мощная, многошёрстная. Лохмы вились и торчали жарким частоколом. Из пасти вылетало горячее, пахучее дыхание, обжигало Царю дрожащие руки и слепое лицо. Он наклонился ниже. В нос ударило сильнейшим зверьим духом. Он давно стрелял на охоте, давно забыл запах тайги, запах древнего зверя. Кто это? Да не может быть... это...
Медведь взревел. Посунулся ближе к Царю, боком прижался теснее. Заревел громче, настойчивей. Он - просил. Царь это понял. Просил отчаянно, горько, обречённо, как в последний раз, ревел: как плакал.
- Что ж ты просишь-то у меня, зверь, а?..
И крепко, крепко ревущего зверя Медведя обнял Царь.
А вокруг них, обнявшихся, шла великая борьба. Ад побивал Рай. Рай побеждал Ад. Никто не мог одолеть. Силы были коварно равны. Уравновесились чаши великих весов. Никто не мог предугадать исход боя. Звенела посуда. Рвались снаряды. Текла кровь из перевёрнутых котлов и кастрюль. Взмётывался до небес свечной огонь в тяжёлых шандалах. Разливалось по навощённому паркету пламя, горящим маслом брызгая из камина. Скакали безумные кролики по столам, собаки, вцепившись зубами в скатерть, стаскивали её на пол вместе с посудой. Разбивались чашки и тарелки. Разбивалась любимая жизнь. Бледный всадник на белом коне взмахнул косой, желая белому старцу голову отсечь, да не успел: старец просто-напросто улыбнулся рыцарю, и лезвие улыбки сразило рыцаря наповал. Всадник лежал на паркете, раскинув закованные в консервную жесть тощие руки, и Конь Блъдъ переступил через него, как через мёртвое берёзовое полено.
Царь услышал стук каблуков. Диаволица подошла близко. Очень близко. Медведь перестал реветь. Царь перестал дышать. Оба, зверь и человек, слушали.
- Священника твоего убили, - отчеканила рыжекосая. - Вот теперь. Сейчас. Аду моему преграды нет. Страдание всегда пересилит радость. Знай это! И не надейся на иное! Думаешь, Рай призвал, так меня победил?!
Дурачок! Ты такой же дурачок, Царь, как твой жалкий юрод! Вам всем, юродам, конец скоро придёт. Земля вся будет под моей властью!
- Нет, - раздался голос над ними, с потолка, - под Божией.
Они все, звери и люди, птицы и дерева, мыши и змеи, подняли головы. Упёрли глаза в потолок. Он трескался и разламывался надвое. В каменной прорехе был виден мощный купол. Купол выгибался, уходил далёко в морозное небо. На куполе был изображен громадный лик Спасителя. Слепой Царь увидал его.
- Спас Вседержитель... Пантократор...
Рай, в битве, перед ударом света соединился весь, будто сноп, обвязанный витнем. Все Райские жители друг с другом обнялись. Повязались. Молча друг другу в вечной любви - поклялись. Жизнь глубоко вздохнула и двинулась на смерть. Жизни просто делать было нечего. Куда ей, жизни, было деваться. Только биться. Только сражаться. Рай, он тоже может драться. За будущие мандарины. Нежный океан. Синехвостых павлинов. Золотые яблоки.
За любовь, Господи, за любовь.
МАЛОЕ КЛЕЙМО С ИЗОБРАЖЕНИЕМ ВЕЧНОЙ ЛЮБВИ
Мой любимый, Василий мой. Завтра бой. Ад зубами скрежещет, готовится. Но и мы к сраженью готовы. Мы во всеоружии. На звёзды глядим. Чаек на костре кипятим. Молимся. А я вот с тобой говорю. Говорю с тобой, как никогда не говорила. Никогда тебе не говорила, родной, как я тебя любила. И люблю. Видать, пришла пора сказать. Может, завтра, родимый, твою Ксенью убьют. И это будет мой последний бой. Поэтому набрала я в грудь воздуху, поглубже вздохнула, да и выпалю вот сейчас всё-всё-всё, о чем целую жизнь молчала. Да не одну жизнь, Василий, ты ж понимаешь! А - много жизней!
Много... жизней... Да, мы счастливые. Мы бездну жизней прожили. И как хочется помыслить, что - ещё проживем; да есть законы непреложные, железные, не мы их придумали, неписаные они, так Богом устроен Мiръ, и так в нем движемся-шевелимся мы. Мы. Люди. А в нас, в людях, всё живое живёт. И звери. И птицы. И шелест деревьев. И самый распоследний червячок, что в земле ползёт, землю насквозь прогрызает. И он - это мы. Мы.
Всё живое когда-нибудь умрёт, Василий. Когда-нибудь.
Я давно хотела тебе сказать. Да духу не хватало, Время нас разлучало, разрывало. И не видела я тебя годами, веками. А потом, когда видела, нагого, на снегу, завернутого во медвежью шкуру повытертую, да неизносную, - такой болью сердце мое стеснялося, такие слёзы по щекам текли - не кожу прожигали, нет: жизнь прожигали! Жизнь мою жгли, прожигали насквозь! Плакала я по тебе! По тому, что вот не могу навек, на всю жизнёшку остатнюю, твои ноги обнять, снегом их, грязные, босые, обмыть, обласкать, исцеловать. Так суждено: у меня мой путь, у тебя твой; так и шли порознь, и я вечно улетала от тебя, Дева-Птица, крылатая твоя Ангелица, а ты только тоскливо провожал меня глазами, мой полёт, да ведь все мы, Василий, всегда улетаем, летим прочь друг от друга, а может, друг к другу, и я крылата, и ты крылат, душа твоя крылата, прозорливец мой; духом крылат ты, медведем мохнат, замшел, не шерсть на тебе, сын медвежий, растёт, а трава, а цветы, а колосья, а мох, а великие поднебесные дерева, каждое древо обними, каждому в листву нашепчи: не плачь, я с тобою.
Ты, юрод мой, ты есть всё живое! Живущее! И я есмь лишь твой вдох, твоя ладонь горячая, твой волос в кудрявящейся по ледяному ветру твоей бороде. Я твой жавороночек из сладкого теста, ты меня наколядовал. Знаешь, я же вижу, как ты опять и опять падаешь на землю из того расстрелянного самолёта! Я в одно Время с тобою на земле жила. Но и во всех временах. Значит, все времена - наши. И мы с тобой никогда не боялись смерти. Никогда. Неужто сейчас убоимся её? Мы, двое Блаженных?
Мы с тобой в одной лодке плывём. Вот сейчас: в одном Времени нашем. А оно опалено Войной. И я тебя в этой лодке спасаю. Голоден ты - накормлю. Через Ад идёшь - дорогу покажу, чтобы не заплутал, не подбили пулей из-за угла. Плачешь ты - утешу. Рядом ли я, далеко ли - всё равно утешу. Ты меня всё это время чувствовал, потому что я любила тебя.
Любовь всегда чуешь. На любом расстоянии. Через любые времена. Если люди любят, для них Время - ничто. Они и в морщинах, и немощных, и некрасивых-уродливых, и слепых, и хромых будут друг друга любить. Кто из любящих сляжет предсмертно - за лежачим больным будут ухаживать. Нет для любви преград и запретов. Могил для неё нет. Смерти нет.
Нет, вру я всё тебе и себе. Смерть есть. От неё мы - никуда. Только когда она для нас, Блаженных, приходит окончательно и бесповоротно, и мы уж не возродимся никогда, - мы не знаем.
А ты? Возродился ли ты, когда упал и разбился? О чём думал ты, когда летел вниз, к земле, из своего разбитого самолёта? Зенитка выстрелила, снаряд взорвался, и осколки вонзились в самолёт, и он раскололся, как яйцо. Мышка бежала, хвостиком махнула, яйцо упало и разбилось. Мы плывём в одной лодке с тобой. У нас кончаются съестные припасы. У нас кончается миръ. У нас кончается вода. Но у нас не кончается любовь. Одному из нас надо спасти другого. Морскую воду нельзя пить, когда жажда. Разрезать себе руку и пить кровь нельзя - кровь солёная, как море. Снег есть можно. Дождь пить можно. Кончается пища, умирает вода, обнимает жажда, отнимает дыханье, а любовь - вот она, рядом. Я погибну, чтобы ты жил.
Вот ты летишь к земле. Раскинул руки. Я так ясно это падение твоё вижу. Тебя, когда ты падал с небес, не видел никто. Нет, видели, конечно, но думали: вот птица летит. Или: вот мальчишки змея запускают. Тебя видели летящие рядом с тобой птицы. Они думали: вот наш птичий брат летит, только почему он летит так быстро вниз, всё вниз и вниз, мы не успеем за ним, а если мы повторим его путь, мы разобьёмся. Птицы, милый мой, тоже могут разбиться. Как самолёт.
Это я виновата в гибели твоей. Я не успела, не сумела руку Диаволицы остановить. Она ловко управилась с той зениткой. Будто век воевала. Но ты же не умер. Разве тебе можно умереть! Где ты сейчас? Я одна знаю, где. Ты весь завернут в медвежью шкуру, и я тебя обнимаю, притискиваю, замотанного в эту тёплую, карюю шкуру, к себе, близко-близко, тесно-тесно, так сильно, крепко обнимаю, обвиваю собой, и я сижу на песке, на холодном мокром песке, близ реки, зимней реки, и я держу тебя на руках, завёрнутого в жаркий мех, как ребёнка, и ты ребёнок, ты медвежонок, ты спокойно дышишь, бесшумно, ты уже спишь, ты сопишь, тихонько, размеренно, и я ещё сильнее обнимаю тебя и плачу над тобой.
Плачу, потому что разбился ты; и в ребёнка превратился ты; и наг ты стал и беспомощен, как во младенчестве твоём; и нет мне жизни без тебя, а тебе без меня, и я, прежде возлюбленная Ксения твоя, возлюбленная души твоей, снова стала матерью Мариной твоей.
Так всё возвращается на круги своя в смерти. Смерть, это полёт внутри земли. Над землёй всё нами пройдено; небеса нами обжиты; и теперь мы летим в земле, трудно лететь в кромешной тьме, трудно дышать землёй и глотать землю, но если ты можешь, то и я могу. Где ты, там и я.
А теперь скажу самое важное. Самое главное.
Я была отмечена Господом на многожизненное деяние. На множество судеб я отряжена небом была; и вся Земля меня, Ксению, всеми её глазами, всеми ступнями её и ладонями, всем животом её тёплым, комковатым, мягким, жёстким ото льда, снежно-меховым, всеми людскими льющимися слезами - приняла. И так стала я, Ксения Блаженная, всеземною странницей. И много, много, бесконечно жизней раскрылось предо мною! Кто на крыльях летел моих, кто на моём животе по нейтральной полосе, под огнём, полз! И жить хотел, жить! Мною - жить!
И, живя множеством чужих жизней, я их собою - безсмертной - от смерти - спасала!
Вернее, не видала я их смерти; не знала, где и как они глазоньки закроют. И уж меньше всего думала я о смерти моей; я вселялась в чужие тела, и они мне родными становились. Как быть мне на земле, если срок, Богом мне отведённый на спасение жизней иных, закончится скоро? Вот ныне, сейчас?
Я, бродя по земле во многих ипостасях, искала всё Господа моего, великого Иссу. Я распята с Ним вместе была. Я погибала и возрождалась мановением руки Его. Я исполняла на земле волю Его. Я добрела по дорогам земным до единственной, последней старости земной, нашла на ночном рынке старый ящик, приблудилась ко мне старая рыжая собака, заскулила, тепла ища, я в ящик тот легла, собака тесно, крепко прижалась ко мне, я обняла её за шею, уткнулась морщинистым ликом в её нежную, спутанную рыжую шерсть и уснула. Мы уснули, обнявшись. Крепко обнявшись с уходящей жизнью моею, я уснула. Ничего не видела, на слышала. Снег шёл. Заметал меня. Собака стонала и взлаивала во сне.
А утром меня нашел рыночный мусорщик и сжёг, подобно мусору, в железном контейнере. Дым взвивался, вился до неба. И что же?
Василий! По воле Бога моего я воскресла!
Я воскресла - для тебя!
Ты это знаешь?! Ты, Блаженный мой, знаешь ли, что Господь мой призрел и обласкал тебя, и захотел Он подарить нас друг другу, повенчать души наши, прижать друг к другу наши сердца?! Он нас держит, как два ореха в кулаке. Зимняя Война все идёт и идёт, а мы все ходим по её площадям. И Господь нас дальше Москвы повёл. Он повёл нас по Аду. Ад нам во всей красе показать. Чтобы укрепились мы духом. Чтобы поняли: есть Ад, и есть Рай.
А где - Рай? Где наш Рай, Василий мой?!
А я и есть твой Рай! А ты и есть мой Рай, любимый мой! Так всё просто! Смерть ли, безсмертие ли - а вот он, Рай! Так не мучься, не сомневайся, не плачь, что не увидим мы его: увидим! Завтра бой, и после боя - увидим! Как пить дать!
А Рай - не сладкие яства, не пьяное питьё. Не объятия людей, детей и зверей. Не пеньё Жар-Птиц в широких, разлапистых ветвях. Не три цветных Солнца на небе: рубин, сапфир и золото горнее, яичная темпера, ослепительный испод смоляных туч. Рай - это просто любовь, любимый. И получается так, что, пройдя насквозь весь Ад, обливаясь потом и кровью, умирая, мучась и плача, мы жили в Раю.
И теперь мы в Раю, родной. Да потому, что любим. Нам это лишь дано.
И боле ничего. Ничего в целом свете. На снежных площадях. В пустом, дышащем грядущей смертью небе. Мы нищие. Но за пазухой у нас любовь. И мы богаче всех Царей Мiра. Нас не расстрелять. Не сжечь. Не повесить.
Нас можно только убить - в честном бою.
Вот и у меня завтра такой бой. А ты уже погиб в таком бою. Да зря Диаволица думает, что победила тебя. Выстрелила в тебя, в самолёт твой стремительный, и ухмыльнулась: всё, конец ему, юроду площадному! Кто знает загадку безсмертия? Ведь ожила же я после того, как меня на рынке, в железном ящике, на Красной прекрасной площади сожгли! Ведь ожил же ты, Василий-нагоходец, родился на свет ещё раз в затерянном в ледяных гольцах таёжном селе, Царём-Медведем счастливо зачат! И узнала я тебя! И узнал ты меня! И летел ты с небес на землю, падая из застреленного самолёта вниз головой, руками и ногами последнюю жизнь хватая, думая обо мне одной! И я знаю, что ты, падая, летя, шептал. Ты шептал: Ксенья, родная, врежусь башкою непутной в землю, пролечу землю насквозь, пробью живым кровавым снарядом, разрежу собой, подожгу, умру, беззвучно крича, а потом - воскресну и к тебе вернусь!
К тебе! На ту Красную, прекрасную, вьюжную площадь! Через сто веков! Через сколь угодно времён! Через жизни, судьбы, могилы, колыбели! Ничем нас не умертвить! Ничем не смахнуть со звёздных небес, как ладонью - крошки с неприбранного стола! Ибо есть чудо возрождения! Воскресения вечного! Воскресения неубиваемого! Воскресения незабвенного!
ВОСКРЕСЕНИЕ ТЕБЕ И МНЕ ГОСПОДОМ СУЖДЕНО.
Прежде Страшного Суда, милый! Прежде возвращения на Землю Рая! Мы с тобою - два Райских яблока катящихся, два Райских древа, ветвями переплетшихся! О Воскресении - помни! Господь умер на Кресте потому, что желал показать нам всем: нет смерти для того, кто истинно верует. Вот они, крылья! Через ту веру и я Девой-Птицей стала! И я, милый, так стремглав с небес летела, когда ранили мне злые люди крыло, и я больно падала, и меня люди спасали, крыло мне перевязывали, из миски кормили, в сарае держали, собакам загрызть меня не давали! Однажды старик-помор, на бреге серого северного моря, тяжелые волны, белая пена посмертной вьюги, так подобрал меня, всю переломанную, с неба упавшую и разбившуюся в пух и прах: ты Ангелица, бормотал, таща меня к себе в избу на руках, ты Птица-Ангелица, и я излечу тебя, и бабка моя Леокадия обласкает тебя, угостит, раны твои перевяжет. И лечил он меня, и старуха его меня гладила по голове, и сынок их, приемыш, в ладонях приносил мне из тундры морошки, и ела я морошку у него из рук, и все они шептали мне, улыбаясь светло и чисто: ты настоящая Ангелица, ты с небес, мы знаем, мы поняли. Оставайся у нас! Мы будем любить тебя. А ты будешь молиться за нас.
Да крыло мое излечилось, я поднялась в воздух и улетела, и по серому волглому небу летела, летела на новую, льдом и снегом расписанную фреску мою.
И на площади Красной, прекрасной я увидала тебя. И ты увидал меня, Деву-Птицу, помнишь лит, в соборе Покрова; и слетела я прямо к тебе в руки, помню тебя, так хорошо помню, стоял ты в шкуре медвежьей, а больше ни одной одежонки не моталось на тебе, ни одной жалкой нитки, ни одного лоскута, и обняла я тебя и прижалась щекой к медвежьему меху твоему, к запаху тайги и скитанья, к духу пороха и воска, к ветру Войны.
И так мы стояли. И люди, люди не видели нас. Обтекали, как остров.
Ты понял, родной? Ты всё понял? Помни, что сказала тебе. Такое однажды в жизни говорят! Да что я! Однажды в смерти. Пусть впереди Воскресение; мы-то не знаем нынче, воскреснем мы непреложно, или нас Воскресением наше упование только поманит. Поманила Ева Адама яблоком! Все друг друга манят! Идут впереди и зовут за собой! Вот звезда, Полярная, путеводная, Вифлеемская! Она - жизнь и свет человеков! И мы идём, летим на свет её! Медведь мой, воскресни! Живи, не забывай меня, Ксенью твою! А я помолюсь за тебя.
А я люблю тебя, зимнее, голое Солнце моё! Красная площадь моя! Кремль, зубчатые стены, морковь хрусткая, зубцы чеснока! Пляшут, пляшут мальчишки на площади! Снуют меж торговых рядов! Крадут с лотков апельсины, гранаты, золотую облепиху, дымящуюся репу варёную, раков варёных красных, куски резаной чёрной, как полночь, паюсной икры величиною с добрый кирпич! Крадут, хулиганы, всё, что можно украсть! Жизнь самоё - крадут! И правильно! Не скрадёшь - не попразднуешь! Давай, ребятня, налетай! Вон лежит круглый, колесом, каравай! А вон бабы продают печёных птичек: синичек, уточек, жавороночков. Для колядок! Эх, пойдёт! Тащи, не зевай! Самолучшие! Сладкого теста! Укусишь - и как заново родился!
Заново... заново...
Всё, родимый. Заканчиваю. Послание ли это? Речь ли сбивчивая, разговор полнощный? Что есть слова? Всё в слове, и ничего в слове: заглянешь сзади слов, а там великая пустота, полнощный звёздный Мiръ, словам не подвластный. Разве жизнь - это слово? Как бы не так! Жизнь... Селёдка, на доске разрезанная, радужная. Вино в еловой кружке, и кружка вином пропахла и красного цвета стала. Ломоть ржаного, влажный, опилки в нём торчат, лебеда и жмых, такой хлеб, как надо, нынешний, военный. Крик младенца из пелён, кровью испятнанных. Лопата, вся в грязи, ею только что могилу копали. Ёлка, ах, вот она, ёлка, вся гирляндами обверчена, серебряным дождём обкручена, медными орехами и золочёными шишками увешана, грибами красными утыкана, а фонарики лазурные!.. а мышки!.. а рыбы златые меж колких иголок!.. а жемчуга, а раковины с нутром сердоликовым... а кошки и собаки картонные, гуашью да серебрянкой крашенные, а свечки самодельные из воска церковного, а младенчики из клеёной ваты в колыбельках стеклянных... а богатыри, снежком щедро обсыпанные... а царевны в кокошниках, смарагды вечной зеленью сияют... а звёзды, звёзды красные, жёлтые, синие, лиловые... звёзды белоснежные... звёзды золотые, золотей Богородичной чудотворной иконы Чимеевской... Да ведь это наша с тобою семейная, домашняя наша ёлка, любимый... Не было у нас такой... никогда... А может, когда-нибудь - будет... На площади на Красной - из снега вырастет: будет...
Всё. Прощай. Не поминай лихом. Да нет на нас лиха. Лихо - там, в Аду. А мы - в Раю.
И бой завтрашний, не смейся, Рай. Не боюсь его. Страха не страшусь. Смерти не боюсь. Сто раз она приходила. Воскресение, вот за что молюсь. И ты, родной, там, в земле, в небесах, в Иномiрии, молись за меня.
СМЕРТЬ БЛАЖЕННОЙ НА ВОЙНЕ
Бой гремел. Пушки палили беспрерывно. Снаряды и мины летели. Приземлялись, разрывались, разносили в клочья здания, избы, руины, поднимали ввысь, в сумрак небес, необъятные веера мёрзлой земли. Война и зима. Зима и Война. Всё как всегда. И нет конца. И зачем жить, если Война суждена? Почему люди убивают людей? Что, кто заставляет их это делать?
Бой гремел, и в том бою убили Блаженную. Её убили просто и незаметно. Буднично. Как в любом бою: бой это работа. Тяжкая, грязная, кровавая. Работа смерти. Не всех, кто погиб в бою, упомнишь. Многие без вести пропадают. Так и отправляют родне конверт: без вести боец пропал, не взыщите. Война. Ксения всё знала про себя. Она себя не берегла: а зачем, коли судьба известна?
Она хоронилась вместе с другими бойцами в окопе. Враг наступал. Она сорвала с головы и бросила на землю пилотку. Её густые, сизо-седые косы рассыпались по плечам и спине. Солдат протянул ей каску: надень!.. - она улыбнулась и рукой махнула. Сунула руку за пазуху, вытащила из-под гимнастёрки странный бирюзовый крестик и пылко, крепко его поцеловала. И так ещё немного посидела на земле, в окопной грязи, прижавшись к нательному старинному кресту губами. И не успел никто ничего понять, как быстро, ловко, в солдатских болотных портках, в сапогах, обляпанных сырою землёй, она вылезла из окопа и выпрямилась в полный рост.
В рост! Да! Только так! Не гнуться! Не сгибаться! Не кланяться врагу! Не бояться! Смело! Ну! Вперед!
- В атаку! За мной!
Её чистый, звонкий голос взвился в мрачное, в рванье бегущих туч, вечереющее небо.
Она закинула лицо и ещё успела подумать: снеговые тучи, ещё немного, и снег пойдёт, густо повалит, это зимняя гроза надвигается, - как полетел град пуль, да, началась железная гроза, стальной снег падал и всё заметал, и тело Ксении, поднявшей бойцов в атаку, изрешетило пулями всё, напрочь, - а за ней уже страшной орущей волной бежали бойцы, катили диким валом, хлестал людской прибой, гремели выстрелы и надвигались крики, все кричали хором, не пойми что, взбадривали себя хриплыми воплями, высвобождали ярость, вместе с криком излетал из груди последний страх, они все тоже уже ничего не боялись, и они бежали, дико вопя, по грязи, по камням, по дикому полю, по снегам, по насту, по Ксении, что животом вниз валялась, расстрелянная сотней пуль, на поле боя, и уже ничего не видала, не слыхала, и лишь земля одна, к ней она мёртвым лицом прижалась, видела её живую улыбку, недвижную, навеки застывшую, нежную, радостную, - да, полная чистой радости, лежала она, убитая, на широком поле Зимней Войны, и люди бежали в атаку мимо неё и по ней, бежали над ней, по воздуху над её затылком, седыми волосами и ногами в тяжёлых сапогах, велики ей были те сапоги, и в носки она напихала ваты из санитарной сумки, и под пятки подложила вату, - бежали вдаль, по Войне, бежали над Войной, по небесам, по грядущему, странному, непонятному Мiру бежали, бежать было надо всегда, не останавливаться, бежать и сражаться, бежать и побеждать, - и там, во мрачных вечерних небесах, на миг разошлись под порывом ветра тучи, и не видели стреляющие друг во друга люди, как ярко, слепяще вспыхнула над ними, над политым кровью и усеянным костями полем боя крупная, как Райский плод, радужная звезда.
Она испускала самоцветное сияние, дрожала на морозе и била в воюющих людей острыми, отчаянными лучами.
И оттуда, с небес, она увидела лежащую на земле ничком бедную мёртвую Ксению и заплакала над ней.
РАЙ ГОСПОДЕНЬ НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ
И настал великий день.
Василию-нагоходцу, сыну Медведя-Царя, зимнему юроду, голому бродяге, был подарок Господень: видение Рая на Красной, посреди Москвы, площади.
Кончилась ли Война? Никто не знал.
Как воскрес Василий? Никто не знал.
Да и знать не хотел. А он тем паче.
Он видел Рай в лицо. Невероятен был шумящий, шелестящий среди зимы глянцевыми гладкими листьями Рай; светящиеся розовыми и смуглыми телами, странные нагие женщины появлялись из пустоты, из сна - нет, не на площади, на её утоптанном снегу, а летели в небесах, грациозно, как ёлочные игрушки, переворачиваясь и тихо, жемчужно смеясь. Василий думал, у них крылья вспыхивают за плечами, а это были всего лишь госпитальные, с Войны, простынки, и валились с их нежных тонких рук во снег обручальные колечки и тут же прорастали в сугробах тонкими, нежными ростками: то ли водоросли, то ли травы, то ли кусты будущие, то ли камыши на бреге снежного озера. Дыни по снегу сами катились, ногами никто не толкал, померанцы красно-весёлые, сливы лазуритовые, их навезли на площадной рынок купцы из Астрахани ханской, из Самарканда колдовского, сгрузили с расшив купецких, да сами они по снежку и попрыгали: лови!.. вон какие крупные, крупнее кролика, крупнее глухаря подстреленного!.. А вот и глухари: охотники их за лапы связанные торговать несли, мёртвеньких, а тут, в Раю, они немедля оживали да сами, хвосты роскошные распуская, и взвивались в небеса сапфировые, так зенитом слепящие, глаз от сиянья полдневного слезится, жмурится!
Рай... до чего сладкий... до чего медовый, сиропный, маковый, печёною сдобной завитушкой закрученный да из печи Боговой - для человека!.. - вынутый... Для чего ты, Рай, все века люди думали-гадали. А вот ты для чего! Для нас, человеков, Богом и рождён! Чтобы мы наконец в тебя, Рай, отерев от грязи ножонки перед дверью в твою немыслимую, необъятную, чистейшую избу, вошли!
И здесь - в Раю - навек - остались...
Тигры! Львы! Это раньше, раньше хищники людей терзали, на куски рвали! А теперь ребятёнок, шубейка расстегнута, жарко в Раю, хоть и снег больно блестит, обнимает волка и целует в холку! Ах, волк! Не вонзай зубищи твои в дитятю! А благослови его лесным рыком твоим, положи ему на плечо тяжёлую лапу твою! И ребятёнок её возьмет во две ручонки да поцелует. Таковы Райские законы! Господи, Господи... и вон она, вон любовь... в тени стены Кремлёвской... прямо под красными морковными башнями... под алыми звёздами, кровь в них струится, стекает по крепко, ладно уложенным кирпичам на мохнатый синий снег... под чесночинками каменными, зубцами смеющимися... Господи, да как же это пережить, ведь глядим мы на любовь в Раю и не узнаём её в лицо, ох, нет, вот теперь - узнаём... мы её в детстве - вот такую - во снах наших горячечных видали...
Глядел нагой Василий, во шкуру медвежью завернувшись, как в сугробе, под Кремлёвской стеной, лежат и обнимаются муж и жена. Целуют друг друга, милуют. Гладят по лицу, по плечам, по груди; исцеловывают родную плоть так, как в церкви молящийся благоговейно целует святую икону. На запястьях жены браслеты горят восходящей во снежных полях зимней радугой. Муж главу на грудь жены радостно положил да так и застыл, счастливый; и она положила ладонь ему на затылок и замерла, улыбаясь; и так застыли оба. Переливались во снегу их нагие, чистые как речной жемчуг тела. Две жемчужины! Два сокровища! Застыли в любви, и любовь явилась оборотным ликом смерти, словно бы на незримую сторону Луны Василий тайно поглядел - и подглядел там Божию тайну: ту, что зреть смертному нельзя, а только Богу, - и вот Бог показал ему жемчуг любви, с голой груди струящийся, в ладонь скользящий, наземь, на снег валящийся, - двигающийся, ласкающий, дышащий, неизвестно кем на нитку жизни нанизанный.
Кто нас всех на нить страданья нанизал?! Вот же она, предвечная радость! Рай!
Тут муж жену целовал сотни лет напролёт. Тут счастливые дети водили по всей площади хороводы; вбок повел Василий плачущими от великой радости глазами, и увидел - рядом с собою, напротив родимой Спасской башни - мохнатую зверицу, Рождественскую ёлку! Рождество Твое, Христе Божие! Неужто вернулось?! А мы-то думали, тебя на Войне убили! А вот ты где, Рождество наше возлюбленное, в Раю! А и где же тебе-то и быть! Дети шли оголтелым, пляшущим хороводом вокруг густо, щедро, по-Царски наряженной ёлки. Да и была ель - площадная Царица. Ко свадьбе её нарядили! Ко свадьбе Господней! Не счесть игрушек, забавок! Вот стремительная меч-рыба плывет, колючие волчьи ветви острой молнией разрезая. Вот боярышня в кике деревянная, нарисованные глазки косят лукаво, старик-крестьянин её ножом из полена вытачивал, старуха, жёнка его морщинистая, красавице платья шила из лоскутков атласных, бусами рябиновыми, ожерельями из вишнёвых косточек шею древняную украшала! Вот снежинка, осыпанная алмазными блестками, глядит озорно, светится улыбкой, губки суриком намазюканные, щёчки румянами натёртые, - не снежинка, а настоящий Серафим, а крылья-то где? А крылья вот! Птицы, птицы; множество их, клеили их и нитками суровыми сшивали, а они взяли да превратились в настоящих, перья топорщатся, клювы навострены, хвосты по ветру распущены - летят! Взмывают с изумрудных, мрачных ветвей вечной ели прямо туда, в мощную безбрежную синь! Что синее, волшебней неба? Только ель, колючая, зверья, хвойный малахит, Ангельская ель Рождества!
А и что же там, сзади, за елью... за еловой тенью... за краснокирпичною, острозубой стеной... не разглядеть... ох, Господи, нет... нет...
Огонь!
Пожар!
А люди, люди-то почему с площади не уходят!
Почему они продолжают тут танцевать, ноги до небес вздёргивая, почему по снегу шары каспийских арбузов, самарских помидоров и кавказских гранатов катают... почему зажигают пучки свечей тёмного воску, белого парафина, и высоко воздымают, хохоча от радости, - что они там свечами освещают, ведь так много здесь Солнца, в Раю, здесь любую еловую иголочку, любую малюсенькую сливу, из торбы на снег упавшую, можно рассмотреть!.. - все пляшут со свечами в руках, все взахлёб поют великие Райские песни! Господи, да что ж это такое! За их спинами пожар, огонь идёт стеной, а они, они-то, сумасшедшие, всё пляшут и пляшут!
Василий хотел крикнуть им: бегите!.. бегите с площади, ведь на вас прямиком идёт огонь Войны!.. - и не мог; рот его как воском залепило; он изумлённо оглядывал пляшущую толпу, Кремль, стену, обнявшихся в снегу пылких возлюбленных, летящих девушек и юношей, на глазах становящихся Ангелами, кубово-синее небо без дна, а Спасская башня превращалась в бочонок с мёдом и катилась ему под ноги, и проливался из дырки в бочонке на снег жёлтый мёд, и густел на морозе, и вставали на колени дети и собаки и в снегу льющийся ручьём мёд лизали, на пальцы наматывали, снежком заедали, сладко утирались! Праздник! Рай пресветлый! Медовый Рай! Медовый псалом пой!
А огонь вставал за спинами пляшущих всё выше и выше, столбами поднимался, в зенит уходя, выл, гудел, надвигался, но странный был тот огонь, он не жёг, а ласкал, не уничтожал, а - жизнью дышал!
И Василия прошибла и чуть не повергла наземь, во снег, догадка: Райский огонь!
Великий Райский пожар Москвы! Подожгли Москву последние святые!
Где, где они, чуть не кричал он, метался по снежной площади, пылающей весёлым перламутром вьюги, да где же они?!.. - кричал он ёлке, закинув лик к её достославной верхушке, а там, на еловой верхотуре, торчала ещё так недавно могучая золотая, ярче Солнца, еловая шишка, величиною с дыню, а теперь, людие, глядите-ка, - звезда горит! Красная! Пятилучёвая! То ли пять лучей, а то ли все сто двадцать пять! Никому не счесть никогда! Из сердца звезды выходят лучи; эй, звезда, ты ж всезнайка, скажи мне, скажи, матушка небесная, сестра Богородицына, где те святые?.. идут ли, поют ли, а может, где прячутся-хоронятся от сглаза, может, нищими неприметными, попрошайками в отрепьях у Спасских, у Боровицких ворот стоят?! Руку тянут?.. дай, подай...
Василий метнулся в разверстые, дышащие пустой чернотой, обитые медью мощные двери собора Покрова Богородицы. Вбежал - и обомлел! Павлины слепили сапфиром и златыми глазами в узорочье хвостов, слетали со стен. Фрески пылали радостью. А иконостас - горел! Да, горел он синим, красным, жёлтым, алмазным огнём, огонь бежал по плитам собора, выбегал на вольную волю широкой площади, столбами восставал над головами людей! И не обжигало пламя! Василий благословил дрожащею рукой горящий иконостас. Еле различал лики святых. А они - шагали - вперёд!
Шагали - с иконостаса - вниз! К людям!
Ибо сами люди, люди были они.
Из глубины пророческого чина, чина праотцев восставала мощнейшим, упоительным солнечным столбом - и слетала к людям, паря над нимбами святых, немыслимой величины Птица: громадная Птица, размером с Луну, а быть может, с Землю, а верней, с целое, рождающее свет Солнце; всмотрелся Василий в косящий радостный глаз её, в раскрытый в заливистом пенье золочёный клюв, в размах небесных крыльев, верх ясно-алый, испод мрачно-синий, а шея, шея вся - лазурь чистейшая, цвет небосвода, цвет юной любви, цвет весенней реки в пору разлива! А лапы-когти растопыренные серебрянкой сияют; и летит она прямо на Василия, на единственного, в толпе молящихся в тулупах и зипунах, голого старика, со шкурой медвежачьей на мосластых плечах, и возговорит человечьим голосом та Птица: ах, Василий-Царь, Василий-юрод, Василий-нагоходец Московский, Василий-пророк, вот притекли к тебе все русския души живыя, и я прилетела, роскошная Птица, рыдальная Голубица, рожальная Синица, а попросту я знаешь кто?.. как звать меня?.. догадайся!.. сам ты ждал меня весь Ад!.. по Аду страдальному шёл ко мне!.. Зимнюю Войну насквозь ради меня прошёл!.. и ты не узнаёшь меня!.. да ты меня - всему народу предсказал!.. и что, Василий!.. давай, поименуй священным именем меня!.. назови!.. всем назови!.. пред всеми имя моё - выкрикни!.. и запомнят люди!.. на веки вечные запомнят!..
И задрал главу лохматую, длинновласую Василий выше, ещё выше, в зенит купола уж глядел, зверьи сощурясь, в тот синий воздух, где под куполом парил наиглавнейший святой, наисвятейший Царь Небес и планеты грозной, слёзной, Христос Пантократор, - а богомаза того, что лик могучего Спаса на выгибе купола малевал, на висельце вздернули: никогда боле такого не намалюешь!.. - а зодчему тому, Барме-великому-пьянице, что храм возведёт - мешок с монетами заполучит - да по кабакам со товарищи шатается по всей Москве красной да белокаменной, очи кинжалом выкололи: а не построишь боле, слепец, такого-то славного собора! Лишь один он, собор Покрова Богородицы, у Бога на вьюжной ладони!
И разинул Василий-нагоходец рот шире варежки, и набрал в грудь синего пьяного, свечным нагаром пахнущего воздуха, и вытянул руки вперёд, как слепой, и стал зреть всё, всё, и даже то, чего смертному зреть нельзя, а лишь безсмертному разрешено, и завопил, будто на помощь звал, радостно, могуче, криком времена пронзая, и гулко отдался крик его в апсидах и нишах собора, в подкупольной выси, дрожащей и звёздной:
- Феникс-Рай имя тебе! А иначе Жар-Птица!
Расхохоталась Птица Феникс, ещё шире раскинула крылья, алые сверху, синие снизу, торжественно надула зоб, раздула небесные перья, и развернулся пред Василием и пред всем народом, кто лбы себе крестил, кто на коленях стоял и благодарно плакал: спасибо, Господь, я на Зимней Войне жив остался!.. - всемiрный, всеводный, всеземельный Птицы Феникса хвост, гуще всех сапфировых павлиньих хвостов, искристей многозвёздного неба, и глядели на людей из развёрнутого на пол-Мiра хвоста золотые и густо-синие глаза, и дрожали зелёные перья лесов и садов, а может, изумрудные иглы площадной ели; Птица Феникс обращалась в безсмертную ель, сплошь, от маковки до золотых кавалерийских шпор на когтистых лапах, украшали её старинные игрушки: сами их люди делали, сами ночами мастерили влюбленные в ёлку народы, сами, своими руками клеили и скрепляли, красили и вышивали, - а на голове у Птицы Феникса сама собою выросла из взлохмаченных перьев, явилась корона, маленькая, весёлая, сверкающая, а может, то была не Царская корона, а крохотная живая птичка колибри, ведь она век живет в Раю, не грех и во снежной Москве пожить, почирикать в метели, поплясать крестами-лапками на резучем снегу!
А святые сходили с иконостаса. Спускались. Приближались. Господи, какие же они были родные! Всех узнавал потрясённый Василий. И спасителей его и матери Марины - парня-цыгана, в красной рубашоночке, с золотой серьгой в ухе, и священника в чёрной старой застиранной рясе, что вырвали мальчонку и бабу из смерти когтищ. И белобородого старца-повара, что на кухне Царской его вкусности стряпать учил. И мальчишку того, что в избе, где шёл военный совет, безотрывно, будто молился, глядел на него. И танкистов его верных, а вот рядышком шли они, огнекрылые его солдаты, ступали тяжко по отвоёванной земле в чугунных грязных сапогах, а глаза горели у них ясные, смелые, чистые, лучами горние сферы пронзая. И ту безрукую девочку, мученицу, внутри разбомбленной храмины на самом дне Ада. И ту старуху, что сматывала шерсть в клубок на пороге разрушенного дома, пока он падал из подбитого зениткой самолёта.
Всех видел. Всех любил. Всех неслышным шёпотом называл поименно.
Ну и что, имён не знал! Разве в именах дело! Все были Жар-Птицы, ибо возродились из пепла. Все были - Рай, ибо Рай и состоит из таких вот святых, кто не именует себя святым. Тише воды, ниже травы, ярче огня. Святей вас нет никого для меня!
Святые шли, шли и шли. Надвигались.
И впереди шла мать Марина, матерь его, святая.
И держала она за руку прекрасного охотника; борода густая; власы по плечам текут; сапоги до колен болотные; ягдташ на длинном, исцарапанном ремне висит через плечо; ворот холщовой рубахи расстёгнут на морозе, от тела пышет древний подземный жар. Жар берлоги. Жар варёной медовухи. Объятий с бабой полнощный жар. Звёздный жар - на морозе, в синем мраке, под выстрелами, в разорванном ветром сугробном одеяле.
А на плечи охотника накинута шкура мрачная, ночи темнее, шкура мохнатая, шкура - лес-тайга, и шумит на ветру; шкура медвежья. И, чем ближе охотник тот подходит, тем явственней на лбу его различает Василий Царский обруч с золотыми зубцами; и тем плотнее шкура ему ко плечам, к спине прилипает, и вот уж она в кожу охотника, в рубаху его врастает, и всего его, с ног до головы, облипает, обнимает, и вот он уже в шкуре той - не человек, а Медведь!
- Медведюшка!.. отченька...
Повалился Василий на колени. Глядел на Медведя. Медведь лапой бережно сильную руку Марины на весу держал. Вёл, будто в танце; будто к венцу.
А дверь, дверь в собор настежь открыта, и, ветер, заходи не хочу, гуляй тут, бешенствуй, цари напропалую! Надвигались на Василия святые, и все были святые в Раю, и все были Цари - и люди, и звери, и птицы, и жуки, и пауки, и рыбы, и змеи, и кони, и коровы! Да, Цари, Цари были все, и где сейчас пребывал родной Василию и всему народу русскому нынешний Царь, не ведал он; каждый в Раю был Царём, и каждому дана была великая, радостная Вселенская власть!
И понял тут Василий: Война каждого, каждого сделала Царём.
Царём своей жизни. Царём своей судьбы. Царём неистового Времени своего, оно же не проклято тобою, а милостиво принято душой, прижато к телу твоему, к сердцу, жадно бьющемуся. Царём родных и близких твоих, без тебя они пропадут, тобой они спасутся, и, сознавая это, ты ещё сильней, ещё мощнее царствуешь, заботясь о них, лелея их и пестуя их.
Царём войска твоего верного, армии твоей, подначальных твоих бесстрашных, ибо бесстрашие слуг Царя - залог смелости Царя; храбрость подчинённых Царя - геройство и победа земли, коей правит Царь. Армия есть Царь, и Царь есть армия. Неразрывны они. Не расплести. Не разрубить.
Святые, сиречь Цари, шли на Василия войском солнечным, золотым, надвигались, обнимали его, окружали, входили, вбегали в собор люди с площади, запрудили входы и выходы, наводнили гулкую расписную пустоту собора, его ниши и притворы, толкались у амвона, тянули к святым, сходящим с иконостаса, руки и губы - обнять! целовать!.. - а Василий шёл навстречу им, и вот он вошёл в их цветную, многолюдную, колышущуюся руками, ликами и одеждами, живую глубину, и глубина та вобрала, всосала его, нимбы над затылками плыли, как золотые лодки, золотые листья небесных кувшинок, он расставил руки, раскинул, обнять идущих хотел, вон того, нет, вот эту, да всех хочу сгрести в один живой ком, пригрудить, прижаться, родной жар ощутить, - и вдруг будто кто подхватил его под ноги, под колени, стал возносить, всё выше и выше, он ногами перебирал, ему казалось, он шёл, по воздуху ступал, да, он шёл воистину, поднимался по воздушным ступеням, он - восходил!
Он восходил на фреску в соборе Покрова Богородицы, что на Красной площади, возлетал, вклеивался в гущину и золотые искры цветущего, бьющегося на зимнем ветру самоцветного Рая.
Оглянулся. Глазам не верил.
- Ксения!..
Его Блаженная, улыбаясь во весь рот, шла рядом с ним.
Живая. Вот всё тот же мешок на плечах, с дырой для башки и двумя дырами для рук. Всё те же ножонки голые-босые, руки в цыпках от мороза. Космы всё те же. Прежде златые, нынче чёрно-сребряные, пряди густо, скорбно перевиты ветром, ночные, сновиденные.
Он протянул к ней руку.
И в этот же миг она, смеяся белозубо, тоже руку протянула ему.
Руки их в ладанном, горячем воздухе столкнулись. На стене. На купола изгибе. Рядом грохотала Война; побивали солдаты камнями казнимых; в белой рубахе стоял на ветру покаянник, горящую свечу ко груди прижимал. В котле святого мученика варили и вилами в кипящем масле переворачивали. А он не кричал, а улыбался, Христа хваля. Белая лошадь тащила впряжённую в нее кошёвку, ярким ковром укрытую, розы по ковру бежали вдаль, в небеса, ромашки густо расцветали; а в кошёвке сидели богато наряженные влюблённые, целовались самозабвенно. Стреляли воины в нагого юношу, привязанного к скале. Стрелы вонзались в тело, и текла яркая, страшная кровь! А рядом, лишь шаг шагни, среди цветущих маков, на ярко-зелёной лужайке юноши плясали вприсядку, девицы шли-завивались в сияющем хороводе! Солдат с гнедого конька вниз головою валился, раненый, хрипящий! А рядом священник в рясе жениха да невесту венчал, златые венцы над смиренными их головами держал! И пел им, счастливо, громоподобно: Исайя, ликуй! И тут же подхватывали сей мотив старательные певчие, мальчики в льняных рубашонках, русоволосые девочки в васильковых коротких, по колено, понёвах, звенели высокенькими голосишками, досягающими Солнца и звёзд: Исаие, ликуй!.. Дева име во чреве, и роди Сына Еммануила, Бога же и человека! Восток имя Ему! Его же величающе, Деву ублажаем!..
Крепко взялись Василий и Ксения за руки. Сжал он её руку. Она его руку сжала.
- Да ты разве жива?..
- И ты ведь жив!
- Я знал! Я знал, ты...
- Молчи, родной! Блаженный! Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых!
Они поцеловались летящими улыбками. Просвеченными внутренним Солнцем, прозрачными, небесными глазами.
И пошли, пошли по фреске, жить они были век на той фреске готовы, готовы и сойти, опять в гущу народа по горло окунуться, в Рай, да хоть бы и во Ад, разницы нет, ведь всё им внятно, всё пройдено, ногами босыми истоптано, каждая тропиночка знакома, что во страдании, что в радости.
- Василий! Хочешь век вечный жить в Раю?!
- Хочу!
- Будешь! Идём!
- Рука какая у тебя горячая... пламя...
- Видишь огонь вокруг? Он боле ничего не сожжёт. Ни зверей. Ни людей. Ни города. Ни камни. Он благословенный. Он - знаешь, что? Благодать!
- Благодать...
- Шагай! Прямо по огню! Не бойся! Он горит, тебе под ноги стелется. Он дорога твоя! И моя! Вместе идём!
Они оба ступили на огонь, на лижущие ветер длинные языки пламени, золото растеклось жидкой сталью, легло под их ступни золотым горячим ковром, и так шли они, взявшись за руки, улыбаясь, глядя лишь вперёд, не оглядываясь.
А под ними, справа и слева, сверху и снизу, спереди и сзади, гудел, сиял и переливался Рай - Мiръ, сташий Раем, Война, ставшая Миромъ, земля, ставшая небом. Попутали они небо и землю, и так надо это было.
И обнял Василий Ксению за плечи, и так шли они, крепко обнявшись, как муж и жена, и это им пели-верещали счастливые певчие на травном, цветочном клиросе: Исайя, ликуй!.. - и шёпотом спрашивал Василий у возлюбленной Блаженной:
- Куда мы идем, Блаженная моя?.. В огонь ли?.. На небеса ли?..
- На небеса!.. А на небесах Благодатное пламя ещё сильнее горит!..
Невесомо ступали они по огню, скользили над пламенем, и тут Василий спросил Ксению:
- Ксенья моя, а где наша Диаволица?.. Не помешает ли нам она подняться в небесные чертоги Рая?..
- Погляди, - сказала Ксения и указала рукой вниз, - вон она!
Василий глянул вниз и увидал.
Они с Ксенией шли по огню, попирая Диаволицу ногами.
А рыжекосая лежала, объятая огнём, и беззвучно кричала. Серьги её расплавились в огне и стекли по щекам свинцовыми ручьями.
Там, под ногами у них, лежали чёрными брёвнами в костре и горели, горели и сгорали руины Ада и развалины Войны. И знали юрод и Блаженная: Ад и Война сгорали навек. Рай не станет их воскрешать. А у них самих уже нет сил в себя вдыхать новые силы вершить неистовое зло. Зло, и у тебя есть край! Дойдём до обрыва. Заглянем в пропасть.
А пропасти, верю, нет. Пропасть волна Райского моря захлестнула! Райский остров из воды поднялся! И скалы усыпали цветы, и на голых камнях расцвел Райский Сад. Ешь апельсин! Срывай лимон с ветки, вдыхай его, золотой! Сквозь метель! Сквозь близкую смерть! Мы идём в Рай, и огонь выстилает нам дорогу радости нашей.
- Мы с тобой, Василий, земля.
- Да, Ксенья, мы земля. Обниму тебя крепче. Держись. Мы земля, и небо наше.
- Мы воздымаемся из Ада в Рай. Ты так мечтал?
- Я всю жизнь молился об этом.
- А где же наш Царь? Неужели он не придёт приветствовать нас, счастливых?
- Он не увидит нас. Он слеп.
- Что кричит там, внизу, в огне, Диаволица у нас под ногами?
- Слушай... не слышу я...
Они притихли, шли, обнявшись, молча по огненным струям, и тут услышали сдавленные, дальние крики Катерины:
- Свадьба!.. Свадьба!.. Царя мне!.. Жениха моего мне!.. Немедля!.. Сейчас!..
Ксения обернула лик к Василию. Благодать текла мvром и златом из глаз её.
- Царя кличет. Умереть, видать, с ним рядом хочет. Хотела быть владычицей, Царицей. А умирает, как простая крестьянка, казнимая на костре за старую веру.
Василий повел глазами вбок. Наткнулись его глаза на Царя. Царь-то стоял совсем близко. Руку протяни - и коснись.
Он стоял слепой. Жалкий. Не зрел уже ничего. Поводил в воздухе руками. Искал друга, поддержку, жалость чужую, живое чужое тепло. Не было никого рядом. Огонь полыхал под ногами. Диаволица корчилась там, внизу, в безумии пламени. Василий шагнул к Царю и встал перед ним на колени. На коленях стоять! Человек способен на такое чудо. Стать на колени - сказать о любви. Стать на колени - превратиться в молитву.
- Царь... это я... слышишь... самое лучшее блюдо моё я тебе, Царь, сейчас приготовлю... самое вкусное... самое счастливое... Ешь да похваливай... Хочешь ешь, хочешь пачкайся... Это ты приказал Катерине... выстрелить в мой самолёт?..
Василий знал, что Царь ему ответит.
Царь медленно поднял слабые, дрожащие, незрячие руки и положил их на плечи коленопреклонённого Василия. Веки прикрыл. Под веками глаза его косили, искали сущий Мiръ, что видеть не могли. Плыли из полузакрытых очей мелкие золотые слёзы, блёсны Времени. Плыл алый плащ, Царский истрёпанный пурпур, на сутулые, дрожащие плечи, на горбатую спину. Бледнел и гас бледный лик. Седые тонкие, жалкие волосы липли к щекам. Морщины шептали туманными, иноземными письменами о самом близком и родном.
- Да. Я.
- Зачем ты захотел убить меня, Царь?
- Затем... что лучше слуги не было у меня никогда... и ты, ты был верен мне, как никто... и ты был лучше, чище, выше меня... и я возжелал, чтобы больше не было такого, как ты, никогда и нигде... ни у меня, ни у другого Царя... Чтобы ты был - единственный... Единственным и остался... Чтобы больше никто, никто в целом свете... не мог сотворить такой чудесный собор любви, борьбы, святой Зимней Войны... преданности... чести... гордости...
- Я понял. Так же, как Барме ты приказал глаза выколоть подо лбом!.. чтобы больше никто... никогда...
- Да! - Царь, положив руки на плечи Василию, дрожал и плакал, качаясь травой на небесном ветру. - Чтобы никто! Никогда! Чтобы только я... тобой владел... и чтобы ты и в смерти... мне принадлежал... А ты... ты меня предал... ты... ты - не умер!..
- Да. Не могу я погибнуть по чужому веленью. И даже по сатанинскому. Только, Царь, по Божиему!
Царь прислушался. Задрожал в близком плаче подбородок его.
Глубоко он морозный, огненный воздух вдохнул.
- А это кто, кто рядом с тобой?.. я чую... я слышу...
- Она.
- Ксения?..
- Да!
- А на Красной моей площади, Василий, что ныне?..
- А на Красной площади твоей, Царь, Рай!
- А выведи меня на площадь мою Красную! И, хоть не вижу её въявь, услышу её, вдохну её, возьму в ладонь снег её... и так погляжу на неё!..
- Изволь, Царь-государь!
Подошла Ксения к Царю и под локоток его подхватила. Подхватил Царя Василий под другой локоток. И так, по красной дороге огня, вышли они из-под купола мощной синей и золотой Вселенной на Красную площадь, в самую сердцевину богатого, знатного, счастьем упоённого, самозабвенного Рая!
А там плясали все, все, кто мог плясать.
Плясала бешено и задорно мать Василия, лекарка Марина, держа за мохнатую лапу Царя-Медведя; выбрасывала ноги туда и сюда, вопила на радостях, платок её в снег с плеч свалился, а Медведь любовно облапил её, гнул, тянул, потом лапами на снег уронил, катал и валял! И подбежала весёлая Ксенья к Медведю, защёлкала пальцами, забила по снегу голыми пятками! Взяла Медведя за золотое кольцо в носу. Он встал на все четыре лапы, ревел истошно. Ксения стала выплясывать, приглашая гортанными криками Медведя сплясать с ней; Медведь встал на задние могучие лапы, переваливался с боку на бок, взрёвывал, а музыка звучала, и пела Ксения припевки зимние, колядки Рождества, а Медведюшка прыгать уже стал бешено да высоко, башкою мохнатой до неба хотел достать, внизу, под сугробами, мужики пешнями разбивали лёд на Москва-реке, а на площади девка красная, да уж седая вся, плясала с Медведём, и кувыркался зверь чёрным мохнатым колесом, а Ксении баба из толпы бросила, хохоча, рубль-империал, а она на зуб деньгу попробовала - да Медведю под танцующие толстые лапы как швырнёт!
Медведь тот солнечный, слепящий империал лапой по снегу катал. А Ксения смеялась-смеялась!
И все смеялись вокруг неё! На морозе! Белозубо! Солнцами лиц друг дружку ослепляя!
Да, слепли, слепли все от счастья великого - быть, жить в Раю!
Наконец-то! Свершилось!
- А как то случилось-то, люди?!..
- Да вот сам в толк не возьму!
- Детки, за руки возьмитеся!.. Вон она, ёлочка-то, кличет-зовёт!..
- К ней, к ней!.. Хороводом - вокруг!..
- Ёлка-то, о, Господи, высоченная, в небо дыра, што тебе Спасская башня...
И тут откуда ни возьмись выкатились под ноги Ксении, пляшущей с Медведём на снегу, медвежатки!
Три медвежонка, ах, колобки чернявые, клубки живые, шёрстка ночная, головушка шальная, пяточка смешная, вертятся-крутятся, вверх тормашками встают, на задних лапах прыгают, на передних ходят, задними в воздухе помахивают! Три медвежонка, три таёжных ребёнка! А какой из них ты, Василий?! А тебя Маринка-корзинка у груди приберегла, кусок лучший давала у стола! Песни колыбельные тебе ночью пела, пророчьи сны на веретено куделью вертела! Медведики росли, с ними и ты на краю земли! И вот вырос ты, Василий-Царь, и погиб, и воскрес! И шумит про то далёкий твой, мощный твой медвежий лес!
Блаженная наклонялась, трепала медвежаток за круглые бархатные уши. Медведики царапали-лапали её колени под мешком, силились вскарабкаться по её ногам, за мешковину цепляясь коготками, к её груди. Одного она, хохоча, подхватила, обняла, к груди прижала, в макушку поцеловала. В Раю так и надо! Жизнь в Раю такова! Живое - обласкай! К живому - снизойди! Живое - согрей на груди!
Пляска могучая на площади Красной продолжалась, и Кремль разгорался, пылал красным огнём на алмазном снегу, и ёлка сама, увешанная с колючей маковки до пяток-корневищ созвездьями игрушек, пританцовывала, желая сорваться с места, вот уже танцевала, изукрашенными лапами махала, звенела гирляндами, мигала свечками восковыми, плакала пахучей, хмельною смолой! И вот уже с места снялась, выдернула деревянную ногу из крестовины, и пошла, пошла, пошла плясать напропалую, по всей площади кругами ходить, сполохом Сиянья Полярного вспыхивать, слепя влюблённые, счастливые, бессчётные людские зрачки! Ослепнуть от счастья - каково это?! А вот же, вот, сам испытай! Стать от счастья слепым - значит видеть всё! До конца! До дна! До снежинки малой на рукаве! До капли пота на предсмертной губе! До золотого волоска на лбу младенца рождённого!
Звери и люди плясали, обнявшись. Птицы с чистого синего неба слетали к людям, садились им на плечи, укутанные в дохи и дублёнки, на затылки в лисьих шапках и льняных шалях, расшитых розанами и маками, на запястья, на руки в варежках и негнущихся голицах, и пели, пели оглушительно, чирикали, хрустальной водою журчали, трелями разливались, звенели и цвенькали, рассыпались хрустально! Птичий хор - до небес поднимался! Небеса наводнял!
- Рай, Рай...
- Экая в Раю-то радость!
- Неизбывная... радуйся, пока Рай...
- Да ведь он, Рай-то, дурачок, - теперь навсегда...
- Всё!.. Аду конец! А кто Ад насквозь пробежал - молодец!..
Хоры птиц. Рёв зверей! И венки, венки цветов живых посреди зимы! Венки девчонки надевают на башки, в снег ушанки да вязаные шалёнки швыряя! Ёлка-Мать, громадная, смоляная, лапы топыря, танцует упоённо, круги по площади очерчивает, звездою алой на верхушке людям кивает: я, мол, с вами, плясуны мои, с вами навеки! А вокруг Ели-Матери то ли с неба соскочили, то ли из-под стен Кремля попрыгали маленькие ёлочки: тьма тем ёлочек, и живые, и припрыгивают на корнях, одноногие, смешные, колючки ежино выставив, и не тронь их, а все обкручены-обверчены уж - и кто украсить колючих ребятишек успел?! - серпантином спиральным, дождём серебряным, текучим, блёстким, пушистыми хлопьями снега, россыпями слепящего мелкого льда! Льдины раскололись, в осколки ёлки нарядили! А вон голубь на ветках сидит, живой! Жизнью таёжную плясунью украшает! А вон синички-сестрички рассыпались по хвое; желтогрудые сердолики, синекрылые лазуриты! А вон лисёнок в ствол еловый всеми коготками вцепился, всеми четырьмя лапчонками ель обхватил: с ней вместе танцует! А ну-ка, лис да в Раю!
Рай для всех. Для лис. Для волков. Для медведей. Для кур, индюков. Для коров и быков - вон, вон идут тяжёлым, рогатым красным перевалом, копыта стучат, рога торчат, звёзды на спины им, на холки с небес валятся: украшают в честь Вселенского праздника. Млеко, мык долгий, продолжение рода! Рай для зверей, чтобы род свой живой во времена протянуть бесконечно. Рай для людей - вон, вон люди, волнами плещут по площади, в необъятной толпище Живого; так звали люди Рай во глубине Ада земного, так призывали, так плакали по нём: пуще быков, пуще медведей ревели отчаянно! А вот он, Рай, как близко-то оказался!
И восходила над Раем развесёлая, широкоскулая, краснощёкая Красная Луна, красный круглый лик её катался по небесам туда-сюда, всегда-никогда, и так сильно, могуче лила она красный, прекрасный свет на площадь пляшущую, сладкой радостью дышащую, что люди поднимали к Луне румяные лики и восторженные руки, а зверюшки воздымали морды, языки красные из зубастой пасти на радостях высовывая, а птиченьки щебетали захлёбно, махая крылышками, а брюшки-то у птичек красные, как Луна-Луненька-Луна, то снегири на площадь налетели, сели на ветки в опушке инея, на сугробы лазурно-синие, на Кремлёвскую стену зубчатую, на чёрную лапу Царицы-Медведицы с медвежатами, - и да и во всё птичье горлышко запели! Ты Царица небес ныне, Красная Луна! Милостива ты, а не страшна! Ты не кровушку на землю льёшь меж нами - воздымаешь себя ввысь, ровно красное знамя! Танцуй, Луна, танцуй в хороводе! Пляши, Красна Девица хмельна, да в твоём народе!..
И вышел на площадь Человек, половина хитона алая, половина хитона синяя; он протягивал голые, из-под струящегося рекой атласа, торчащие из коры веков ветви-руки в мороз, к радостной толпе, ко крикам и пляскам. Он медленно шёл, и сперва на него не оглядывался никто, не примечал его, Он светился телом, лбом, глазами - один из толпы, и Он взошёл на сугроб, облитый леденцом блистающего под Солнцем наста, а на небеси-то что творилось, Солнце пылало, а рядом звёзды горели, а рядышком весёлая Красная Луна каталась туда-сюда, то по зениту, то низко над крышами, упадала и опять подымалась, и красным ликом мерцала, а Человек стоял на верхушке сверкающего обледенелого сугроба, и надо было ему слово изронить, а Он не мог, уж слишком весело плясал народ вокруг, слишком громко орали все и пели, слишком, слишком счастливы все враз сделались в Раю!
- Никто Меня не услышит... - прошептал Он.
А Василий, хоть и далёконько на Красной площади стоял, Его - услышал.
Подкатился к Василию, чёрным шаром по снегу, Медведь-Царь. Подплясала, руки из тела хлебами выбрасывая птицам на прокорм, вспотевшая, раскрасневшаяся Ксения.
- Что ты вдаль глядишь?.. - Задыхалась Блаженная, улыбаясь, отирая лоб, усмиряя себя, прекращая пляску. - Что увидал?..
Василий заглянул Блаженной в глаза глубоко.
- Вон Он. Он - пришёл. Подкатись к Нему. К Нему - пропляши. Письменами пляски означила ты путь твой по Аду, попляши и в Раю. Подведи к Нему Медведя, батюшку моего. Хочу видеть, как Он руки в шерсть Медведю вложит.
Ксению долго просить не надо было. Схватила она глазами, улыбкой просьбу, выдохом горячим заклеймила, освятила, ладонью к сердцу прижала. И поплясала, через всю бескрайнюю площадь, к одиноко стоящему во сугробе Человеку, ибо знала, Кто такой Он, да и так и должно было это быть: ведь Он житель Рая Небеснаго, почему бы Ему не побыть чуточку земного времени жителем Рая земнаго?
Медведь катился по снегу колесом, Ксения приплясывала, и так двигались вперёд.
И вот он, сугроб. И вот Он, Человек.
...и вот Он, Бог.
Зверь и Блаженная остановились. Ксения держала Медведя за лапу, тяжело дыша, глядела на Господа.
Не тратила она много слов.
- Обнимитесь!
Сошёл Господь с ледяного сугроба, раскинул руки и Медведя крепко обнял.
И облапил Медведь Господа. И так стояли, в объятии замерев.
Ксения глядела на объятие Бога и зверя.
А поодаль возникла из снежного тумана Диаволица. Переступала босиком по снегу.
Ксения увидала её первой, средь всей слепой от счастья толпы. Невозможен был приход чертовки, на их глазах в лютом пламени до пепла сгоревшей, но вот же, шла она среди Рождественской всеприродной пляски, шла, ни на кого, ни на что не глядя, глядя тусклыми рясными очами внутрь себя. Вскинула она глаза, возгорелись они болотным призрачным огнём. Она тоже увидала Ксению. А ноги её, босые ныне, без красных щегольских сапожек Царских, драгоценных, сами шли. Сами её несли туда, куда ходить ей было от века заказано.
Господь глядел вдаль радостно, поверх пляски Всемiрной, поверх башен Кремлёвских, а вот Царь Медведь оглянулся вослед за Ксенией и тоже рыжекосую узрел.
Ближе. Всё ближе. Вот совсем близко, на расстояние протянутой руки, подошла она.
Царские атласные, бархатные тряпки не мотались на ней. Ксения всмотрелась, поняла с ужасом: на Диаволице, живой вешалке, висело её, Ксеньино, вечное скитальное платье. Её родной холщовый мешок из-под картошки, из-под мёрзлой переспелой репы!
- Боже!.. за что...
Поглядела исподлобья Диаволица на Ксению. Развела руками: мол, как тебе она я? Ты это? Или я? А может, теперь мы вместе? Мы - одно?
- Ксенья... мы... сёстры...
Ксения ясно, ярко глядела ей в глаза.
- Да ведь, может, и сёстры. Я-то тебя простила. Давно простила. А вот ты? Зачем оборотилась мною? Машкерад на праздник зимний? Нет тебе во веки веков победы в Зимней Войне, так ты меня, одну меня желаешь в прах повергнуть?..
- Сестра!.. Сестра!..
По лицу Ксении ручьями текли горячие слёзы, щёки прожигали.
- Отвечу тебе: сестра, а ты меня обнимешь, да сзади, под рёбра мне, нож военный всадишь...
- Сестра!.. Верь мне!..
Махнула Ксения рукой весело. Медведь заревел.
Господь улыбнулся светло.
- Верю. Обнимай! Убивай!
Диаволица обхватила Ксению обеими руками. Мешок притиснулся к мешку. Зеркало вошло амальгамой в зеркало. Солнце в небе горело ярко, безумно, вокруг жёлтого светила плясали ещё два, красное и лазурное, Луна пылала вьюжно, призрачно, синева густела, звёзды сыпались отчаянным просом, и не удержалась от последнего коварства рыжекосая, выхватила из холщового тайного карманишка солдатский нож, и даже не размахиваясь, хакнув коротко, всю злобу, накопленную за долгие века, выдохнув, всадила лезвиё под беззащитное Ксеньино ребро.
Кровь не успела политься. Господь вышел из объятий Медведя. Длань подъял. Затянулась рана мгновенно. Выпал на снег нож из руки Катерины. Зашаталась рыжекосая. Воздух праздника крючьями-пальцами хватала. Не удержалась на ногах. Повалилась на колени. На коленях к Медведю поползла. Господь рядом стоял, да рыжекосая ползла - к зверю.
Доползла. Лоб во снег уткнула. Красные косы её плечи ей, спину плащом укрыли.
- Зверик мой!.. Как часто я в лесах, во тайгах, во степях всем, всем земным зверям помогала!.. Выжить!.. Пастись!.. Загрызть!.. На телах поверженных, после битвы кровавой, пировать!.. Это всё я, я!.. Зверь мой лесной, божество гор и лесов и ледяных рек, прости меня!.. Я у тебя прошу прощенья, чтобы не умереть!.. Я никогда так близко к Богу не стояла. Я - от Бога - шарахалась!.. Не нужен Он мне был!.. Я и без Него с Мiром, с Войной, с человечишкой жалким, бесчестным справлялась!.. И все победы мне были по плечу!.. А тут... Тут я сплоховала. Всеми вашими силами вы, звери-птицы-люди, призвали сюда Рай!.. И я насмелилась. Я - себе изменила! Я, владычица Ада, в Рай ваш явилась! Да вот беда, жить хочу! Жить! Зверь, помни заслуги мои пред тобой! Молю, оставь мне жизнь! За меня - Господа - о милости - попроси!
Лисята, волчата, медвежата, котята, собачата, утята, цыплята плясали вокруг них. От них в танцующую толпу доносился терпкий запах еловой хвои. Господь молчал. Медведь сел у Его ног. Все стояли босые на колком снегу: Господь, Ксения, Диаволица, Медведь, а поодаль - молчащий, ждущий Василий-нагоходец.
- Звери!.. Люди!.. Неужто не узнали меня!.. Не признали средь ночи и среди дня!.. Ведь это я, я, там, в небесах!.. Всю жизнь - над вами всеми!.. На ночных часах!.. Красная я, страшная Луна!.. Хожу-брожу в ночи одна!.. Тыщу раз глядели на меня!.. Проклинали лик мой красного огня!.. А я всё румянилась!.. А я всё вас убивала!.. И всё мне было крови мало, мало!.. А вы-то и не знали: в вашей смертушке - ваше красное начало...
Диаволица, на коленях стоя, закинула к небу пылающее вечным румянцем лицо.
- Ксенья!.. Пред тобой - на коленях!.. Не убить мне тебя! Прости! Прости за всё! Да пусть я лучше престану быть Диаволицею! Пусть спадёт с меня моя Адская кожа! Пусть сгорит нутро моё краснолунное в солнечном пламени, в зимней печи Рая!
Господь улыбался. Медведь прижался холкой к Его ногами под синим, красным атласным, перламутром льющимся хитоном.
- Да будет так!
И лишь они вчетвером, Господь, Царь-Медведь, Ксения и Василий, они одни на всей многолюдной, вихрящейся в бурнопламенной пляске площади, видели, как стала с рыжекосой Катерины кожа лоскутьями, слоями сползать, как мотались на вьюжном ветру кровавые ошмётки кожи, полоски, будто кто незримый свежевал её, так охотник свежует тушу убитого зверя в тайге, сваливалась на притоптанный всеобщей пляской снег шкура Ада, и выпрастывалось наружу из отжившей, окровавленной кожи новое существо, да кто же это там такой, ой, такая, да это же тощая девчонка, да это же... Господи, прости!.. узнал Василий, узнал и задрожал... та косноязычная, иноземная девчонка в веснушках, в рубище, с тонкими смешными косками, что говорила с ним, всё про Ад на Москве разъясняя, на разрушенной площади Красной, прекрасной, среди развалин и руин...
- Дитя моё!..
Крик Василия с другого берега площадного моря достиг ушей Господа, Медведя, Ксении и худенькой девчонки. Веснушки льняными семенами разбрелись по её остренькому лисьему личику. Василий пробирался сквозь танцующую толпу, закидывал бородатый, мохнатый лик к небу, и борода его становилась крылом, на нём же он перелетал горе-беду и последнюю еловую радость.
Отроковица оглянулась. На снегу кроваво, страшно валялась отжившая Диаволицына шкура.
- Ой!..
Девчонка зажмурилась, уткнулась в колени Господа. Утирала красною полой его красного-синего шёлка дрожащее мокрое лицо.
- Не смотри туда, - прошептал Господь.
Ксения заливалась слезами, да слёз не отирала.
И подошла к ним сзади, невидимо и невесомо, Красавица в унизанной яхонтами кике, в расшитом зимним серебром парчовом апостольнике, на нежной шее Её густо, щедрыми связками, висели ожерелья жемчужные и бусы коралловые, а ещё качался на тонкой золотой цепочке бирюзовый крест, точно такой, как Ксеньей на груди всю жизнь носимый, нательный; от главы Красавицы исходил медленными копьями слепящий свет; свет вился за нею нежным вьюжным покрывалом, вспыхивал вокруг лика Её и плеч Её, и за лопатками Её радостно вставал широкими крылами. Никто не видел Царицу Небесную, да Она видела всех. Всех и каждого. Душу зрела человечью. Сердце бедное. Всякое биенье крови в исстрадавшихся жилах - слыхала. И руку смуглую, тонкую медленно поднимала. И всех людей, всех зверей и птиц, все смерти и рожденья, все снега и цветы, все войны и Мiры, весь Райский Сад, его желанные сладкие плоды, его неистовую пляску захлёбную, вселюдную - навек благословляла.
Пляска шла, летела, взлетала над землёй сумасшедшим многокрылым самолётом; в толпе, среди прочих радостных, румяных, вспотевших людей, - со лбов ушанки срывали да по мокрым смеющимся ликам, залитым слезами, потом и звёздами, вытертым мехом возили, - плясали двое: священник в рясе, хлопал её подол батюшке по ногам-сапогам, да юноша рядом с ним, цыган молодой, в красной рубахе, с золотою серьгой в мочке смуглого уха; красный атлас знаменем развевался на ветру; и услышала Ксения издали, а будто вблизи, нет, внутри, под рёбрами, в сердце, голос юрода:
Видишь, там, за сугробом, ближе к ёлке нарядной, пляшут, два мужика, один в чёрной рясе, другой в алой рубахе? Они мать и меня в далёком детстве моём от верной смерти спасли. А кто такие, и не знаю. А вот тут они! С нами! Гляди, Ксенья, гляди на них! Запомни их! Дарители жизни они и любви! И нету имён у них, ибо они - народ!
Гремела музыка, а где музыканты на площади сидели, не видно было. Только слышны пронзительные медные трубы, вопли скрипок, густые признанья в любви ласковых виолончелей. А ещё били медные тарелки. Бом-м-м-м! Звон-н-н-н-н!
- Хоронят, что ли, кого?..
Блаженная обернулась. Искала похороны глазами.
Веснушчатая белокосая девчонка показала пальцем вдаль.
- Да! Похороны это! А вы-то, глупые, разве не знаете ничего? - Она с трудом, как и раньше, говорила по-русски. - Хоронят нашего Царя! Царь-то у нас - другой будет!
Всё ближе подползал бедный, нищий, с разбитым грязным кузовом, военный грузовик. За грузовиком шествовал погребальный оркестр, музыканты грустно головы опускали, как зимние цветы с переломленными стеблями; время от времени подносили ко ртам железные трубы и камышовые дудки свои, дули в них старательно и строго, выдували последнюю жизни надежду. Головами мотали, как быки, ведомые на заклание; жаркие потёртые ушанки, казачьи папахи и старомодные меховые пирожки с затылков в грязь летели. Медь трубная пронзала и возжигала лиловый мороз. В кузове стоял изукрашенный кружевами, шелками и цветами гроб. Во гробе лежал Царь. Слепые его глаза были широко открыты. Слепыми глазами он пристально, внимательно глядел в небо. Он, мёртвый, хотел проглядеть насквозь его беспредельность. И то правда, где жизни предел? А любви? А ненависти? Нет им границы. А если им границы нет, то и смерти предела нет. Она у всех. Она для всех. Не открестишься.
Когда же он, бедный, опочить-то успел?.. вот миг назад - живенький был ещё... и вот уж хоронят... славу земную на смиренное кладбище в шатком военном грузовике везут...
Ксения взяла отроковицу за перепачканную Катерининой кровью руку.
- Как тебе новая твоя жизнь, милая?..
Низко наклонилась к голой головушке, вдохнула хлебный запах русых волосёнок, ветер взвил девчонкины тощие коски и одною, с красной ленточкой, вплетённой во вьюжные, улетающие с плеч волосишки, хлестнул Ксению по щеке.
- Хорошая новая жизнь, - со вздохом, с трудом ответила девчонка и улыбнуться попыталась. Ветер стёр улыбку, она улетела с лица воробьём. - Да только погляди-ка ты, что сейчас-то будет!
Девочка вырвала руку из руки Ксении и вихрем полетела к грузовику.
Как она запрыгнула в кузов, никто и не понял. Быстро. Как обезьянка Царская, приручённая, сахарком к ласке людской приучённая, влезла! Все люди на площади, снизу, могли видеть, как неведомая тощая, с белыми метельными косками, девчонка наклонилась над телом Царя, ручонками вмиг раскидала погребальные венки, выкинула на снег могильные бумажные цветы и бутоны живые, просунула руки под мышки мёртвому Царю и подняла его в гробу, и затрясла так, что голова его закачалась, как у фарфорового китайского бонзы, подбородок о грудную кость звенел-стучал.
Да не видали то люди. Танцевали!
- Царь, проснись... Царь, проснись! Не время нынче умирать!
Ксения, расширив небесные глаза, глядела, как вскинул Царь мёртвую голову, как мёртвый слепой, ледяной взгляд его становился живым, зрячим, отчаянным, как слёзы из воскресших глаз прозрачными письменами, сверху вниз, текли по пергаментному лику.
- Царь! - вопила девчонка во весь тощий, пронзительный голосок. - Оживай! Ведь у тебя нынче свадьба!
Царь повел слабою головой вбок. Улыбнуться пытался.
Шофер замёрзлою рукой открыл кабину, скособочился, извернулся, увидел живого Царя и грянулся в обморок, мешком повалился из кабины на снег.
- Свадьба?.. - Он прислушивался к пеплом по ветру летящему своему голосу, как к чужому. - С кем?..
- Со мной!
Ксения всё слышала. Закусила губу.
Она меня перехитрила?.. Или она навсегда, навеки превратилась в чистую душу? Где правда? Где ложь? А может, правда и ложь и вправду сёстры? Чему верить? Кому? Ад! Рай! А может, братья и они! А мы всю-то жизнь лишь и делаем, что во имя Рая - с Адом воюем! А может, Ад-то нам всем надо полюбить!.. Полюбить!.. И простить!.. Простить...
И - Войну?.. И Войну - полюбить?..
Господь стоял спокойно, недвижно. Медведь открыл пасть, вывалил малиновый яркий язык. Навстречу ему чёрными ватрушками катились его родные медвежатки, а за ними вышагивала по алмазному снежку Медведица, на ходу неуклюже, нежно-заботливо облизывала катящиеся к отцу-Медведю чёрные шары. Василий положил руку Блаженной на плечо. Бороду его взвил ветер и обмотал ею, как чёрной петлей, Ксеньину шею и грудь.
- Не бойся. Только жди. Время приучило тебя ждать. Поверь. Отпусти зверя на волю. Отпусти на волю ненависть, Ад. Только гляди. Запоминай. Память у тебя никто не отберёт. Даже если ты сейчас, скоро умрёшь, и боле не воскреснешь никогда, родится другая Ксения, через века. И воспомнит она всё, что было с тобою. А девчонку благослови. Мысленно. А хочешь, и перекрести.
Юродка руку подняла и веснушчатую девчонку широко перекрестила.
И просияла девчонка. Не скорчилась; не скукожилась; не обуглилась, не иссохла. А будто из неё лучи зачали в широкий зимний Мiръ выходить. Маленькими подвижными ручонками отстегнула она железную защёлку откидного борта, вытащила Царя из гроба, подтащила к дощатому краю, сама на землю спрыгнула первой, а Царя смешно сволокла за ноги, как куклу, и мотались у него кукольно руки, и стонал он, кряхтел, пытаясь ещё неслушным телом помочь той, что его воскресила. И вот на снежочке, морковно-хрустком, оба. И вот девчонка кладёт руку Царя себе на плечо, подлезает ему под мышку, идёт-бредёт, на себе Царя-государя, малявка, тащит!
- Господь мой! Ты глядишь на сию картину. Неужто Ты сам, Ты един сему помог?
Улыбка Ксении солнечную вьюгу озаряла.
- Я сам. Я помог сему. Воскресил же Я Лазаря. Дочь Иаира воскресил. И Царя всея Руси воскресил. Для радости воскресил. Для силы. Для - счастья!
- Счастья...
Блаженная превратилась в Господне эхо.
Относил ветер далёко от стоящих Васильеву бороду, как чёрный флаг посреди белого алмазного дворца, и вокруг них плясали люди, шли хороводом, день за днём, год за годом, свершали годовой круг и круг вековой, и пекли пирог, и подносили им кусок, и брал пирог с ладони жертвенной Господь, и вкушал, улыбаясь, и ела Ксения, смеясь, и подбредала к ним живая ёлка, и обнимала их, босых на снегу, колючими вечными ветвями.
А дети, вокруг них ошалело танцуя, пронзительно, разрывая уши и душу, кричали:
- Свадьба!.. Свадьба!.. Царская свадьба!..
И верно, немыслимая, на весь Мiръ, свадьба начиналась. Солнце брызгало обжигающим золотым маслом, рядом с небосвода падала тьма, обнимая площадь Красную, прекрасную, и вот предвечный мрак там и сям возгорался: из тумана рыбками-уклейками плыли на людей пляшущие вспышки, серебряные, медные, кроваво-турмалиновые, призрачно-перламутровые, и вот наливались огни живой кровью, являлись в них яркость, ярость и страх, укрупнялись они, росли и вырастали, и вот уже площадные снега заливало слепяще-оранжевой, похоронно-багровой, крестильно-алой небесного света рекой! Красные огни! А средь них - синие блики! Полощетесь, по нежно-снежной площади, красные флаги! Рытый Царский бархат, в нищенских конурах наспех кривою иглой прошитый святой атлас! Сумасшествует красный цвет. Ярится красный свет. Танцует красный снег! Пляшут красные снежинки в красном вихре! Царь, воскресший из мертвых, и веснушчатая тощая отроковица стояли средь площади, обнявшись.
И покатились на серебряную сковороду площади толстые круглые медвежата, а глядь, это уже скоморохи! Облепили скоморохи цветными жужжащими пчёлами жениха и невесту. Звенели на синих, алых колпаках безумные бубенцы! Мелькали живые колеса, валялись скоморохи в снегу и снова вскакивали, ноги-руки крутились, спины-груди вращались, треухи-колпаки-капюшоны втаптывались в сугробы, а один скоморох на площадь выкатился в колесе - да в том, в коем на Лобном месте колесуют: а вот упёрся внутри страшного колеса руками-ногами - и катился, катился по снегу, как бельчонок в дитячьем забавном колесе! Туз бубновый на тулупе нарисован! Туз треф - на потном лбу! Намотали на палки липовое лыко, размахивали ими, мочало поджигали, скалясь, перебрасывались горящими факелами! Народ, народ! Веселящийся, пьяно-румяный! Щёки-яблоки, рты-ягоды! Тётки свеклой скулы, подмигивая, натирают. Девицы, в зеркалишки глядючись, - соком морковным. Вон болярыня павой плывёт по снегам, а на кике у ней павлинье перо зелёное торчит, синий веер, золотое пронзительное око! А вон боярышня юная на свадьбу Царскую спешит, да как бы чего тут важного не пропустить, ножонками перебирает, мечтает вина за Царское счастие испить, а на плече у неё петух сидит, в развышитое сукно кафтанчика когтями вцепился; крылья святые, лапы золотые!
Народ мой, народ! Эх, веселиться ты умеешь! Не отнимет никто веселия твоего у тебя! Сквозь все войны, весь Ад кромешный. Сквозь последнюю Зимнюю Войну, всю исхлёбанную из солдатского прокопчённого котла, - взвеселимся, людие, Рождества день! Долго же мы ждали, когда родимся вновь!
Дудки-жалейки, свирели заозёрные, сопелки святочные, скрипочки сельские, самодельные, рога охотничьи, горны военные - всё гудело, свистело, брямкало, свиристело, рассыпалось хрустальным звоном, недуром орало, медно и дико, зверем чащобным, вепрем болотным! А потом разливалось переборами арф - да, с арфами шествовали на Царскую свадьбу детки, подобные Ангелам, да в заштатных одежонках, да в штопаных-перештопанных нищенских лохмотьях, - а музыка, музыка-то смело, счастливо рвалась из-под тонюсеньких пальчиков их ребячьих, разливалась по Красной площади соком, вином, сиропом, брагой, мёдом забродившим, пьяным!
А пяточки босые сверкали, поцелованные Солнцем! А сафьянные сапоги мяли, приминали снег, и снег стонал и плакал под пятой, и снег визжал хрюшкой, поросёнком резаным, и снег отсвечивал, всласть утоптанный, гладко, зеркально, и изнутри того снежного, льдяного зерцала глядело лицо Блаженной Ксении, развесёлое, смеющееся, очами обнимающее весь родной Мiръ, всю родимую площадь, всех, кто воевал на Войне и кто не воевал, кто в родимом доме по солдатам, гибнущим в бою, воздыхал, кто там, под бомбами и пулями, чудовищные раны нашим солдатикам перевязывал. Разрыв! И сестричку милосердия - насмерть. Осколок-то прямо в сердце попал! А ведь это я та сестричка, шептала пляшущим людям юродивая Ксения из площадного ледяного зеркала, это я и есть. Танцуйте на мне! На лике моём! На моих костях! Торжествуй, жизнь да любовь! Отродися, опосля смертушки, вновь!
Мечись, полоумная пляска людская! Только так мы празднуем миръ и победу. У Мiра с Войной нынче свадьба! Мiръ Войну - простил! И - в жёны вот берёт! И ликует, веселится весь народ! Скоморохи нанизывали на себя метель, как на веретено. Прыгали в безумии смеха, и башки их, в бархат островерхих шапок да в солдатские пилотки облачённые, в прыжке касались сияющих, быстро летящих в выси облаков.
Медвежата кувыркались, и скоморохи кувыркались! На руках плясали. Ногами в воздухе болтали. Не только темечком созвездий достигнуть - а и пяточками раскалёнными нашими! Снежочком пятки клеймёны! На пытке - в угли всунуты! Да кончилось пытальное времячко! Настало - великое, скоморошье!
По небу босыми стопами пробежим. А небо-то - головни звёзд горят, обожжёмся! А мы-то сами не промах: сами возьмём да как звёзды, возгоримся! Каждый ведь из нас, людей родных, звезда! Сам себе звезда да и Мiру звезда. Летим, летим! Есть-пить хотим! А колядки-то, где колядки?! А зачни голосить, колядуй без оглядки!
Блаженная взяла Василия за руку. Рука об руку стояли они. Ель рядом с ними. Господь рядом. В кузов погребального грузовика запрыгнул скоморох, за ним оркестрант из шествия кладбищенской меди; хватали еловые венки, бросали в толпу. Скоморох тряс головой, колокольцы на шапке бренчали заливисто, он вопил разудало:
- Свадьба! Свадьба! Счастьице в рожу узнать бы! Воскресение Царя - над Красной площадью зимняя заря! Танцы! Танцы! Красные протуберанцы! Кто зимою на свадебке не пляшет - тот, берегися, носом снег алмазный вспашет! А кто на свадебке Царской до одышки танцует - тот рядком с Исаюшкой-пророком в небесах ликует!
Царь и отроковица стояли среди народа, и тоже за руки, как юрод с юродкой, крепко взялись. Замерли. Улыбки слепо, солнечно бродили по их лицам, переливались, исчезали, вспыхивали опять. Улыбки они друг другу передавали, факелами друг другу бросали. Ксения улыбалась Царю. Улыбкой той говорила: я рада, рада, вот и родилась настоящая жизнь твоя, вот и перешли мы Ад вброд, аки посуху. Царь улыбался Василию. Вот ты, мой повар любимый, генерал мой геройский, вот и ты ведь жив; нет нам с тобою Времени, что ли? Василий улыбался тощей девчонке, приблудной отроковице, наречённой невесте Царя. Ты, девонька милая, забудь, кем ты до твоего рожденья была! Ныне великое Рождество твоё. Шкура Ада с тебя свалилась, тонкая кожа Рая румяной любовью укрыла. За Царя крепче держись! Богу жарче молись! Да, родная, вот такая пошла наша жись!
Ад-то твой несусветный - в Рай земной обратился!
Веснушчатая, тощая, суше воблы астраханской, девчонка улыбалась Господу во весь рот. Ах, Господь, вот и я Твой ломоть! Вот и я у Тебя в руках - ешь меня, не объемлет страх! Я хлеб Твой нынче и Твоё вино; Причастие Твое - люди Твои, так Тебе суждено! Ты нам Себя подарил - а народ Твой собою лик Твой озарил! И глядишь Ты на нас народа лицом, пред началом нашим и пред нашим концом! Да только пока Ты с нами, наш Свет, нет конца-краю нам, нет и нет!
А Господь, босой на снегу, улыбался всем им, румяным, счастливым, босым.
Девчонка думала-молчала, улыбалась, а скоморох, высоко подпрыгнув, застыл: услыхал её мысли, как музыку. Завопил:
- Дзынь, дзынь, горюшко, а ну отзынь!.. Свадебка велика, не отвороти лика! Свадьбища велика, на полноги, на полкулака! Свадьбушка-лебедица, в военном сне приснится!.. Свадьба в полземли - Тьма кромешна, отвали! А приди к нам Тьма живая, тебя обцелую-обласкаю! Звездами посыпь на нас, юродов, венчай на Царство средь родимого народа! Ах, народ родимый, да ты ведь непобедимый!.. Поборол ты лихо, да пировать не научен тихо! Надобно народу Царя - знать, кричит-вопит об том не зря!.. Ну, давай, голубями налетай, крохи все расклюй, криком важным кричи и на дню, и в угольной ночи: ты давай, взойди, наша заря! На красных крылах принеси нам - нашего Царя!.. А да и вот же Царёк наш, вот, воскрес! Снег Царскою мантией валится отвес! А и рядом с Царём невеста растёт во снегу... ты, Царь, нашепчи ей на ушко: сохраню тя!.. сберегу!..
Из-за угла красногранитного, изукрашенного золочёными буквицами дома, схожего с суровым ящиком почтовым для перевозки особо важных грузов, выбрел на ликующую площадь человек. Человек, да не человек. Чучело, да не оно. Рыцарь в латах? Ряженый? Колядовать собрался?.. аль метелицы испугался...
- Люди, люди!.. Кто это!
- Что на башке-то у бедняги!.. рассмотри...
- Котел рыбацкий...
- Железный колпак!
Шёл, шёл по площади, по зерцалу льда, по тропинкам, да прямо по сугробам, во снегу увязая, длинный, худой, кожа да кости, мослы кедровыми шишками из плеч, из локтей торчат, странный старик: на голове шапка железная, на щиколотках кандалы, тело тощее обкручено веригами, на груди огромный, как плот, медный крест позеленелый.
На пальцах длинных, ветвях древесных из плоти и крови, тяжеленные кольца железные. Да в лоб морщинистый всё глубже, больней край шапки железной врезается.
Ах, детки Рождества, пляшите на свадебке сильнее, кричите громче! Василий Нагой услышит!
- Иван Железный Колпак!.. Иван Железный Колпак!..
Василий глазами вошёл в глаза старика.
Метель, белая борода! Не вернёшься никогда. Детство моё, медведи мои! Дед мой, храм ты мой древний на Крови...
И старик узнал его.
Они оба узнали друг друга.
- Дед!..
- Внучек мой...
Вышагивая ногами-костылями широко и шатко, сияя хрустально и мутно слепнущими, в морозных бельмах, очами, Иоанн Железный Колпак приблизился к Василию Нагому, да так и врос в заметённую белизною землю, пристыл к вечному льду, к вечной родной мерзлоте.
- Дедушка...
- Вот оно как довелось, внуче, на свадьбе свидеться... Аду смерть! Войне каюк! Вплыл миръ желанный в горячие реки рук! И я во твои рученьки, внуче, вплыву... наяву... Василько... скучал по тебе сильно... и на сём свете, и на том... тебя издаля осеняя Крестом...
Обнялись. Таково крепко, аж дух занялся!
А скоморохи плясали, безумьем прославляя мудрость, босыми пятками восславляя небо, косыми глазёнками зыркая туда-сюда, вниз, вбок, вбок, вверх: глазами безмолвно накладывали Крест на деда и внука, нагоходцев великих, на оголённое алое тело башни Спасской, дышащей лаской, на зеркало площади, царевнино, потайное, на стога, копны и зароды красных флагов! Красные флаги, то был красный ветер, красный воздух, алый Дух Святой! Красная брусника, алая малина, рыжая морошка катились, раскатывались по снегу. Царская озорная невеста, тоненькая весёлая отроковица, собирала на снегу ягоды, смеялась, в горсти подносила Царю! И Царь окунал лик свой в россыпь ягод, брал их губами у девчонки с руки, будто хлеб с ладони осторожно ухватывал седой конь, и жевал, и жмурился сладко, и ягодная кровь с усов, с бороды его снежной капала-лилась, а вокруг!.. - скоморохи катались-валялись по серебру Царского снега, оглушительно звенели бубенцы на их синих, травных, закатных колпаках, ударяли они друг друга смешливыми, железными кулаками, шли пляска на пляску, стенка на стенку! Сражались! Да понарошку, играя. Оборвалась настоящая Война - а в войнушку-лягушку молодцам что ж со своими, с родными, не поиграть, не позабавиться! Выскочил из толпы скоморохов один скоморошек очумелый; мордой был ну чисто мышкующий лис, на такого уж не молись! Остромордо, хитренько к Василию повернулся. Забормотал торопливо, зачастил скороговоркой, словеса шелухою рассыпал по насту:
- Мы скоморохи-язычники, из Сибири докатилися, ко Москвишечке красной прибилися, к морозцу привычненьки!.. Мы скоморошеньки, да святые, не бесовские, притекли наводнить приделы московские!.. Видишь, видишь, Васенька, старика того исхудалого, захудалого?! Звездою в ночи торчит - над дорогами-путями, вокзалами, причалами! Старик тот - дорога твоя, Василий-юрод, по ней бежит весь народ, а ты слушай, дед, ровно кот, ворчит: иди, внук, по звездам, иди в ночи... Да ночь со днём смешались! Обхватились да расцеловались! Свадьба Царя... сретенье внука и деда... А коли матерь узреть захочешь - беги, беги, беги по медвежьему следу!..
Покатился скоморох колесом вокруг Василия и Иоанна-старика, да вмиг медведюшкой оборотился. Чёрные лапы, мохнатая грива. Прыгал, скакал, на деда и внука взирал. Медведица с медвежатками подкатилась. Играла с ними. Они взрывали снег носами, на задних лапах тяжело, смешно, ухохочешься, плясали. Бабы в расшитых розами, гвоздиками и геранью понёвах, в платках с метельными длинными кистями, несли в руках замёрзлых сурских стерлядей, в длинных плетёных лодках корзин - порубленных на куски великанских каспийских осетров. На площади разводили костры. Огонь вымётывался в небо красною, золотою икрой. Пламя вскоре обняло всю площадь, заползло под Кремлёвскую стену, красными жгучими флагами оцепило собор Покрова.
Василий нежно глядел на Ксению.
- Родная!.. А свадьба-то - скажи, у кого?.. Разве у Царя?..
- У Царя, родной!
- Ух ты!.. А я думал - у нас.
- Да ведь и у нас тоже, родненький!
- А может, и не только у нас?..
- Да у всех, кто вернулся с Войны!
Медведи прыгали и кувыркались, скоморохи трясли башками, издавая колокольцами соловьиные звоны. Выводили на снег за рога коров и быков смелые отроки-пастухи, и играл в метели пастуший рожок, за собой звал, обещал Райские мандарины и златые горы, сладкое, как дикий мёд, вино ковшами - да вон там, из утлого бочонка, что на дремучих салазках стоит, да до грядущего не достоит, всё вино выпьем, утрёмся да ещё запросим!.. - и раскатывались по площади красные мандарины, и летели в сугробы алые апельсины, и вставали заместо серебряных сугробов многоценные, золотые, так полнилась чистым золотом отощалая Царёва казна, - и вздрагивал всем голым, под рваной больничной военной простынкой, телом Иоанн Железный Колпак, Василия дед, и направлялся к жениху порфирородному да к найденной в сору нищей невесте, и вынимал кулаки из-за спины, а в кулаках - ну, так уж тому и быть, назначено всё в небесах давно!.. - два венца златых; и зашёл Иван Железный Колпак за спины брачующихся, и поднял венцы над головами Царя и отроковицы; и так медленно, чинно-важно пошли они по слепящему, ножами режущему и зрак, и стопы снегу; шли медленно, под музыку сходящей с ума площади, под гундосое пенье юрода Ивана, деда Васильева:
- Венчается раб Божий Иоанн рабе Божией Катерине!.. Венчается раба Божия Катерина рабу Божию Иоанну!.. Святии мученицы, иже добре страдавше и венчашеся, молитеся ко Господу спастися душам нашим!.. Слава Тебе, Христе Боже, апостолов похвало и мучеников веселие, ихже проповедь Троица Единосущная...
Сибирь праздником моталась на ветру, тряпицей, из яркой поярковой шерстишки связанной! Москва обнимала её, вкусно, жарко в губы лобзала и во щёки брусничные, жимолостевые! Изумруд первостатейный, мощь самоцветная с ног сшибает, лучи в нём скрещаются и ввысь ударяют, тебя насквозь пронзая, как селёдку радужную, разрезая, - врут, что из египетских копей, а на деле из Саян мглистых, из-под камней-скал тайги пречистой!
- Мать!.. Мать!.. Где моя Марина-мать!..
Оборачивался на Ксенью - и ребёнком глядел, жалобно, широкими глазами.
- Тихо... тихо... подожди... жди... все тут будут, в Раю...
Мощь! Мощь! Сила! Против силы - только Адова коса людей косила. Да и та с нашей силой не совладала: нам и самой Войны Зимней всё было мало, мало! На дудках народец гудел, в свистульки расписные свиристел! А всё в честь чего?! А в честь нашей великой Победы! Шли мы, шли по зверя следу - и до его логова, помоляся, дошли! А вылез он на свет Божий - сам стал пощады просить, жалостливо выть. Оборвалась воя страшного нить! Оборотился волк Иоанном нагим! Обернулась Медведица Мариной-матерью! Ужаса, боли разошёлся дым. Растеклась кровушка по пировальной скатерти. А все закричали: вино! А все запросили: и нам налей, налей!.. А в крови вымочили мешковину-рядно... и красным знаменем над толпой воздели - пурпуром Спасителя, бархатом Царей...
А вон, гляди, Мокошь, Зимцерла и Сварог в хороводе идут, наши псалмы поют! А вон, зри, Даждьбог снял сапоги, пляшет босиком! Рай, ты вечен!.. ах, Боженька, сколько ж осталось минут... сколько мгновений в той вечности... никто ведь из живущих с ней не знаком...
Среди танцующих медведей появилась Медведица-красавица, страстная плясавица. Хлопнула лапой о лапу. Шкура сползла на снег. Шла к Василию-нагоходцу нагая красивая баба. Очи раскосы. Лоб широк. Улыбка широка. Земля вся бежит одною тропой кожаной охотничьей тесьмы - у неё от виска до седого виска.
- Мама...
- Сынок... снишься?..
Руки тянет. Василий хочет их схватить, да тяжелы его руки вмиг стали, налились железом, рудой, силой камня, силой металла, силой до Времени и до пространства.
- Нет, мать. Не снюсь. В Раю никто никому не снится. В Раю все встречаются. Это великое Сретенье. Все - со всеми. Гляди, мама!.. Твой Рай. Ты об нём мне сказки говорила, когда я усыпал в самодельной колыбельке моей, в корыте, на матраце, душистым сеном набитом.
- Обними меня, сын!
- Не могу. Тяжестью я налился. Будто печь я доменная, мать, и во мне, во потрохах моих, льётся огнём расплавленный, дикий металл.
Мать Марина наклонилась. На снегу лежала громадная толстая книжища. Книга Жизни детства Васильева таёжного, незабвенного. Близ Книги горели две огромные витые свечи. Одна воску тёмного, ночного, другая воску ярого, златого. Марина откинула телячий переплёт. Раскрыла на первой, главной странице. Сидел на странице той Царь в короне, с лентием, косо через грудь бегущим, в сапогах сафьянных, с загнутыми носами, в усах и бороде мохнатой, пальцы перстнями драгоценными унизаны, в пальцах десницы стило вдохновенное сжимает. А пред ним свиток развёрнутый, пергамен тончайший, и вот сей миг Царь напечатлеет на пергамене том единственные в Мiре слова.
- Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых, и на пути грешных не ста, и на седалищи губителей не седе; но в законе Господни воля eго, и в законе eго поучится день и нощь. И будет яко древо насажденое при исходищих вод, eже плод свой даст во время свое, и лист eго не отпадет; и вся, eлика аще творит, успеет. Не тако нечестивии, не тако; но яко прах, eгоже возметает ветр от лица земли. Сего ради не воскреснут нечестивии на суд, ниже грешницы в совет праведных. Яко весть Господь путь праведных, и путь нечестивых погибнет.
Голос Марины, охотницы и лекарки, забытой матери юрода, пронизал пространство и забился крупной рыбой в сети Времени. Иоанн Железный Колпак стоял, сжимая в обеих руках златые венцы, держа их над голыми головами седого осетра-Царя и воблы-отроковицы, и плакал: не мог глядеть на свою забытую дочь. Забыли и вот воспомнили! Утеряли и вот обрели! Нет конца кругу времён. На площади Времени пляшем мы, людие. Рай наступил. Не видно конца могучей пляске.
И ель разнаряженная, щедро изукрашенная, в бусах рубиновых, цатах сапфировых и панагиях пресветлых, сверкающих, плясала с людьми! И медведи танцевали с людьми! И Царь Давыд, со страницы Книги Жизни, пожелтелой, ломкой, нежной, наискось воском заляпанной, пел с людьми! И весь крещёный, а даже и весь дикий, чащобный, некрещёный Мiръ плясал и шёл многоглавым змеем-хороводом с людьми, звучал многострунной арфой, пел многогласым хором! Хор людской пел о муке, чтобы не забывали страдания люди, и тут же пел о радости, чтобы возрадоваться горячей, чтобы восхититься светлее, пьянее! Восторг! Люди за время Ада и Войны забыли это чувство. В Раю вернулось оно к ним.
- Я, Василий, слушай... я зверица, я Медведица... гляжу на звёзды, они втекают мне в зрачки, и я вою от счастья... Я всегда была одна, Василий, но здесь, в Раю, я чую себя не одиноко бредущей, но за собою ведущей! Да, я, я веду людей за собою! Через всю Войну - к радости веду. Вот же она, радость наша!
- Ты радость моя.
- Гляди, зарево над Кремлём! Кремль горит. Да то, мы знаем, Благодатное пламя; таково оно в Раю. Теперь огонь нас никогда не сожжёт! Не погубит!
- Не мечтай. Не восклицай зря. И сожжёт. И погубит. Просто это наступит тогда, когда мы покинем наш Рай.
- А мы разве покинем?!
- Нас могут изгнать из Рая. Не правда ли, Господи? Не истина ли, Царю Давыде?..
Молчал Господь. Улыбался. Молчал Царь Давыд, псалмопевец, на снег вышед из толстой размахрённой, тяжеленной, тяжелей чугуна, Книги Судеб. Молчал Иван Железный Колпак, звеня веригами, бряцая кандалами, он был занят делом серьезным: он нес над Царём и отроковицей златые венцы. Молчала мать Марина, по-медвежьи, подобрав под себя ноги, села в одной знахарской рубахе на снег. Дрожала. Хлад переходил в жар. Жар обращался в перловичный перламутр. Река из слёз людских обратилась в реку смеха людского. Радость била цветными фонтанами из всех щелей и на морозе сразу застывала ледяными радугами. Радость! Радуга! Рай! Солнечны имена. Прожигают жизнь до дна. А что на дне? А рюмку опрокинь, узнаешь. И то правда, свадьба, свадебка! Пейте за здоровье молодых, людие! Поднимай, народ, бокалы и кубки, потиры и братины, стопки и штофы, гранёные стаканы! Лей, лей, не жалей! А налей чего хочешь, всемогущий Господь! Сотвори новое чудо! Налей настойки крыжовенной! Наливки малиновой! Полугара пшеничного! Чачи виноградной! Вина яблочного! Браги белопенной! Медовухи терпкой! Водки хлебной! Всего налей, что под руку подвернётся! Разливай!
- За здравие Царя и Царицы, вновь на Москве обретённых!
- За укрепление Царства нашего государства, оно же Рай пресветлый!
- За погибель Зимней Войны! Пусть покоится в полях смертных, средь костей родных и памяти нашей, с миромъ!
- За то, чтобы Ад сей боле никогда, никогда... эх...
- А таперича Москва наша никакой боле не Армагеддон лукавый!.. Вернулась её слава!.. Она нашенская Москвишечка-Москва, в любви-вере век жива, красная, звёзд превыше, глава, в алмазном инее дерева!.. Красотуля!.. не возьмут ту красу ни копья, ни пули!..
- За благоденствие и процветание Царствующего дома, Господь помоги, аминь!..
- За благополучное зачатие молодой жёнки Царя нашего! За разрешение её от бремени, на радость нам!
- За счастье молодых... Горько! Горько!
Вся Красная площадь заорала: горько!.. горько!.. - и поднял ввысь Иван Железный Колпак, смеясь беззубо, торжествуя, златые святые венцы, и наклонился Царь смущённо к радостно улыбающейся отроковице, и подставила она губы для поцелуя свадебного, и увидел Царь слепыми глазами - а он теперь всё ими видел!.. - все до веснушечки, до зернышка, что Солнце посеяло на обветренной коже юного лица; и прежде губ, едва касаясь щёк юной девы губами, Царь исцеловал её рыжие, солнечные, смешные, просяные веснушки.
- Весна моя...
- Царь мой!
Она не видела его седин. Для неё он был муж и Царь, он один.
И смеялись от радости Василий и Ксения, держа в руках толстого стекла гранёные стаканы, в таких бойкие кричалки-торговки на рынке продавали облепиху и смородину; поднимали стаканы, из таковских деды в войну, между боями, в землянках драгоценный спирт глотали, за здравие Царской четы, крепко стукая стаканом о стакан и с наслажденьем выпивая тёмную, кровавую наливку, что великим прошлым плескалась в них, и кричал народ, на морозе горькое ли, сладкое зелье за родных Царей в глотку вливая:
- Царствовать вам да сто лет!..
И тут Царица Катерина, разрисована картина, девчонка смешная, упрямая, с косками вьюжными по угластым плечам, крепко Царя, мужа её венчанного, за голую, без голицы, горячую руку держа, закинула лицо румяное к Василию да Ксении и молвила так:
- Наклонитесь ниже! Не хочу, чтобы народ слышал!.. Что скажу!.. тайну открою...
Наклонился Василий, будто матрёшку со снежка, ребятёнком потерянную, заботливо хотел подобрать, а Ксенья встала во снег на колени.
- Что, Царица великая?.. слово изрони важное... ждём...
Присела девчонка на корточки. Глядела прямо в лица вечным возлюбленным.
- Война Зимняя не кончится никогда. Никогда.
Залился лик Блаженной бледностью смертной. Взбежала краска гнева и боли на скулы Василия.
- Никогда?..
Выдох из огненной груди Ксении полнился невылитыми слезами.
- Никогда.
Василий протянул руки пред собою и сжал в бессильные кулаки.
- Никогда?!..
- Никогда.
- А как же Рай?..
- И Рай не кончится никогда.
Ксения стояла на коленях в снегу и плакала.
- И в этом есть вся твоя тайна, Царица Катерина?.. на время или навсегда?..
Разжал Василий кулаки и медленно, будто умирая, положил тяжёлые, железные руки на тощие, утлые плечики площадной девчонки, ныне отчаянной, ребячьей Царицы Русской, и наблюдал птичьи веснушки, россыпью хлебных крошек, семян, снежинок, крыльев воробьиных летящие по её зимнему, задрогшему лицу, и борода юрода бешено вилась по Райскому ветру, и тоже плакал он, плакал, как и любимая его плакала, горько-полынно, на коленях на Лобном месте снежном, в мешковинном рубище, великая вечная Блаженная.
И подняла девчонка, вновь рождённая Царица Катерина, к Василию-нагоходцу лик чистый и детский, и выдохнула в него всем зимним ветром, льдистым, пылающим, безумным:
- Навсегда.
Поплыл над Красной площадью колокольный густой, медовый звон.
- Василий... что это...
Ксения вытянула руку. Глядела вверх. Всё вверх и вверх. С небес, из лёгких вьюжных туч, вынырнул фюзеляж маленького юркого самолёта. Он нёсся к пляшущему народу серебряной стремительной птицей. Люди закричали, протягивая к стальной птице руки:
- Самолёт!.. Самолёт!..
- Подхвати меня в полёт!..
Дети подпрыгивали, пытаясь руками до самолёта достать. Медвежата, лисята, волчата, барсучата кувыркались, валяли друг дружку в снегу неловкими, ленивыми лапами. Ксения задрожала.
- Рай... я не хочу отсюда вон!..
- Нас никто не изгонит отсюда, родная. Мы навек Рая жители.
- Не верю! Боюсь! Самолёта того...
Она крепко, дрожа, прижалась к нему. Нагоходец обнял её, притиснул к висящей у него на голых плечах обмёрзлой медвежьей шкуре; шерсть торчала обжигающе-ледяными чёрными сосульками.
- Не бойся. Ты же сама говорила, что ты...
- Да! Я Дева-Птица! Ангелица, и крылья мои широки! Летаю высоко, далёко, вам никому не поймать! Не изгнать меня! Не... подстрелить... Куда ты?!
Василий уже шёл, твёрдо по снегу, насту и льду ступая, туда, откуда возврата, Ксения знала это, в Рай не было уже никогда.
Русоволосый мальчик, стриженный под горшок, выступил вперёд из площадной пурги, подошёл к Царю и Царице, поклонился земно, да и взял бесстрашно юную Царицу за руку, а другою рукой Царя за руку схватил. Так стояли: отрок, отроковица и старый счастливый Царь.
Мальчик обернул весёлое лицо к девочке-Царице.
- Я генерала Василия за руку по Аду вёл.
Царица-юница вздохнула и улыбнулась мальчишке в ответ.
- А Царя моего поведёшь по Раю!
Серебряный крест самолёта плашмя падал, снижался, вот уже летел низко, можно было рассмотреть его хвост и закрылки, и красные звёзды на раскинутых крыльях его, дети вопили восторженно, самолёт слетел ещё ниже, выпустил шасси, пролетел над Замоскворецким мостом и приземлился на его сгибе, где мост втекал в весёлую, яркую зимнюю землю Москвы. Подпрыгивал на кочках. Процарапывал колёсами шасси снег. Касался концом крыла сугробов. Остановился. Замер.
Ждал.
- Куда ты!..
Ему не надо было ей отвечать.
Она и так слышала мысли его, как слышат далёкую музыку.
Чтобы нас не изгнали из Рая вдвоём, лучше пусть изгонят меня. Меня одного. Полечу я один. Эта серебряная птица за мной. Рай не вечен. Счастье не вечно. Всему своё Время. Не плачь. Живи. Любуйся на новое Царство. На новые, неведомые времена. А я иду. Мне так Царь приказал. Помню его наказ. Самолёт, мол, серебряный прилетит, в него без промедленья садись. Унесёт тебя, генерал, туда, где ещё идёт Зимняя Война. Не в земные, в иные небеса. Ты видишь, самолёт это Крест! Серебряный Крест! Жаль, не твой родненький, не крестик бирюзовый. Меня на нём распнут. Всех когда-нибудь распинают, моя Ксения. Не горюй! Разве можно горевать в Раю! Рай для всех. Рай неизбывен. Рай обнимай, целуй. А я улечу. Так надо. Таков приказ. И не просто Царя: судьбы, жизни самой. Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых!
Она подняла руку. Полезла за пазуху. Вынула бирюзовый крестильный крестик. Прижала к губам. Следила, как поднимается Василий по трапу в чёрную дыру отверстой двери. Как исчезает во тьме, и наползает на тьму серебро, задраивая люк. Самолет завёл двигатели, закрутились со зверьим рёвом железные винты. Разбежался. Взъехал на мост. И с моста, мгновенно набрав скорость, взмыл в синь и ветер почти вертикально, ширококрылым крестом.
Да, распятие, Василий мой. Распятие! Не ждала! Здесь, в Раю! Во время свадьбы Царской! Ликованья всенародного! Счастья Вселенского! Неисповедимы пути Господни. Лети. Тебе - разбиться. Но храни тебя Господь. Тебе умереть, и быть может, не воскреснуть. Всё равно храни Господь. Тебе помнить меня до последнего вздоха! Спаси и сохрани, Господи, любимого моего.
Самолёт летел над крышами Москвы, набирая скорость и высоту. Ксения глядела на полёт железной птицы. Глядела на Солнце. На звёзды. На Красную Луну. Медведики прикатились к ней и крепко прижались к её красным на морозе голым ногам. Мешок её рвал ветер. Люди и звери плясали. Птицы пели. Светлый Рай продолжался.
А тот, один, кого изгнали из Рая, глядел на него сверху, из-под облаков, и за то, чтобы Рай на земле пребыл вечно, молился.
БОЛЬШОЕ ЗЛАТОЕ КЛЕЙМО С ИЗОБРАЖЕНИЕМ ЛЕТЯЩЕГО В НЕБЕСАХ ВАСИЛИЯ. ПОСЛЕДНЯЯ КОЛЯДКА
- Эй! Василия убили!
Долго или коротко падал он с неба на землю? И что есть небо, а что есть земля? Они могут поменяться местами. Боль кромсала потроха. Выдёргивала из-под рёбер сердце. Кровавые жилы сплетались в клубок, вились в косицу. Перекрестья мышц застывали железом. Смерть сперва расплавила его плоть, а потом заморозила его дух. Он не успел оглянуться, как уже падал, и ни в какой Книге никаких Жизней не было начертано про эту его, последнюю судьбу.
Всё повторяется, подумал он, всё повторяется в подлунном Мiре, и даже крики людские: крики ужаса, крики помощи. Война, здесь она шла вовсю, серебряная птица принесла его снова в море огней и взрывов. Земля, раненная снарядом, разворачивалась чёрным веером. Он давно читал самому себе молитву, сам же и сочинил: настанет день, и я стану землёй, и за это благодарю Тебя, Господи. А какой сегодня век, год, день и час? Разве это важно тому, кто вот-вот умрёт?
А может, мне сейчас суждено родиться?
Рождество. Рождество Твое, Христе Божие.
Умереть в бою. Умереть в детстве, в лютый январский мороз, колядуя по нищим и богатым дворам. Умереть в бессильной старости, в своей постели, и нету сил поднести пальцы ко лбу, чтобы наложить крестное знамение напоследок. Вот ты сейчас умрёшь, Василий-нагоходец, и запросто станешь святым. Юроды, они и при жизни святые; что уж говорить о смерти!
...Господи, ну какой же он святой, так, свечка нагарная, мороз упрямо прожигает, в руках трясётся, восковыми, медовыми слезами льётся, огню не нужно утешенье, а нужно зверю и человеку, нет, не святой, и никогда им не станет, бессильно дрожащий, вчера намоленный, а нынче настоящий, ты все небо можешь собою насквозь пронизать, а потом в землю врезаться да её тоже проколоть самим собою, ты еси копьё, летящее копьё Господа твоего, и это не Царь приказал тебе из Рая уйти, а сам Господь, Он лучше знает, какова судьба тебя ждёт!
Рождество, Господи! Твоё! Нынче! Сегодня! Зима! Жмёт мороз! Сверкают синим инеем крупные и мелкие звёзды! Ягоды небесные, алмазные! А ты! Ты летишь! Ты герой. Ты солдат. Ты за Родину жизнь отдаёшь.
...коляда, коляда!
Колесом катят года!
Святки ныне, Святки -
Колядуй без оглядки!
Ты колядуй в небесах!
Медведица на часах!
Ты небесная звезда -
Коляда... коляда...
Самолёт раскололся надвое. Как яйцо. Он всегда так раскалывался. В него всегда стреляли. И он, вместе с самолётом, всегда падал. И всегда разбивался. И всегда воскресал. Кто затянул Времени петлю? Назови имя, Боже! Не хочешь. Тайна! Пусть будет тайна. Судьба, это тайна всегда. Коляда... коляда...
...ты пляши, медведь, пляши!
Дудки-скрипки хороши!
Ты пляши, пляши, народ,
Пропляши ещё вперёд!
Ты пляши, святой, пляши!
Ни сердечка... ни души...
Ты пляши, Господь мой Бог,
Мой младенчик, одинок...
Рюмку бы сейчас махнуть, подумал он, стремительно падая. Экий ведь он несвятой. Кто записал его во святые? Юрод он и есть юрод. Гонит его с площадей народ. Вот лишь одна такая безумка Ксенья нашлась, идёт за ним и в боль, и в грязь. Одна в целом свете! Как дитя. Люди, будьте как дети. Юродству, люди, предела нет. Оно солнечный свет. Оно звёздный свет. Оно солёная кровь Рождества. Дышит... младенец... сопит едва...
...погибаю я за вас.
Выполняю я приказ.
Я солдат, не генерал.
Я за счастье воевал.
Песню пел одну - про жизнь.
Так шептал себе: держись!
Не умру я никогда...
Коляда... коляда...
...он падал и пел. Падал и пел. Вот юродство так юродство. Нарочно не придумать. Вот - геройство! Прочь думы-похвальбы. Гордыню - прочь. Земля всё ближе. И мы - живые. Мы никогда не будем ничьей едой. Ничьей послушной железякой. Ничьими слугами, гнущимися в три погибели. Мы и умирая останемся самими собой.
Я не танк. Не броневик. Не телега. Не плуг. Не соха. Не грабли. Не лодка. Не зенитка. Не гаубица. Не пистолет. Не самолёт.
Всё это, да, есть человек, ведь человек всё это изобрел и смастерил; но выше и сильнее слабый человек безумной машины его, и вперёд он идет ногами живыми, и любит он сердцем живым, и плачет слезами живыми.
И, если жив человек на земле, то жив и Бог. Всё так просто.
Не умру я никогда...
Коляда... коляда...
Никогда... Всегда... Разве есть между ними разница? В газетах напишут: генерал Царской армии со славой погиб на Зимней Войне. Какая честь мне! И орден посмертно дадут. И героем назовут. Услышу ли я сие после смерти? С небес? Из земли? И после меня красные башни весёлого Кремля всё так же будут стоять. И всё так же в ночи, над кирпичной великой Кремлёвской стеной, над островерхими башнями, над рубиновыми, кровавыми звёздами будут роскошные, безумные, беспредельные, парчовые, перламутровые салюты греметь. И кресты собора Покрова Богородицы будут махать душе моей, высоко во звёздном небе летящей, медными, золочёными растопыренными ладонями. Колокол! По ком звонит колокол? Молчите! Ничего не говорите! Кого хоронят?! Меня - хоронят?! Да никогда!..
Всегда...
Но, люди, любимые, я же воскресну...
И я! И Ксенья моя! И пойдём по площади Красной, прекрасной, обнявшися крепко, крепче приваренного металла, завернувшись во единую медвежию шкуру! И Царь я твой, Василий ветхий, босой! И тепло нам! И светло нам! И салют грохочет! И каждый, в Аду ли, в Раю ли... жить хочет...
...не умру я никогда...
...я всё начну сначала.
Смерть, сие есть моё великое начало.
В толстобрюхой, в переплёте телячьем, собаками и кошками обцарапанном, в заляпанной темным сладким воском Книге Смерти с вырванными, исписанными древним чернилом ломкими страницами, всё написано про наш последний срок. Всё Царём древним, незабвенным громко ли, тихо спето. И я всю мою жизнь только и делал, что пел. По площадям ходил и пел! На Войне сражался и пел! У плиты стоял в чадной, жаркой Царской кухне и пел, пел, пел!
И, Ксенью мою на Красной площади в вихреньи снега обнимая, я на ухо ей песню любовную, голубиную пел.
А может, та мамкина Книга Жизни, с двумя витыми свечами по бокам, у почернелого киота, была вовсе не Псалтырь, а Книга Голубиная, и вспархивали с её страниц белые, коричневые, розовые, сизо-синие, цвета ненастного неба, голуби, и кружились вокруг меня, и улетали прочь, в распахнутое окно, в отверстые двери, в широкую и далёкую жизнь, без возврата, - а зачем возвращаться, жизнь, то ведь путь без возврата, жизнь, то дорога любви, ребята, жизнь, обнимайте её, облапьте, играя, на сверкучем снегу, лисята, волчата, медвежата, собачата... и так, в жизнь играя, с жизнью играя, ей, жизни, на нежной дудке, на арфе играя, колесом докатитесь до Рая...
Видит всё Всевидящее Око. Зрит любое движенье наше. Любую силу и любую слабину. Радужка то беспроглядно темна, то свадебно-небесна. Око - зерцало. Отражает нас всех. Без приукрашиванья. Без изъяна. Без лжи. Одну нашу правду отразит - и сунет отраженье нам в лицо.
Оно отразит и нашу жизнь, до косточки, до крохи. И нашу смерть. И наше воскресенье.
И наше, наше Рождество. И Святки. И лучезарные, в сугробах под созвездьями, колядки.
Око Господне! Людие, глядите в него!
Оно видит всё.
И даже то, чего нет и не будет никогда.
НА ВЕЛИЦѢЙ ВЕЧЕРНИ:
Что тя наречемъ, Василіе чудне?
Ангела ли? Тѣла бо отвратился еси.
Херувима ли? Яко на тебѣ почилъ есть Христосъ.
Серафима ли? Яко непрестанно прославилъ еси Христа.
Силы ли? Дѣйствуеши бо исцѣленія.
Многа ти имена и больша дарованія,
непрестанно моли спасти души наша.
Новые рукописи
- Берегите мужчин! Автор: Шелейкова Нина Жанр: Публицистика
- Утки Автор: Виктор Верин Жанр: Проза
- Долина царей Автор: Крюкова Елена Жанр: Проза
Книжные новинки
- "Осенние откровения" Ларисы Каменщиковой Автор: Информационная служба РОСА Жанр: Книги РОСА
- Заметки фенолога – 2024 Автор: Фирсов Геннадий Жанр: Книги РОСА
- Владимиров А.А. "Формирование микрогеометрии поверхности при вибрационном точении" Автор: Информационная служба РОСА Жанр: Книги РОСА
 Видеогалерея
Видеогалерея Фотогалерея
Фотогалерея Аудиогалерея
Аудиогалерея Магазин
Магазин