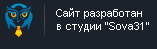Раскол
Дата: 18 Января 2023 Автор: Крюкова Елена
книга огня
ЗВЁЗДЫ В ГОРСТИ
ФРЕСКА ПЕРВАЯ
Царю Государю и великому князю Алексею Михайловичу, всея Великия и Малыя, и Белыя Росии самодержцу, бьют челом богомолцы твои Соловецкого монастыря келарь Азарей, казначей Геронтей, и священницы, и дияконы, и соборные чернцы, и вся рядовая и болнишная братия, и слушки и трудники все. В нынешнем, Государь, во 176-ом году сентября в 15 день, по твоему великаго Государя указу, и по благословению и по грамотам святейшего патриарха Иосафа московского и всея Русии, и преосвященного Питирима митрополита Новгороцкого и Великолуцкого, прислан к нам в Соловецкий монастырь в архимандриты, на Варфоломеево место архимандрита, нашего монастыря постриженник священноинок Иосиф, а велено ему служить у нас по новым Служебникам, и мы, богомолцы твои, предания апостольскаго и святых отец изменить отнют не смеем, бояся Царя царьствующих и страшного от него прещения, и хощем вси скончатися в старой вере, в которой отец твой Государев, и прочие благоверные цари и великие князи богоугодне препроводиша дни своя: понеже, Государь, та прежняя наша християнская вера известна всем нам, что богоугодно, и святых и Господу Богу угодило в ней многое множество, и вселенския патриархи, Иеремия и Феофан, и протчия палестинский власти книг наших русских и веры православные ни в чем до сего времени не хулили, наипаче же и до конца тое нашу православную веру похвалили, и тем их свидетельством известно надеемся в день Страшного Суда пред самым Господом Богом не осуждены быти, наипаче же и милость получити…
Послание соловецких иноков
Царю Алексею Михайловичу
(я и Жизнь)
Зачем опять и опять слоями страдание кладётся и кладётся, я клад страданий, и, Господи, нет уже воздыханий, нет прозябаний, нет души огненных возстаний, - а есть только вот эта песня:
воскресни... воскресни... воскресни... воскресни...
Воскресни, душа моя, мёрзнешь во тьме. Снег алмазный - россыпью по зиме.
В санках меня тащат, лошадью за узду. Мiръ, я такою боле не вернусь... не приду.
Меня увозят. Салазки дитячьи - розвальни, видишь, мои. Качусь по белизне, по счастью, по крови. Стою на Крови, икону вижу, Невидимый Свет. Господи, а страданья-то - не было и нет.
Народ ропщет, народ жаждет войны и отвергает войну. Народ, он обнимет меня одну. Народ, он сам, как я, в земляных ямах полёг. В срубах сгорел, во огненный входяше чертог.
Множество восстает на мя, множество топчет мя, аки червя. Раздавите в мясо-кровь, во дым!.. буду с моим Пресвятым, ночь алмазна, черна. Множество кричит мне в уши, вопит взахлёб: сгорят все Боговы души, готовь и ты себе гроб!
Ты не множество... ты одна... сама себе дудка-жалейка... сама себе неистовая жена... сама себе песня и пепел, исповеди истошной порванная струна... зимним птицам тишайшее крошево... молитвы солнечная весна...
Господи, Заступниче мой, светло-пресветлая слава моя. В санях везут - мимо, мимо Страшный мой Суд!.. - по сугробам раскиданново белья, мимо страха и плах, повитух и свах, мимо медных канунов, в красных мешках палачей - мимо упорного гласа - Нерукотворного Спаса - мимо слёз изобильных, паникадильных слепящих свечей - мимо ёлки нарядной, Горы Мiровой, на вершине золотая Звезда - мимо незачем и нигде - мимо никогда, никуда - а куда?.. о, я болярыня просто, черница-сударыня, чёрная ряса за полозом метёт снег - далеко ледяные звёзды - в Распятье полночи вбитые гвозди - а я лишь отверженный человек - я уснула, и забылась, и без просыпу спала, как мертвец, и возстала - заступись за меня, Господи Боже мой, заверни в алмазное полночное одеяло - к сердцу прижми - одну меж людьми - севодня лишь ночью, севодня - взвихряется расшитый опалами, перлами, лалами, смарагдами угольный, мрачный плат - нет пути назад - а лишь сани - по дороге Господней - вдаль да меж сугробов - от колыбели до гроба - от могилы до колыбели - не убоюся тьмы тем врагов, войска без берегов, солдат, что на копия вздеть сумели - да не в Геенну Адову, а к небесам - Ты воскреснешь Сам - а я что, на копьях побуду под звездами, да в яму - я робёнок Твой, я хочу домой!.. санки катят, катят упрямо - о, воскресни скорей, мой Царь Царей, в санях последних качусь и плачу - одна меж зверей - одна меж людей - по ладони Твоей, гвоздём пробитой, в крови горячей - мать за верёвочку санки везёт - последний поход - мылись в бане, парильне злой, многолюдной, и вот домой - по снегам плывёт деревянный плот - моё Распятие, санный мой Крест немой - жизнь в санях тех навылет пересекла - вот и все дела - Боже мой, подступает мгла - да она ведь живая, грешная тьма Твоя - к телу липнет мокреть белья - а душа-то сходит с ума - все враждуют друг с другом!.. и - по кругу, по кругу... зубы скалятся, смех и грех... мимо, мимо - ненавидящих и любимых - мимо проклинающих всех - мимо всех, кто в толпе украдкою крестит - кто назавтра повесит на стене - мой избитый, изгрязнённый, расколотый лик - раскололи нас - а шепчу: воскресни... без любви - никто не привык... нам любви бы... любви не иму... сани мимо, мимо... помрачённо пылают снега... подо мной, надо мной... Ты дверь неба открой... полоз - по снегу... зга и мга... Господи, Ты еси моё спасенье... Ты моё Воскресенье... и на мне, катящейся в вечную тьму во детских санях - Твоё нежное, алмазно-снежное, безбрежное благословенье - звезд Твоих уста - на лбу... на устах...
***
(Аввакум и Детство)
Три Лика над временами висят. Смещаются времена многажды и стократ, переслаиваются, жарятся на чёрной сковороде, аки блины... а я всё вижу, вижу самоцветные сны... А я всё зрю да зрю, яко робёнком, безпросветные сны - как, грудью противу ветра, в санях скольжу поперёк да восточной стороны; как Солнце, навстречь сам себе по ободу земляному качусь - а шею ко звездам выгнул, инда безсловессный сребряный гусь! Рыба да птица... спицы в колеснице... колёса иных, занебесных телег... мне моё детство все снится да снится, я ведь лишь человек, а землетряс повозку мою колыхает, трясётся октябрь и январь, гудит-дрожит в застенке седая столешница, без пищи, пуста, нагая... жена, хоть к вечере воли изжарь... Хоть немереной, кровавой, вкусной свободы, - с пылу-жару схвачу, обожгусь... зубы волчьи в жизнёшку вонжу... на краю лавки в темнице молчу... с изнанки, свиной кожи, испода... возожгу себя, аки свечу... Три Лика, всево лишь Три Лика, а и кто они, да знамо, кто: один - батька, другая - матка, поперёд родильново крика я, брадатый, битый-распятый, молочный мороз хватаю голодным ртом... А кто ж третий-то Лик? не различу... старик... колыхается мрачным златом линь-щека, скула чешуйчато-морщена, струятся власы-серебрянка... Он глядит на меня краткий миг, всево лишь миг... и мне страшно: взрыхлили небесную пашню, вместо храмины Божьей - гомон, гул, гулянка... А вы!.. Родину нашу надвое раскололи. Разрубили, яко огнём да мечом, надвое - луг, надвое - поле, надвое - сердце: гляди, што почём... Раскол! а и кто там снова жжёт себя в срубе?.. сожигает, Господу Богу во славу, катятся перлами глаза, бормочут вешней водою, поют заполярным ветром губы, вот он, лютый огнь, небесная - на полмiра - держава! Там-то, в небесех, наше Царство!.. наш хлебный кус!.. музыка наша!.. на кимвалах, систрах, тимпанах сыграйте!.. а и што сыграть-то вам?.. полную крови чашу?.. да, Граалеву чашу, испейте вволюшку крови Господней, не умирайте...
Я качусь в санях. Это детство моё катит малюткой-болярином из погибшей в полях, срубовой чёрной бани. Это детство моё везёт меня прочь от себя, уцепившись мохнатым когтистым котом за бечёвку. Это детство, детство моё я все ловлю, ловлю сухими губами, а чрез миг - солёными: плачу морями полынных слёзынек, насыщаюсь великими стонами, ведь нынче лишь во смерти ночёвка... Лишь дорога, дорога, - она одна чрез всю земельку, дорога-дорога! Лишь судьба-судьба, - ведь она одна, моя судьба, другой уж не будет. Лишь Раскол мой, Раскол, всё расколото, от Ада до Бога, - увези мя, Боже, на себя непохожево, во огненной дрожи, снова в детство... увезите меня туда, люди, люди, о люди...
Ох ты, детство моё... на морозе бельё... неба синий котел... уха облаков... плыл осётр, да и был таков... плыла стерлядка, да была такова... на морозе гаснет трёхрядка, скоморошья иней-трава... на морозе гибнут безумные Божьи слова... а я жив... и вера моя жива... власть моя умрёт... а вера моя живёт... синий огнь под полозом, звёздный лёд... сколь страданий ищо, родная моя попадья, претерпеть... ищо жизни треть... ищо вечности треть... бичеваний плеть... погост и поветь... кандальная клеть... окладная медь... люди, я просто в санках козявка, малёк... снег алмазно слепит... путь ночной далёк... путь ночной широк... лёт ночной высок... надо мной, робёнком, во всю глотку хохочет мой Бог...
Закину башку в бараньей ушанке: Три Лика... в зените Три Лика... острее зрак вонзи, прищурься, молись, эх, гляди-ка... Непостижимы... неприступны... присносущны... трисиянны... То Детство моё, то Любовь моя, то Смерть моя: неведомы, мимохожи, без шерсти-кожи, любовью больны, чужестранны... Вчера явлены, нынче сновиденны... в Новолетие вечны, сей же час бренны... То златом иконным горят, то лисьей кистью писаны, будьто парчовой гордыни парсуны... то мерцают, ровно глаголица гнева, ровно заречные молнии-руны... рокочут, ливня лунные струны... А я всё в санках качусь, да санки те уж сами с усами, самобранно, чюдесно по снегу свищут, и я в них сижу, ввечеру - Царь, а поутру - Золотарь, оборванный Нищий, и я, зри, народ, заутра воссяду на Судилище Грозное со всеми избранниками твоими, и я, безпородный щенок, вою жизнь напролёт, из гончих, звонкого лая Царских пород, лишь робячье, заячье повторяю имя - лаской мамки... за звёздной печкой... за треском дров, тепло насыщает кров, ищо ништо не свершилось... ищо никто не казнён, не убит... ищо нигде не болит... вот так, посидим у огня, обними крепче меня, пусть великое небо во срубе горит... немного ищо, во сне, в ночи, в тишине... сделай милость...
***
(мальчик Аввакум ищет дом: письмо с войны)
Стреляют. Очень страшно! А на улицу всё равно очень хочется. Я выбегаю на улицу с горящей свечой в руке. Когда возле моего лица горит огонь, не так страшно. Я с огнём разговариваю. Он живой. Выбегаю гулять, когда темно. Сегодня выбежал с огнём во двор и увидел в небе тень. Отец уже спал, мама уже спала. Раздался визг, потом я оглох и зажмурился. Когда открыл глаза, вижу: вместо нашего дома руины и осколки кирпичей. Я хотел пить, но не было воды. Колодец засыпало осколками. Из-под кирпичей сочилась кровь. В доме были отец, мама и старая бабушка. Свеча у меня в руке погасла. Я понял: я должен идти искать дом. Я теперь должен найти дом. Мой дом. Во что бы то ни стало найти.
***
(из послания великого Художника в Вечность)
Возьми, милый друже, возьми в руки-то. Не боись. Подойди. Ближе, ближе. Думаешь, голубь? Нет, друже. Раковина. Тако серебристо выгнута, и перламутром вся горит, перекатываются внутрях нея лучи и стрелы, диковинные сполохи, разноцветье, самоцветье. Огроменная та раковина, да, ну же, брось страшиться, ближе, ближе. А в ней, в раковине той, да, не щурься, не алей скулами, лице свое не отвёртывай прочь, гляди, гляди, - две нагия девицы разлеглись. Развалились! Отдыхают. Вроде дремлют. А может, бодрствуют, да так, хитрят, из-под сомкнутых век, смекай, на волюшку взирают. На волю - из перламутровой той клетки. Рыбьей, подводной тюрьмы. Любое роскошество - гибель, коли оно разъедает душу алмазной солью. Крошка льдяная, алмазная сыплется, сыплется... с небес, отвес... и укрывает землю. Всю ее, матушку, толстым блёстким платом, покрывалом святым, седым укрывает, закутывает: яко покойника, а может, яко младенчика. Лежат в Раковине голые девки! Красивые! И при взгляде на них не хочу и помышлять о худом, и чувствие худово мя не посещает, вот хоть ты режь мя. Нет порока во красоте. Внутри красоты - греха нет. А лишь чистота. И на голые прекрасные, Божественные телеса мелкое крошево алмазное с зенита, из волглых туч всё сыплется, сыплется... летит... Вот недавно хоронил я друга, друже мой, друже верный. Друга старово, старинново хоронил. И даже отпевал. Возле гроба драгово зело печальный, недвижно, инда воротный столб, стоял. Мёртвое лицо друга моево, родней родново, возлюбленново, во гробе созерцал. Серое-мышиное. Бледное. Временем выпитое. Маленькое, жалкое: вроде как усох он после кончины, и голова стала как у робёночка, в подушку атласную вжалась, вросла. В гагачьих перьях подушечных - глубко утонула. И сам весь уменьшился, укоротился, будьто ево топориком стесали, ложкой повыхлебали, инда кашу овсяную. И то, съела ево жизнь, сожрала. И нас всех жизнь сожрёт; а смертушке одне объедки на трапезу оставит. Нечем ей будет поживиться. Вот и злится она. У гроба толкутся люди, люди... а снег валит и валит с небес, незримый. Уж весь лик усопшево моево друга засыпал, уж весь атлас подушки развышитой, холстину рубахи распоследней, подземной перлами унизал... а всё валит, и валит, метёт и метёт. Все метёт! И удержу нет. И покоя нет. Природа вечно беспокойна. И равнодушна. Дела ей нет до нас. Души у нея нет. А может, есть; да только мы движенья той души мощной, природной не можем поймать, уловить, цапнуть, яко летящую снежную бабочку, сжать в горячем кулаке. К сердцу прижать. Какая тишина! Люди притекают ко гробу и плачут. Последний дом, одинокая домовина, и насельник дома сего лежит покойно и спит в нём, уж не глядит из окна.
А красивые девки - глядят. В Раковине возлежат, руки закинули за головы, груди перламутровы, животы сребряны. Вот одна веками дрогнула, глаза распахнула, взгляд на меня вскинула. Али на тебя, друже? Да ты иди, иди, подойди ближе, ищо ближе! Я вот близёхонько у гроба друга моево старово стоял. Взирал на ево белую могучую браду, на впалые бледные, бледней изнанки листьев лебеды, изморщенные щёки. Помор он по рожденью, друг мой, крепкий кряж был, не сломать, разве только выкорчевать с корнем. Любого, богатырь, мог побороть. Такова силища таилась в нём. И што? Где та силища? Куда провалилась? Кому досталася? Али растаяла, аки лёд по весне, безследно, в Реку Времён утекла?
Отпевал. Панихидные словеса громко распевал. Все молитвы без мыслей повторял, птицею летящей в чистых, пустых небесах себя чуял. Слушали люди? Не слушали? Плакали? Не плакали? Ничево не помню. Будьто над каменными плитами храма в воздухе висел. Кадило плавало, дымом плакало. Курилось, изнутри светилось. Малая планета, кованая Луна, цепь зажата в руке одна, раскачиваю звонкое небесное тело, жизнь курится, смерть так не хотела, все всё знают, как оно всё будет, да молчат, ровно звери, о смерти люди... Идеже несть ни болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь безконечная... безконечная...
Што на меня так безпомощно смотришь, друже? Што оглянулся? Иди! Шаг! Ищо шаг! Вон она, Раковина, рядышком совсем! И девки те красивые - рядом! Ты на них - лехко, невесомо дохнуть можешь, и волосы на голове у них подымутся и зашевелятся, а потом опять опадут. В покой. В тишину. Стань на колени! Лик приблизь. Поцелуй хоть одну! Пока я... иду ко дну... ко снежному дну... по жемчужному дну... по воде, по окияну безбрежному... никово не убью... не обману... не прокляну...
Эта Раковина, милый, - зри!.. не Раковина, а Книга. Перламутровы ея страницы. Тяжко их, жёсткие, военные, перелистывать. Буквицы на них то вспыхнут, то сгаснут. Это Книга жизни вечной, любви быстротечной. По ней можно молиться, а можно и засыпать над Ея страницами, а можно и проклинать Ея письмена, над ними безпомощно плача и воя, кулаки сжимая и над Нею живою хоругвью воздымая. Жизнь! Вот так все, все до единово, во гробах будем возлежать. Лежал и мой друг старинный, молчал, очи закрыты, речи излиты. Никогда больше не разверзнутся уста. Штоб вытолкнуть словеса о жизни... да, о жизни лишь одной, великой, смешной и больной! Перламутровой - распоследней - озёрной, морской и речной - небесною, безсловесною, озорной и шальной - до самово Бога встающей стеной! Ты поминай мя, друже мой, в молитвах своих! Ты шепчи мне, всё шепчи, друже, последний твой, поминальный стих! Я ево, аки любимое демество, до дна изучу... на ветру спою... у судьбы на краю... когда зажгут - и сожгут мя, как свечу...
Как свечу, слышишь ли, друже ты мой, мя сожгут! Умирать не хочу! Только берег крут! Только тут, с обрыва, далёко видать... то ли пытка моя, то ль благодать! Благослови, друже мой, тя Господь! Ты мне Постная, ты Цветная мне Триодь, ты мне тоже Книга, люблю все страницы в ней, все странствия, всю перебежку огней! Как ославляли - и как благословляли мя! Ненавидели как - до Суднаго Дня! Проклинали как, лобзали как, заносили надо мною казнящий кулак... А я вот он - жив! Да и ты - живой! Ищо ветр - над моею гудит головой! Ищо снег мне в бороду сыплет, алмаз... ищо раз... да ищо много, много раз... Да подаст нам, друже, Господь от щедрот Своих! Да не отымет от нас душу, дух и дых! Изольёт на нас влагу в засушливый год! А к Себе возьмёт - когда час урочный пробьёт! Ты гляди на красавиц во все глаза! Лежат в Раковине, яшма да бирюза, весь подводно-жемчужный, тающий перламутр - буревальных ночей, истомленных утр... Ешь ты, ешь, сладкие яства вкушай! Да хлебни из братины через край! Захмелей ты вволюшку - да спляши: на краю слезы, на помин души! Ткань ты ветхую, рогожу, в куски порви... не обтягивай новой кожей скелет любви... лучче наново, чисто, горько полюби вдругорядь - вишь ты, девки лежат в Раковине, краше и не сыскать!.. Упади на колени... руки тяни... вот - нагие твои ночи и дни... вот - нагие твои судьба и смерть... ни к одной не припасть... не обнять... не посметь... Так молись... широко, на полмiра крестись... вот и вся она, наша святая жизнь... бита-гнута... проклята... измолочена вдрызг... в письменах обречённых кровавых брызг... помолись, штоб на столе соль, рыба и хлеб... на иконе - святой твой родимый, в нимбе судеб: житие ево страдальное - повтори... может, смерть узришь, друже мой, изнутри...
***
(я сама)
Я сама к тебе пришла. Слышишь ты, сама. Нет, я не схожу с ума. До юродства благословенново, благодатново мне ищо далеко. А я тебе, отче, просто горбушка ситново, просто ледяное, с погреба, молоко. И то, мя погребли - а я восстала да и пошла к тебе, отче, по выгибу родной земли, по ея буеракам, болотам, холмам, оврагам, огням... потеряла счёт летам, ночам, дням... Ну вот я тут. Это апостолы ранее приходили в веру Христову, сперва разбойничали, а потом просветлялись. А мне - Время одолеть: экая малость. А так я с Богом завсегда - и там, откуда пришла, и здесь, рядом с тобою; на закраине стола оплывает свеча... отче Аввакуме, это я. Не погаси. Нас и так Господь в свой черёд потушит на краю бытия. Я на прелесть не соблазнялась, на соблазн не косила глаз. Я всё это за спиною бросила, изникла нищая жалость, и не надобна мне никакая мiрская сладость здесь и сейчас.
Ты ведаешь ли, я по монастырям бродила!.. скиталась, моталась по весям и городам... Мне Церковь давала великую силу. Мя от грязи омывал водопадом лучей Божий храм. Навстречь всем ветрам! А што будет там? Далёко?.. тамо, куда иду... на костёр, на звезду...
Я тебя, отче, видала издалека. Ты прожигаешь собою все века. Оттуда, из Времени, из никогда, нигде и везде, зрела всякий седой волос в твоей святой бороде. Зрела обветренные смуглые щеки, болью изрезанные стократ. Синий, пронзительный, всенебесный взгляд. Сжатый камнем кулак... родинку на скуле... Эта жизнь твоя - рекой - растеклась по земле... А я хочу в той реке плыть. А я хочу вблизи тебя пребыть. Одним с тобою воздухом дышать. С тобою вместе спасаться! С тобою вместе... помирать...
Ну так што же! Хочешь, штобы я всё-превсё рассказала тебе? Изволь. Правда дрожит у мя на солёной губе. Вот вырастет пред тобой из-под земли Никитка, звать нынче Никон. Станет он Патриарх. Да ты сам себе патриарх, в зерцало взгляни-ка, а за плечами - кострища жар. Чьё кострище? Твоё? Не бойся. Таково бытиё. Ты ж сам учил малых сих: без мучений нету ни святости, ни святых.
Вот, зришь? Фигура зело мощна, нос заносчив, одежды богато расшиты перловым зерном. То твой Царь, отче. То нас всех земной Царь, и толкует всё об одном: подчинись, смирись, исполняй приказ. А не то кулаком промеж глаз. А ты такой, отче, неприказной. Ты ж сам на ково хочешь пойдешь войной!
Иду на вы... выше корабельных сосен... тише воды... ниже травы...
Ну, протопопицу тебе што казать?.. она, жена, и есть жена. Она на всю жизнь Богом дадена, едина-одна. Рождена в вере Христовой, да взращена-воспитана в ней, всегда шла мимо болотных, диаволовых огней. Потому, што ты был рядом с ней, ты. Гласом тя ласкала: Вакушка!.. - середь житейской маяты... Вместе вы зрели на небеси знамение: как прелагалася светлая, тресветлая Луна в людскую кровь. Вместе творили неусыпную любовь. Детки рождались... а звёзды все катились, катились кругами округ синей мёртвой Луны... Зри, я дошла к тебе избитыми в кровь, живыми ногами... прими мя опричь детишек, опричь жены... Я, может, твоё дитя наилучшее, наисвятое. Хотя кругом, отче, грешна. Просто... хочу жить и помереть с тобою... не доченька, не сестрица, не жена...
Гляди дале! Болярыня стоит поодаль. Тихохонько стоит, застыла; молчит. То знатная болярыня, не опускает громадные очи, и глазыньки ея иконописные плачут навзрыд. Звать ея болярыня Морозова, а по имечку Феодосья, стоит в разстегнутой собольей шубейке, а боса да простоволоса, а батюшка ея был знатный Прокопей, а она сама владелица златых-сребряных копей, да все сокровища свои на веру в Господа Исуса променяет храбро, на любовь к тебе, отченька, без тебя - рыбой об лёд, топыря жабры...
Што же ты за камень-магнит?.. в какой землице Богом отрыт... ах, в моей родной, в нижегородском окоёме... на крыше избы своея мальчонкой сиживал на соломе... И наблюдал, как Луна катит по смоляному небу. И грыз, грыз горбушку ржаново, цвета земли, тёплово, сей час из мамкиной печи, хлеба...
Таково вижу тя, отче, робёнком... слышу, как плачешь тихо... как хохочешь звонко...
Глас человека - музыка века. Я пришла к тебе, я пришла! Из морока, криков, крови и снега. Из выстрелов из-за угла. Велишь продолжать, ково зрю?.. продолжу, изволь. Немного людей в виденьи осталось. Сыплются в жизнь твою, отче, калёная соль.
А што есть Луна, ответствуй?.. может статься, заблудшая звезда. И светит в нигде... и летит в никуда... Глядись в Луну, инда в зерцало. Видишь, там, у тебя за хребтом, всё люди-люди?.. толпятся, толкутся... ох, они тя и страшно избичуют потом...
Противостой Царю. Противостой Патриарху. Жизнь тебе - бичом и подарком. Жизнь тебе - скатёркой камчатной: убрусом к лику в кровище прижмёшь - вот тебе и образ печатный... Забьют тебя, замучат за то, што веру Русскую будешь хранить. Не бойся! Мужайся! Это вьётся Времени овечия нить. Это жужжит веретено в крепких руках Настасьи, жёнки твоея. И тебе, отче, вся земля - семья, и все звёзды - семья.
Спой нынче со мною любимый Давыдов псалом на краю бытия.
Пускай нас нынче не услышит никто из людей.
Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей!
Молись и за Никона, и за Царя. Все люди в реке-жизни плывут не зря. От твоея долблёнки отстанут их богатые, в бухарских коврах, лодьи. А ты, и умирая, живи, всё живи. А ты, и сгорая на будущем костре, бороду к небеси задирая в серебре, усыпанный рубинами-топазами, искрами огня, кричишь-поёшь про жизнь, значит, про меня! Ведь я не человечица, отче, нет! я твоя жизнь! Ты за меня крепче, больней на костре держись! Смерть - яко затмение Солнца! зачерненье Луны! Жизни, веруй, никакие смерти не страшны! Вот видишь, я тут, и пою с тобою и о тебе; это значит - я снова слеза на твоей губе; это значит - я проповеди твоея ночной тихий хрип, я под твоею стопой в темнице - половицы скрип, раскинь крестообразно в огне руки твои, ты сгораешь во любви и во имя любви, ты станешь пеплом звёзд, перегноем небес, а потом на востоке над Мiромъ взойдёшь, озарив дол и лес!
А сей час - просто, отче, тебе Аллилуия моя! Хрипло, радостно пою тебе я! Трижды славим Господа! Трикраты в Пасху лобзанье! Трисвятое пенье, знаменный распев, широкое, на полмiра, дыханье...
Всё ли понял ты, отче? Всё ли так я тебе рассказала? Отца, Сына, Духа Святаго помянула с конца и с начала? Тот ли спела заветный псалом? То ли Демество по гласам распела? Ты-то понял, што мы с тобою живём там, в ночных небесах, без края-предела?.. Там, округ белоликой Луны, над холкой Медведицы звёздной, где ветра сшибаются, где Илья в колеснице и Езекииль могучий и грозный, а рядышком с ними и ты, отченька Аввакуме, в лучистом хитоне, на звёздном убрусе... Прости-спаси-сохрани тебя, Вседержителю Господи Исусе...
***
(я свидетельствую о Расколе)
Я всё-таки добежала сюда. Я свидетель. Што такое свидетель? Свидетель - свидетельствует. Свидетельствую, ибо истинно. А ты, ты разве знаешь, што оно такое, истинно? Што есть истина? Так Понтий Пилат Исуса вопросил. И што Господь ему, наместнику императора римсково, земному владыке, ответил? Ты сказал. Да, так и сказал: ты сказал. И боле ничево. Ничесоже.
Свидетельствую, што всё оно во времена твои, отче, происходит в матушке нашей Расее ужасно. Раскольно. Мне больно! Што есть Раскол? Земля трескается надвое, натрое, начетверицу, надесятеро, на сам-сто - и расходится. Разымается! Раскалывается. Вот уже раскололась. Реву в голос. А я-то, я - на каком берегу? На правом... на левом?.. где верней спастись... а, всё одно погибнешь! молись...
Разве расскажешь тебе, отче Аввакуме, о том, што я видала-слыхала чрез три века после тя?.. поведать бы, не шутя... я ж не скоморох... но и не Господь Бог... Нет ничево, што бы по силе ужаса перекрыло то, чему люди сами свидетелями станут. Наудачу да спьяну. Хмельным лехше: они весёленьки очи закроют с улыбкой - а Мiръ под ними качнётся зыбкой, а Мiръ под ними с места тихо стронется, и поплывут корабли, и поскачет конница, и полетят железные, крестовидные лютые птицы в небеси... и будут на землю, вниз, бросать смерть... ай, Господи, спаси...
Батюшко!.. навидалась я, наслыхалась. Настрадалась. Как тот, ну, пророк, про нево ты мне говаривал, да и болярыне твоей, усердно тебе внимающей, нежно нашёптывал: Нострадамус. Во хранцузских землях жил-поживал, заботливо врачевал, людей из лап чумы вынимал. А ночьми - в толстенной книжище, телячьею кожей обтянутой, всё писал и писал. Скрипело гусье перо... расплывалось чернило... Увидати, што будет - не то, што было. Он, Нострадам, и стальных адских птиц в небесах тайным внутренним оком видал. И тяжелые коробы, сработаны из железа, а на них пушки, и стреляют; и всё живое в округе враз помирает - от края до края... А ведь землю нашу можно убить лехко, просто! И ни слова не скажут чужедальние звёзды. И ни лучика приветново нам, мертвецам, не бросят равнодушные звёзды. Убить - просто. Умереть - тоже просто. Жизнь недорога; а смерть ищо боле дешева. Подкладывай в топку людские поленья! Жарко горят дрова!
Мы, отченька, в минувшем веке пережили две грозных войны. А малых войн и не счесть; лишь о них у бедных матерей сны. Уходят на войну - и не вернутся сыны. Глаза от слёз навеки солоны. В начале века родился новый великий Раскол. Мiръ весь безумный трещинами пошёл. Люди как озверели. Убивали друг друга таково жестоко! Армии шли друг на друга. Заслоняли ужас вышитым ликом Бога. Воздымали хоругви, штандарты и иные знамёна. Кровь хлюпала под ногами. Лилась с небосклона. Кровь, она ведь всё помнит. И во мне она шумит настойчиво и устало. Мне она поёт: дитя, начинай всё сначала. Вымани из норы войну. Стань охотницей! Может, ея-то ты и застрелишь. Горькими семянами на зубах молодых смелешь. Я помню и вторую страшную битву, в средине минувшаго века. Мильоны убитых, забытых закрывал полог снега. Снег молчал. Снег валил. Морозы такие настали - хоть стой, хоть падай. Немец на нас тогда войною пошёл; и пластами, слоями жизнь обращалась в падаль. И люди людей вешали. Кололи штыками. Жгли огнемётом. Взрывали торпедой. Свидетельствую, ибо истинно! И мы били, били врага, били и гнали, до конца, до венца, до самой победы.
А ты, ты-то ведь таково рыдал, когда увидал скотину мёртвую на дворе у соседа... рыдал, Бога Господа пред образом поминал, шёл впервые по Господнему следу, ибо лишь Господь может тебе показать, как в радость обращается гибель, в имярек - любимое имя; а ты горько плакал, всё о душе, ей одной исполать, безсмертной, между смертными всеми другими...
Свидетельствую, ибо истинно! Разрубили нашу древлюю веру мечом! Скажешь, отче, Царь ни при чём, и Никон, твой шабёр, ни при чём?! Я-то вижу, да и ты уж зришь, как воистину в Господа верующие идут, собираются в срубы, штобы чрез минуту древняный гроб факелом возжечь, вознести к ночному небу огненный меч... как молитву последнюю шепчут горящие губы... Скажешь, зачем люди себя убивали?! И ты не остановил! Ты знал: так будет в конце, и так было в начале. Это выбор свободный, нам даёт Господь ево смело: иди хоть во смерть, хоть в безсмертье, ибо оба - без края-предела!
Кровь... кровь... Ты ей не прекословь. Она снимет с тебя и оковы, и сами следы оков. Человек родится в крови, убитый - уходит, весь в крови лежащ; кровавый на нево наброшен, вместо Святой Плащаницы, грязный военный плащ. А война и в мiру может завтра, да што там, севодня разразиться; война такая птица, куда долетит, там людям и разбиться. Кровь твоево народа, Аввакуме, што, на тебе разве? Воззри на Царя своево в одночасье. Вот же оно, всевластье! Лютое горе то, а не счастье. Благодари Господа, што не родился Царём! Што простолюдинами живём... народом простым, святым и помрём... А кровь, шум крови в ушах, ты же ведь тоже СВИДЕТЕЛЬ, отче Аввакуме, живой свидетель всех судеб, коих не ведала я, всех земель, где я не бывала, всех яств, што я не едала... на колу мочало, начинай сказ сначала... Я-то зрела, как тя мать женила; а ты зрел времена иные - во Время орлиным оком прозревал - в Аримафее со святым Иосифом святое вино выпивал - вдоль по Парфии за Божьим хитоном, по ветру летящим, увился... за руку Марию Магдальскую вёл... слыхал, как громко, трубно вопил Вербново Воскресенья осёл... а дорога пылила... а Господь ехал на смирном осляти к Своей могиле... и к Воскресенью... и к Вознесенью... сидел ты в мрачном, полночном саду Гефсиманском в сиреневой страшной, влажной и звёздной сени... последний цветов аромат... последний запах смолы кедровой... о, кедры Ливанские, царственны, черны и суровы... это ты, ты, отче, слыхал со Креста последнее Господа слово... ВЪ РУКИ ТВОИ ПРЕДАЮ ДУХЪ МОЙ - не правда ли, так Он сказал?.. повтори, повтори это мне снова...
Кровь. Она твой царь, хан, князь и шах. Она тихо и мощно, упорно шумит в ушах. Она омывает тебя, и в памяти вспыхивают твоей то шёпоты: люби!.. - то вопли: бей!.. Кровь течёт из раны вовне - это сквозь красную линзу Время гляди на просвет. Кровь течёт тебя внутри, в тишине - это значит: а смерти нет. Ея и в самом деле нет, разве ж я тут бы стояла, батюшко, рядом с тобой, в тебя из времени плеснулась, яко прибой?.. весь в крови мой там, за спиною, последний бой. А нынче сердце мне своё открой! Сколько раз в ночи, то ль во сне, а то ли нет, я шептала-бормотала твой - Господу - неслышный обет; твой потайный ирмос; твой последний кондак; на память вызубрила... зажала в кулак... Скольких я хоронила! Бессчётно. Не вспоминать. От Тигра, Евфрата и Нила стелилась кровавая гать. Не слёзы текли, а кровушка из ослепших очей... пел над убитым соловушка во мраке ночей... Кровь. Она въедается в землю. Ея впитывает земля. Кровь. Я ея не подъемлю. Ползёт, красная змея. Вширь, вглубь, и вдаль, ищо дальше, далёко, закатной алой рекой. Кровь. Она так одинока. Ея коснуться рукой. На деле, на самом деле - в ней толпы, вече и гам, сраженья, сабли, постели, где роды и фимиам, в ней лица просвечивают, близко, далече, горят красные свечи, пылают голые алые плечи, небо красные ядра мечет, летит в зените красный кречет, да не птица то, хищный то человече, кровавую пищу клюёт, глазом красным косит в народ, говорят, так в небе летит любовь, а кровь? Ей не надо слов. Ей ничего не надо. Ни пули. Ни взгляда. Она течь рада, и литься рада; она Богу на Кресте Распятому - награда; она вся вылилась в чашу Грааля; ея жадно выпила сухая земля, там, где мы не бывали; там, где мы не стояли; где мы не молились; так, отче, давай хоть нынче помолимся, сделай милость...
О, ты встаёшь... ты тоже слышишь шум крови... уста твои для молитвы наизготове... Молитва - это и сон, и объятье, и блаженство, и прощенье, и бой... бой последний... давай, начинай, мы оба сейчас за кровавой, кровной обедней...
Ты, отче, ходил по камням Рима, по скалам Эллады. И живой остался!.. твоя жизнь мне наградой, усладой. Твоя жизнь мне отрадой. По Руси мы оба ступаем. Инда по Эдему, по яблочному, вишневому Раю. Мандарины в густо-зелёной листве... во смарагдах - топазы... Если уж умирать, отче, так с тобою и сразу; штоб не мучили долго; штоб не расходились страданья по красной воде кругами; и стану я тогда - красная ёлка, зело изукрашенная красными звёздами, алыми снегами... Я слышу кровь. Она, отченька, тихо звенит. Она колокольна. Оттого, когда ея проливают, так тяжко и больно. Так остро и больно. Так вольно - и больно! Сколько раз я стучала лопатой в мёрзлую землю, штобы любовь мою схоронить достойно... А земля кровила. А земля - под лезвиём - мне в лицо брызгала кровью! И я клала любовь во могилу, и зарывала, и сажала цветы в изголовье, красные цветы, и они кровоточили жадно, и со креста чугунного ту кровь не смою ни сияющим бешаным летом, ни тусклой слюдяною зимою... Кровь, солёная, горькая... на губах. Это раненых я целовала. Кровь на вёслах, уключинах, на руках, я в лодке по разлившейся крови гребу ко причалу, к бедной пристаньке, в красных огнях, а волна мя пьяно шатает, и што будет со мною в иных временах, один Господь знает... Выпить красново, да, в помин. Зашвырнуть в разливы крови бутылку. Сквозь красную толщу виден рыбий сверкающий клин, видно рыданье моё на родной могилке. Видны все старые избы весей. Все древние стены забытых градов. Кровь, это просто музыки взвесь, а большево и не надо. Кровь, воли игра, Времени чётки, картография горя, Время нами играет, в крови умирает, внутри наших вздутых жил, с нами не споря, кровь, таинственная река, разливается снова, красный лёд ветра солёно ломают, кровь, ты умер, а в роду твоем твоя кровь живая, о, так тяжко, длинно шумит, и встают во крови виденья, одно, другое, третье, о чём она говорит, зачем длит прощенье и наважденье, кровь, солёно, хинно, полынно, горько, горячо, текуче, встают народы, войска и семьи, династии, военные тучи, она, свободная, широко и нагло льётся меж всеми, кровь с кровью сплетается, люди друг друга опять зачинают, тому кровь чужая, убей, а тому, о, прости, родная, кровь, вязкий плов чужеземной победы, кровоподтёк на месте оков, кандалов, забытые снежные Веды, кровь берут в полон, кровью клянутся, кровью на песке пишут заклинанья, кто в запретную кровь влюблён, нынче скотом пойдёт на закланье, кровь на морозе дымится, летит красным и белым паром, всё, что омыто кровью, всё пришло неслучайно, недаром, кровь, батюшко Аввакуме, я тебе бормочу, не слушай, для иной, небесной музыки отверзи слух свой, открой крылатую душу, кровь, это музыка, отче, это целый громадный оркестр, это варган, это жалейка и дудка и лира, я слышу кровь окрест, я вижу алый флаг ея - на пол-Мiра, в крови сшибаются, плачут, летят тела, выпирают локти, кулаки гранатами вон вылетают, кровь, а может, любовь, несвятая, да брось, святая, всё красное свято, алой заплатой кровь на мне, на тебе, на тех, кто был и кто будет, морды коней, танков гусеницы, человек в крови, это страшно, больно и гордо, кровь, рода клеймо, дымы крематориев, пылающих изб, госпиталей, полных красных криков до неба... кровь, ты ей не прекословь, отче, она же тебе насущнее хлеба... кровь даждь нам днесь... Мiръ, гляди, в крови весь... это Раскол, разрубили нас, разрубили... на душистое сено - и вопли измены... на святую молитву - и хищную, в задыханье, ловитву... на Положенье во Гроб - на дикий, последний вопль на могиле - и на Второе Господне Пришествие, в торжестве, во славе и в силе...
А любовь куда же от крови забрать... кровь, она любви и отец и мать... голая румяная баба выбегает на снег... свет струится у ней из-под век... в баньке, шипя, на камелёнку из ковша плещет вода... красная жизнь... теперь и всегда... я так люблю ея, вот беда... отченька, ну обними мя, я ж не изо льда...
***
(иду искать мой дом)
Мама ты знаешь тут всё разбомбили Мама это просто страшный сон мне снится Ты меня разбуди и проснусь в крови в поту в мыле Проколовшая небо и время живою спицей Мама я больше всего боюсь после взрыва пыли Она забьёт легкие нос рот сердце и печень И не будут светить никакие глаза как свечи Мама я больше всего боюсь чтобы тебя не убили Мама я тебя не смогу спасти если что ты знаешь А ты ведь давно умерла как забыть могла я И умер отец а я вот дрянь такая живая Но я противного свиста боюсь вот она пуля шальная Мама я знаю как пахнет война ни хлеба ни йода Соль в виде пороха крик в виде песни Война она повторяется год от года И новая грянет еще оглушительней мракобесней Мама я просто дура но мне очень страшно А вдруг полетит на нас много смертей слева и справа Меня взорвут и стану в воротах Рая Ангельской стражей Сама себе призрачный Мiръ сама себе хлеб и держава Мама жизнь всё дальше а смерть всё ближе Давай я пойду искать наш дом я его потеряла Его взорвали надо жизнь начинать сначала Всё вру надо смерть начинать сначала Мама я больше всего боюсь что ТАМ тебя не увижу
***
(Аввакум и я: речи наши)
Она мне денно и нощно баяла, эта пришелица, из Сиянья Севернаго сотканная, што ль, али из иной лучистой парчи, струящейся из поднебесья матерьи, шептала безустанно, што свидетельница всему. Всему, што было, есть и будет. А што будет? Волна чюдовищная с моря синяго на нас, грешных, нахлынет? Да и смоет нас и наши все грехи? Вот бы хорошо бы. Гляжу я в лико той девчонки, а она уж не девчоночка, инда морщины на щеках и лбу зрю; то морщины отчаяния и беспрерывной молитвы. Я сразу вижу, насквозь, тово, кто молится, и тово, кто ни рта, ни сердца не разевает, штобы к Богу Господу воззвати.
Она шепчет мне: вижу, вижу всё, што происходит ныне. Вижу всё умершее. Зрю грядущее. Тяжко это, отченька, так бормочет. И только што не взывает: исцели! Отбери у мя это наказанье! Я ей так бормочу в ответ: ну како ты можеши зреть грядущее, ведь ты ево не перешла ноженьками, на лодчонке не переплыла! А токмо себе вообразила дерзновенно! А ты представь, што тя во грядущем - нет! Нетути, и всё тут! Нет и не будет! Ты, бормочу, из древняной лодьи подземной восстанеши лишь на Страшном Суде!
А она мне: ну и што, што нет мя там, песней прижмуся ко устам, я и там Христа Бога - не предам! Время, отче, ведь нет ево. Время видать на просвет, яко осеннее жнитво. А и ты, шепчет, и ты, не отпирайся, свидетель всево.
Чево свидетель-то, тако ей шиплю-хриплю в ответ, тово ли, што самово Времени нет как нет?
А она мне: ты, мол, по Аримафее гулял, по Аттике гулял, Сократу внимал, Платону кивал, Псапфу целовал, Горация наставлял, с Овидием выпивал, за Вергилием во тьму Ада увился - да там и пропал... И это всё, бормочет, ты! Ты один! Поверх всех твоих свадеб, похорон и годин...
А потом про Раскол мне бормочет. Терпеть сие, шепчет, нет мочи. Звезда Раскола восходит в полночи. И не остановитися ему, не прерватися: он нас всех побороть хочет.
А што ты, девка, вопрошаю ея, понимаеши под Расколом? Горе голое? Страха скалы и сколы? Земелька разыдется, да ведь кровь, кровушка-то останется! Кровь, она што во Царе, што во горьком пьянице, не ломается, не кувыркается, лишь течёт-течёт, с пути не сворачивая, лавой красною, на морозе дымною, горячею... Ежели кровь наша с нами - не страшно нам никаково Раскола лютое пламя!
А она внезаапу предо мной на колена встаёт. На мя взирает, яко на икону. И так нашёптывает мне, вяжет словесную вязь, я во словесех ея тону, иду ко дну, а потом выплываю, да вижу: моя девка живая, и будьто два громадных крыла у нея за спиной, и машет ими она надо мной, птицей залётной, шальной, а может, то плывёт Луна-синица над грохотом Раскольных скал, а может, то с небес Ангелица, а я ея - не признал... Слушаю да запоминаю. Вам, людие, передаю. Всю жизнь она зрит - вашу и мою.
...Мiръ медленно, страшно, с треском, постепенно, неумолимо раскалывается. На подделку и истину. На грязь и чистоту. На вражду и любовь. На здравие и хворь. Сам Мiръ, прежде единый, когда-то неделимый, раскалывается на войну и миръ. И война будет постоянной, а миръ будет маленький, жалкий, беспомощный, недолго живущий. И опять война. Вместо мира станет одна война. Она землю покроет слоями, заплатами. И люди перестанут быть крылатыми. Видишь крылья у мя за спиной? Так больше не будет со мной. Крылья изрубят. Изранят. Истопчут. Оборвут. Мiръ станет лют. Мiръ станет казнью одной. Помолися, отченька, штобы жить, вместе со мной.
...и она крестилась и молилась, моя зело странная девка, поклоны земные клала, без конца и начала, и я повторял молитвы ея, с начала времён, до конца бытия, и, Боже, почему же я неотступно чуял ту подспудно текущую кровь, то красное пламя внутри, ту лаву из песен и слов, это красное море рук, лиц и глаз, тел на поле боя, младенцев в родильной крови, это всё чуял, што будет со мной и с тобою, и чево уж не будет со мной и с тобою, хоть слезами облейся, всю жизнь обреви, и я только вопрошал ея, тихонечко, одною мыслью, не голосом даже, а дыханьем одним, улыбки сияньем: ответствуй, а когда тот Раскол начался, и долго ль продлится, и чем мы спасёмся, дитя?.. может быть, покаяньем?..
А она очи закрывала. Жмурилась, и вправду на робёнка похожа. Нет, отвечала, не поймать нам первой Раскольной дрожи. Когда земля дрогнула всею кожей? Когда волна из недр окияна восстала? Не знает никто. И никто не подскажет, как жизнь нам начати сначала.
Я про Время тебе, отче, так скажу, бает. Вот Времени один слой. Он подземный; мрачный; немой. Туда никто не попадает, и оттуда никто не вернётся. Там нету звёзд и Солнца. Непроглядная тьма. Человеку можно сойти там с ума. Ибо мы привыкли, што время течёт рекой. А там - сумасшедший покой.
Вот второй Времени слой, вспыхнет во тьме ночей. Он поделен на лоскутья, и каждый вольно пришей! Хочешь - к себе, а хочешь - к иной судьбе. Застывает слезой на дрожащей губе. Это Время переливается, играет, так, играючи, и помирает. А после, играючи, и возродится... беспечные пляски, румяные лица! На рукаве - птица-синица жизнию прежнею снится... И вдруг - раз!.. - и канет... розой увянет... перловицей манит... плясать не престанет...
Ах, отче, третий Времени слой от крови никем не отмыт - копьём навылет летит. Он един. Он один. Люди мнят, што вот оно-то и есть настоящее Время, царит надо всеми. Копьё летит, пробивает насквозь всё, што в жизни любить довелось! Ево не отмыть от крови и слёз. То Время тяжёлое, весит грозно на чаше Судных весов. Не любишь ево?! Стань ево любовь. Не хочешь ево? Крепче обними. Благодари за жестокий урок. Копьё летит сквозь ночи и дни. Сквозь то, чем ты клялся. Што позабыл. Чрез Триоди и Святцы и землянику могил.
А вот и четвёртый Времени слой. Он мой! Он только мой! Он для чужака - тайна. А мне - любим и свят. Для нево одново мои свечи горят. Паникадила мои. Кануны мои. Во храме. Во полях. В ночи любви. На плахе, где новая казнь мя ждёт. Иду без страха. Сердце песню поёт.
А пятый Времени слой... о, батюшко, не знаю, как и сказать! Это времячко движется вспять. Вспять - для нас; а для существ иных? Иноплеменных, инозвёздных, просиявших на Луне и Солнце святых? И там, не смейся, ты можешь вернуться к началу начал. И там сказать то, што хотел, да не сказал. Оно, то Время, прорывает червём внутринебесный ход, и в червоточину ту льётся наша кровь: вперёд, вперёд! А вперёд - то назад. А потушенные свечи горят. А убитые - воскресли. А порицаемый - свят. Ежели жить заново... ежели... коли родиться вдругорядь... споёшь ли ту же самую песню?.. в иных временах не сыскать...
Ах, отченька! И вот он, вот же, вот шестой Времени слой. Смерть и живот, потоп и плот, огонь и лёд - всё захлёстывает мощной волной. Всё единит. Всё связывает. Всё накрывает омофором. Всё заключает в объятья. Все - родня: цари, плясуньи, монахи, торговцы, воры; все в нём - сёстры и братья. Это общий котёл! И там варимся все мы. Это распоследнее, невыносимое, на руках носимое Время! Дары носящее. Вдаль остро глядящее. За нас - двунадесятью языками - говорящее. Нами - языками огня - в предвечной ночи - горящее. Ты понял?! Оно за нами не в погоне. То мы к нему течём, притекаем, в нево реками втекаем, инда в море, ево собою насыщаем, своею радостью и горем. А оно и глотает нас жадно, бесповоротно. Делает самими собою. Мы - потроха тово Времени, клубимся, шевелимся, бежим гурьбою. Мы снова превращаемся в кровь, и кровью течём, вспыхиваем ея безумием алым... для тово лишь, штобы сие последнее Время всё жило, дышало, сверкало, не престало...
Оборвала речь безсвязную. Ясно на мя поглядела. Душу очами вынула из утлово тела. Я молчал; а што было говорити? Што балакати зряшно было? В девке той таилась великая сила. Я хотел усмехнутися, обратити в шутку всю ту сказку про Время. А девка на мя глядела, будьто я безсмертен меж смертными всеми, будьто я не протопоп жалкий, а Господень подарок всей землице страдальной, всей людской ойкумене... да вдруг как шепнёт жарко: покажу тебе миг Раскольный, коль желаешь, да будет то больно, а не забоишься? не захолонет сердчишко?.. а какая будет твоя мена? Што ты мне, мне взамен откроешь? Да не надо... я пошутила, отче... я ж твоей пятки не стою...
Я ей: ну давай, открывай! А она мне: передумала я. Потом. Не сей час. Когда слёзы у тебя водопадом польются из глаз. Тебе рано ищо Трещину Раскола видать. Так живи. Мучайся. Молися. Люби. Тебе исполать.
***
(Аввакум и кровь)
Людие, людие. На ково вы делитеся? Вот и я хотел бы узнати. Жизнь земную живу, а доселе не узнал. Разномастных таково много людишек. Род людской неистощим, а Господь нетрепетной руцею Своею бросает в Мiръ, инда как Сеятель, таковых инаких, непохожих. И люди суть Ангелы бывают, а суть звери, даром што созданы по образу и подобию Божию. От злодея Каина народились каиниты, от добряка Авеля - авелиты, да давно уж изникли те племена меж иных племён, влились древним народом в новые народы. Так перетекает вольная кровь. Люди, мы, носители крови, яко и всё живое, живущее. Кровушка - признак живово. Тово, што ты, брат, живеши. Ну живеши; живи и живи! Я не вынесу твоея любви; ты не снесёшь моея смерти.
Священство моё позволило мне говорити с людьми не токмо об их житии, но наипаче - об ихней смерти. Смертушка. Я во мнозих храмах служил, и множество духовных детишек за всю-то жизнь заимел. И близ Волги-реки, и во стольном граде Москве, и во таёжной Сибирской сторонушке - везде я людям проповедовал о том, како не токмо праведно жити, но во имя чево предстоит праведно умирати. Слово о смерти им своё - говорил.
Да это ж та материя, людие, смерть, о коей живой душе воспрещено самою душою - думати, сокрушатися, размышлять, восчувствовать уход свой, как наиважнейшее событие внутри людского бытия. Чем страшна война и чем она важна? Да тем, што человек на ней, на войне, помирает! Ево убивают, и он ко Господу отходит, и часто без покаяния да без причастия. Тёмно это. Вот этим война и исполняет волю диаволю. Волю Адову. А у Апостола-то сказано: где ти, смерти, жало? Где ти, Аде, победа? Воскрес Христос, и Ангелы радуются на небеси!
Духовные детоньки мои таково часто просили мя сказать им хоть тихое слово о смерти. Ну я и говорил.
Хотя находилися округ мя люди, и так поучительно провещивали: зря ты, протопоп, живому-живущему о смерти талдычишь, ну явится она и явится, в свой черёд, всё за нас природа сделает, всё устроит, а што об том зазря перешабалтывать; иные и пугали мя, нашёптывали: чем дольше да больше будеши, протопоп окаянный, пастве о смерти гудеть, тем скорей сам и умрёшь!.. да, таково и припечатывали.
А я на краю смертушки оказывался не раз. Не раз и не два. А вот же, цела моя голова. То девица ко мне притечёт, красавица, смуглявица, вся обверчена жемчугами, инда царица, белошеяя, белокурая, исповедь у нея принимаю, а сам весь огнём горю блудным, мрачным, непоборимым, она на коленах предо мною, а я ея по щеке ладонью глажу, а ладонь вся моя пламенем охвачена! И нутро, и душа сама! Тогда иду во сарай. Там дровяник. А над дровяником икона висит, самолично гвоздюрик приколачивал, штобы на дощатую стенку водрузить. Пантелеймон целитель. А под дровёшками коса валяется, старая, да вострая, ищо отцова, батюшки моево Петра. Я хватаю ту косу да себе во грудь лезвиё-то и наставляю! И уж хотел было нажати рукою покрепче и в яремную ямку остриё вонзити - а взор мой как упадёт на образ святой! И увидал я близко, ну как навроде близ лица моево, лик вьюныша святаго! Глаза ево громадные, по плошке, таково страшно, страдно ко мне и приблизились! Щека ево, лоб к моему лбу присунулись, и зрю, како дрогнул рот, скорбно стиснутый, словно бы вьюныш што мне желал сказати наиважнейшее, во всея жизни единственное! Я застыл. Яко изо льда фигура на бреге холоднова озера. Гляжу на святаго Пантелеймона целителя. И он на мя глядит. Не отрывает взора. Што ж, глазами говорит, я людей излечивал, меж раненых ходил, кто при смерти едва дышал, из рук смерти вынимал, изо тьмы своими руками доставал, мазал всех чюдесными снадобьями, целебными отварами поил, молился за всех, штобы пожили люди ищо на земле, - а ты? Што ты задумал? Да ведь грешника, тя, урода, над самим собою глумящевося, уж никто да ни в каком Божием храме не отпоёт! Не ты жизнь себе дал, не тебе ея у себя и отымать!
И отшвырнул я от себя вострую косу, ею же отец мой траву под корень косил, да и я сенокосил всласть, животине пищу на зиму усердно заготавливая. И ужаснулси самому себе, будьто бы я не человек уж пребыл, а диаволово отродье, Адова каракатица. На колена пал и стал молитися святителю Пантелеймону. Уж так благодарил ево! Слезами лице моё было тогда сплошь улито, всё мокрое, инда рубаха влажная, бабой в реке стираемая... Так, плача, в избу и возвернулся. За стол дубовый сел, локтями на нево оперся и думу думал. И надумал: ведь мя будут ищо бить-колотить, по земле голяком возить, камнями лупить. Будут мя убивать, и я буду умирать. Всё то ищо будет! Так зачем поперёд веления Господа Бога твоево ты сам во смерть захотел прыгнуть?
Да, да, да. Всё канет без следа. Процарапанный глубко лишь смерти след. А для Господа смерти не было и нет. Я и хворал тяжко; попадья меняла мне рубашки, я молился, штобы не выдернул мя Господь из жизни моей, будьто я лук аль сельдерей, на подушке голова моталаси туда-сюда, детки плакали и вопили, посреди избы плясала моя беда... а на порог взошёл болярин большой, чёрный, аки уголь, душой, я ему проповедями моими дорогу пересёк, он и возгневался, грянул срок: он мя, больново, да в кровь избил-излупил, прямо в постеле моей, а попадья с детями на сенокосе была: как раз тою косой, отцовой, траву секла. Лежу избитый. Живова местечка на телесах нет. И вижу: входит. Худая, тощая. Бледная, паче снега. Платье чёрное. Монахиня, думаю, Богом послана, из каково монастыря?.. из Желтоводсково, из Санаксарсково?.. Стоит. Молчит. Мя хладом обдало. Догадался я, кто это. Молчим оба. Страх мя взял, потом отпустил. И так светло всё стало, словно бы изнутри воссияло всё вокруг. Вся изба, постеля моя, образа на срубовых стенах. Гляжу на Смерть. Она - на меня. Ей тихо говорю: Смертушка, ты рано явилась! Я ныне тебе не дамся. Она молчит, и уста не шевелятся, а глас ея вроде как слышу. Вроде как тихий акафист поёт. Только страшный. То не тебе решати, бормочет, а мне. Я тут владычица. А ты козявка.
И ссилился тут я, и приподнялси тяжко в постеле на локтях, и выкрикнул Смерти в бледное, снежное лице ея: прочь! Знаю, от тебя не отвертишься. Да я и не хочу. Но ведаю, што - не срок мне нынче. Ищо множество дел должон я на земле свершити. Ни ты, ни кто другой не воспрепятствует в том мне! Чую, Господь мне велит дале итти. Дале! Ступай с миромъ! Отыди с миромъ!
И она отошла.
А на другой день явилися в село скоморохи. Зачали петь-плясать, песни нахальные кричать, бубны звоном ломать! Колесом наглым катались! Народ на них сбежался глядети, а они изгалялись, прыгали на бреге широкой реки. Вопили: излечим вас, людие, от тоски! А я из толпы им орал: какая же тоска, ежели с Богом Христом ты! В Боге нету ни страданья, ни маяты! В Боге Господе небеса святы, а в Матушке Богородице - Солнце небесной красоты! Не слушали мя, огненно плясали. И я восхотел их поколотить. Ну, штобы убрались подобру-поздорову! И зачалась могучая драка. Я скалку в руки взял и ею махал. По башкам, по раменам плясунов ударял. О Христе взахлёб на морозе кричал! Да разве в такой куче-мале кто услышал мя! Драка, и опять кровь, красные шматки ея огня... кровь... лилась... во снег и грязь... и я остановился, встал, отдуваясь, утираясь от крови, запоздало молясь...
Наша беда - мы опаздываем. Не поспеваем. Время не нагоняем. Мы - поздно - везде! Мы не прорастаем зерном в борозде! Мы лишь хотим, а делаем всё в мечтах. Нам бы храбрее стать, да борет нас детский страх!
Вот так и смерти боимся. Да! таково сильно страшимся ея. На краю судьбы... на краю бытия...
Смерть наступит. Пробьют ея часы. Ты встанешь на ея весы. На другую чашу встанет она - теперь у тебя, человече, одна. Когда, о, когда же, когда пробьёт этот час, где столкнутся лбами все города, где с места стронутся и огнём вспучатся все материки... а остановить Время смерти твоей тебе, жалкий, не с руки...
Когда, о когда, в самом деле, по-настоящему мы умрём, от лютой ли хвори, Господи, моляся пред Твоим алтарём, разобьёмся ли, кони вдруг понесут, али нещадно, в кровь, нас изобьют, ничево мы не ведаем... ни годов, ни часов, ни минут... Ни прощального колокола, где он звонит по тебе, всё это в грядущем, всё это рыданья соль на губе, день и час смерти - мгновенье твоё последнее, бродяжка блаженная ль, грозный ли протопоп, мощный Царь либо жалкий нищий, монах, чей заране сколочен смиренный гроб... Ты мнишь себя безсмертным, ты, ветка краснотала, безконечность чтишь по корявым слогам, смерть, она твой осколок зерцала, твоё мне отмщенье, и аз воздам, ты узнаеши о часе ея прихода, лишь когда приходит она... а тебе уже в бытии нету брода, ногам бредущим уж нету дна... Смерти никогда нету в настоящем; она явилась - а тя уже нет! О радость! огнь молящий, палящий... на тыщу живых вопросов - один погибший ответ... Смерть, людие, достоверна, но только за порогом, потом, плачуще, больно, посмертно Господь подтвердит ея правду - Крестом... Твое бездыханное тело наблюдают другие; они поют над тобою псалмы; голоса их в небо идут; а душа не хотела уходить; молила, ответно пела: ищо час, ищо пять минут... Ты воззри на себя из будущего, человече! Хоть это тяжко так! Ты оттуда увидишь: простыни, свечи, подсунут иконку под недвижный кулак... Так человек осознаёт себя впервые: вот он младенчик, вот ножка ево, вот ручонка, ладонь... Таков первый обман, разрезы ево ножевые вдоль по душе... таков убийства чёрный огонь... Ты убил котёнка, чижа, жука... утку на первой охоте... ты убил человека, чужово, родново... слыхал ево дикий стон... ты не Бог, а жизнь отнял... смерть, непостижная! ты над нами в полёте. Ты наше завтра, но тя даже мыслью не тронь. Што такое когда-нибудь? Што такое всегда? А никогда, оно што же такое? Я скажу вам так: будет будущее, ево никому нам не отвратить. Нас не будет, а Время будет, каковой слой ляжет, вам не открою; это смерть всё знает, когда исчезнуть, когда родиться и жить. Всё останется точно так же, людие, и когда нас здесь никово не будет. Всё так же будут сбиратися гости на праздник, так же сладкое пить вино. Так же будут стреляти друг в друга и целовати друг друга люди, глупые, злые, добрые, умные, смерти то всё равно. Ну, а кровь? Кровь, святая, Господи, как густо, пламенно, дымно льётся, как вьётся рекой, как накрывает красным платом времена, сраженья, завьюжённы поля, кровь, она вся в человеках, и ты, человече смертный, кровавый такой, а кровь, она же безсмертна, сосудами битвы, любви и боли тя обымает, земля! В земле наша кровь. В земле наш пепел. В земле наши стоны. В земле наша смерть, а вот поди ж ты, является вдругорядь, и вновь забирает нас - у нас, у крови весёлого гона, у родильного стона, у веры во благодать! Смерть, она же приказ! Так назначено! За нея - заплачено! От нея, молчащей, отводят заплаканные глаза. Мы бились за жизнь! За жизнь хлебнули горячево! Мы жизни молились!.. а всё умирает, умирает даже старая бирюза... Умирает старая кровь, ежели новой в нея любовь не вливает. Умирают вещи, эоны, книги в старой телячьей коже... древлие грозные льды... Смерть приходит однажды. Господи! Ты крикни нам, што она - живая! И, живую, ея попросить... ей взмолиться... штобы мимо - ея следы... Для чево ты, смерть? Какова ты на рожу? В лице твоё вот бы воззриться! Да не дашь ты. Ты в черном, монашьем, угольном апостольнике глухом. А мы путаем тя с кем-то забытым... за тебя принимаем чужие страшные лица... лица, лица, лица людские... улыбки, морщины и кровь... красново снега тяжелый ком... Кровь, сияньем течёт, неужели она с тобой, смертушка, в землю уходит... может, в небо красной хоругвью взмывает... надо всеми, над Мiромъ моим... кто там, кто там так горько плачет над телом моим при народе... не кручиньтесь... ведь смерти нет... глядите, лишь кровь и дым...
Только дым и кровь, только древлее, сирое Лобное место, а земля от смерти устала, до безсмертия ей далеко, она просто людская постель, просто Богово чёрное тесто, из которово можно вылепить новаго Мiра лицо, о, а што есть смерть, мы никто никогда не знаем, мы стыдимся ея, закрываем лица ладонями, штобы она не узрела нас, ибо всякий из нас, это грешная, распоследняя жизнь, шалава шальная, вся безсовестно грешная, жаркая, бешаная, навек, на миг и на час, вся жестокая, вся в крови, в несбывшихся клятвах без краю, вся звенящая могучими латами, вся - потерянный перстень, дырявое решето, вся в слезах последней любви, о которой я, людие, ничево не знаю, о которой никогда ничево не узнает никто.
***
(взорванный дом: письмо с войны)
детство детство ты мой дом я голодна по тебе всегда всегда из развалин я слышу стон эй люди скорей сюда детство мы жили в погребе твоём мы заикались когда стрельба вот бы крепко обняться с мамой вдвоём а война стороною пройдёт слепа кто нас спасёт у нас есть Царь князь воевода опричный полк спрячусь от смерти в мышиный ларь там хранятся подзоры и шёлк там хранятся крупы и мёд хохот и слёзы хлеб и вода смерть летит недолёт перелёт сегодня живы навек навсегда детство ты просто дом на века в тебе живёт смерть и кровь горит детская кровь это народ кровь за кровь ничком и навзрыд кровь отдать за кого за что прямо в дом целит снаряд в мамино старое плачу пальто небо горит слёзы горят не виноват говорят никто что Рай обратился в Ад
***
(я: глаголю о Настоящем, откуда пришла)
Батюшко. Да ты послушай, слушай мя. Выслушай. Да кивай, коли не веришь; просто так кивай, для успокоенья моево. Я-то на твоём языке говорю, а ты на моём не смогаеши. Ну и што? А то. Язык, он один. Народ - един. Што вчера, што далёко, завтра. Туман обвяжет то дрожащее птичкой завтра, слоями, покровами, погостами наляжет, не рассмотришь. А кровь течёт, коли ранят иль убьют, на землю вытекает, всё такая ж красная, дымная, - живая.
Я притекла к тебе из моево Настоящево. Моё Настоящее - спросишь, каково оно? А рассказать - не смешно. Да в любом Времени, отче, смеху-то и нет; за всё держи ответ. Снег так же там густо, щекотно валит с небес. Так же волчьи молчит лес. Там так же стреляют, убивают, казнят. И так же - из гроба - не воротятся назад. А я тут пошто, спросишь, почему? Сама не ведаю; поторчу близ тя, отченька, да и уйду во тьму. Подхвачу, вон, в уголку перемётну суму. Давай нашепчу; што, и сама в толк не возьму.
Моё Настоящее. Костром горящее. Свечой дрожащее. Рыбка ледащая: уклейка, сорожка, на ушицу мясца крошка. Нету жира, навара. Настоящее, а будьто древнее, старое.
Ужасно моё Настоящее, отче. Тягостны дни; бесконечны ночи. То воюют народы, то ждут войны. Про войну снятся безумные сны. И мне снились. Я Бога просила: возьми от мя те сны, Боже, сделай милость. Очистил Он от черноты душу мою. Всё светло вокруг стало! И я увидала - стою у пропасти на краю.
Што, вопрошаешь, как попросту мы живём? Да всё так же, как и нынче. Хлеб жуём да водицу пьём. Водица течёт изо ржавых труб. Горечь достигает дрожащих губ. За труд всё так же платят монету. Кто трудиться не может - бредёт с котомой вдоль по белу свету. Все люди, отченька, могут друг с дружкою балакать на большом разстояньи; лепечут в маленький ящичек разные словеса, а собеседник слышит твоё дыханье, ловит смешки твои либо всхлипы твои. Чует злобу, даже ежели врёшь ему о большой любви. Чует любовь, даже ежели сурово цедишь скупые слова: чувство, оно же как кровь, оно течёт, благо ты ищо жив, ищо жива.
А то ищо все людишки друг с другом вяжутся в одну-единую незримую Сеть. Тово нельзя ни услыхать, ни подглядеть! Чрез особые коробы железные в ту Сеть можно себя вплести. И навеки ты - узел ея; и весь Мiръ у тебя в горсти. Да всё, в тенётах ты навек. Ты журчишь водою. Ты с небес валишь, снег. Ты ловишь собою рыбу чужую, да не ты ловец. А кто? Господь Бог? И не Он, ни Сын, ни Отец. И ни Дух Святой. А Тот, Безымянный, што незримо и молча стоит за тобой.
Вместо слюды да бычьих пузырей у нас в окна вставлено стекло. Хрупко оно, бьётся лехко, ударь скорей!.. - и вдребезги. Время ушло. Не вставишь заново, не глянешь ево на просвет. Было оно, Время, и вот не было - и нет. Руку посунь - вместо Времени - пустота. Та земля, да уже не та. Тот град, да уже не тот.
А мимо тя Тот, Молчаливый, Безымянный, идёт.
А то ищо нас, отченька, обуял глад и мор. К зениту взмыл отчаянный хор! Люди вопят! Люди блажат! Не хотят помирать! Неизлечим жуткий мор; несчётна ево дикая рать. Надвигается, нас косит громадной чёрной косой. Пред ним все двери закрой - а он влетит в окно! Неслышно хрипит: помрёте все всё равно... Мы сражаемся, отче! Мы умирать не хотим! Подымается к небу с земли улетающий дым. Это тела сжигают. Это воскуряют ладан святой. Живу одну жизнь, а она уж другая... иконы мvром плачут во храмовой тьме густой...
На улицах мёртвые лежат. На скорбных одрах возлежат тела. Эта хворь неизбывна. Нам теперь с нею жить, вот и все дела. Я тово не хотела тебе, батюшко, говорить. Да видно, так надо; ведь и у тя, отченька, попросят: пить! Ведь и ты, отче, у ближнево однажды попросишь: пить... Ты ж не смерть, ты косою не косишь, ты живую, травную, кровную вяжешь нить...
А я там, в моём Настоящем, иду по смрадным улицам, трупов всюду тьмущая тьма, и как это я, отче, до сих пор не сошла с ума, я не знаю, как эта зараза зовётся, может, антонов огонь, может, иная чума, да только Мiръ в Адов бочонок чёрным млеком щедро льётся, и глотаем мы ужас и скорбь задарма... И у мя в руках, отче, знаешь, пузырёк малый, прозрачный такой, как сосулька весенняя... еле держу ево ослабелой рукой... и из того пузырька стеклянново, будто иерей - мvром иль на соборованьи елеем, помазую на земле лежащих - и мертвецов, и живых... к ним росомахой подбирается тьма... ищо дышащих... снадобья не жалея... то масло розы, и цветы я сбирала сама... И они разлепляют глаза свои, раскрывают уста на последний, пьянящий земной аромат - жизнь, огромная роза, пылающа и свята, память лишь о тебе, Райский Сад!
Да, отче... земля - Райский Сад... мы ея опоганили сами... сами под виселицу себя подвели... сами себя бросили в пламя, растоптали коркою хлеба в пыли... Сами... всё сами... а может, Настоящево нету... может, я живу, отче, здесь и сейчас, и к тебе прижимаюсь голой планетой... яко Луна к Земле... навек ли, на час...
Што, спросишь, как же мы выкарабкалися из той оглушительной хвори?! Как смогли ея победить?! А никак... лишь умирать на просторе... лишь хрипеть напоследок это вечное: пить!.. - то ль врачу-исцелися-сам, то ли прохожему, в лохмотьях, язвах и кашле, то ли любви единственной, што твои руки крепко сжимает в своих... штоб тебе идти по дороге смерти было не больно, не страшно... штобы ты мыслил: средь мёртвых тако же хорошо и семейно, как средь живых...
Тихо, тихо... Не утешай, не надо... Рассказ мой окончен простой... понял ли ты што али нет, не ведаю... мне и молчанье - награда... мне и рука в руке - невыносимый свет... Я просто птаха малая, зачем-то из Настоящево в моё Прошлое прилетела... в твоё, отченька, Настоящее... Времени нет, ну поверь мне, поверь, поверь... Я всево лишь дух, никакое не тело, я всево лишь в твоё Грядущее открытая дверь...
А, ты про Грядущее?.. изволь, давай туда вместе заглянем. А ты знаешь ли, отче, што два-то у нас Грядущего, два! Как два глаза. Две руки. Две ноги. У двух образов Будущее помянем: у Распятья и Богородицы, што Заступницею Пречистой над Мiромъ жива.
Возьми мя крепко за руку, отче. Только не отпускай руку. Слышишь! ты!.. только руку!.. руку, руку не отпускай! Мы увидим сначала одну, на пол-Мiра, последнюю муку. А потом оба узрим Грядущий, возвращённый наш Рай.
Первое Будущее - ох, не приходило бы оно лучше. Лучше б сдохло оно, метко простреленное, насквозь. Да охотники мы неважнецкие. Положились на случай, на извечное наше, ленивое наше авось.
Видишь выжженную равнину?.. снега иль пески то белые... ветер их перевивает, в кольца свивает, в петли, круги... До погибшего Мiра, отченька, никому во Вселенной нет дела. Все погибли. Все умерли. Все убиты - друзья и враги. Это ужас последней войны, невероятной, а ведь настала. Разстилается тьма, безлюдье, белизна, пустота. Разстилается - без человека - Мiръ. А Бога там нет?.. только Смерти жало?.. значит, ея победа... выходит, ея торжество... без Господа... без Креста...
Отвернись... не гляди... очи выглядишь, вытекут с горя. Повернись в инакую сторону. Мимо смерти смотри. Видишь, видишь?.. на невиданном, на громадном просторе Землю, звёзды, Солнце, Луну зришь снаружи и изнутри. Это, отченька, наше Грядущее... я ж говорю, иное... эка Космос великий играет нам всеми гранями!.. инда алмаз... весь цветной, рубин, малахит, лазурит, шалью вспыхивает ледяною... видишь Ангела?.. он летит над нами... здесь и сейчас... Улыбается Ангел, тихо поёт!.. на дудочке нежной играет... утомлённый дорогою дальней, крылатой, по небесам... он чудесный вестник безслёзного, звёздного Рая, он нам - музыка, мvром святым льющаяся по щекам, раменам, по устам... Видишь счастье, Грядущее?.. не сомневайся, оно так и будет... а первое Будущее - это всё понарошку... это всё лишь игра... будет свет, радуга, музыка, мандарины и яблоки на серебряном блюде... верьте, люди, о люди... и так будет с тех пор сегодня, завтра, вчера... Будет радость, о ней ты, отче, всю жизнь и молился! За отцами, святителями, преподобными, равноапостольными всё: "Радуйся!.." - повторял... Ты лети туда... только в радости не забудь дорогие могилы... только в радости исповедуй веру родную, начало начал...
Ну, а я, отченька... разреши, я пойду. А куда, и не спрашивай. Содрогнёшься, узнаешь коль. Ужаснёшься... захочешь со мной... Напоследок дай испить вина. Дай кусочек свежево брашна. Загляни мне в лице, седой, озари улыбкою молодой. Поцелуй: устами прикоснись осторожно к бледному, ледяному, потному, светлому лбу моему. Всё, што было меж нами, это свиданье, немыслимо, невозможно. А теперь я уйду во свет. А тебе помстится - во тьму.
Свет и тьма. Тьма и свет. Равновелико похожи. Равносильно насущные. Равномощно обнимут нас. Обними и ты мя, отченька, до кости, до рыданья, до дрожи. Пока живы мы. Пока ясный огонь не угас.
***
(протопоп и боярыня Морозова)
Сколь народищу на улке! Толпятся; дымятся. Я тулуп нашвырнул на плечи, на крыльцо вынесся, гляжу. Валят и валят! И остановки нету. Я за всеми побёг. Вечная зимонька за плечи обымает, в лице плюёт снегом мокрым, тяжёлым. Бегу, и на бегу лице от мокрети отираю голой ладонью. А потом вдруг мороз ударил, под ногами лёд голый, и снег в пуржицу обратилси. Ух!.. бегу-мчуся, да встал инда вкопанный. Потому што все стоят, замерли. Наблюдают. Я чрез головы всех воззрился!
...да и понял живёхонько, што к чему.
Болярыню мою, свет-любимейшую, Феодосью Прокопьевну, в розвальнях везли.
Куда? На суд? Опосля суда - приговор исполняти?
Каково я здеся-то оказалси? Я ж пребываю в дальних землях Северных, в наказании подземельном, во гладе и хладе... Ничево не понимал, однако всё на земле происходило, и на снежочке я стоял сапогами, на скрипучем, а розвальни с болярынею - мимо мя, грешново, неслися.
Я себе так шепнул: гляди, протопоп, да запоминай всё до капельки, ибо ты сподобился; потом разберёсси - и в себе грешном, и во Времени, и во приговоре, и во чудесех. Девица в расшитом золотной нитью, шерстяном тёплом плате, со громадным сапфиром-перстнем на тонюсеньком пальчушке безымянном - рядом стоит. Ручонки ко груди прижала: молится. Крестится, зрю, двуперстием. Да разве старую веру изыдеши! Разве ж прогониши ея батогами! Ни выжжешь кострищем! Ни обезглавишь секирою! Ты ея в яму бросишь - с голоду помрёт, а воскреснет она.
Везут! Везут, Господи... Укрепи ея, поддержи ея... Любимицу мою, ученицу смиренну... Сколь хлебов она страждущим раздала! Сколь безродных, голодных накормила! И хлебом, и рыбой, и молитвой, и любовью. Скольких обымала-перекрещивала! На ночлег устраивала путников; обнищалым - кров давала; безверных - верою укрепляла; близких схоронивших и во скорбях пребывающих - надеждою на грядущее изумляла. Всё она, болярыня моя! И я ли ея тому учил! Не Господь ли Сам учил ея тому! Не Господь ли Бог наш Сам ея наставлял!
Мимо, мимо розвальни... На снегу сидит, скрючившися, ноги под себя поджавши, в отрепьях и чугунных цепях, железных змеях, юродивый Христа ради. Ах, юрод святой, давай-ко, помолись за мою страдалицу! И бродяга блаженный, будьто услыхал мя, на болярыню в санях воззрилси, длань тощую подъял и ея широко перекрестил. Двуперстием! Господи, возлюби, сохрани! Возлюбленная дщерь Твоя за Тебя нынче - на смерть идёт!
И глядел я ясно вперёд себя, и нашёл глазами в санях - лице ея.
...И розвальни! И снег, голуба, липнет сапфирами - к перстам... Гудит жерло толпы. А в горле - хрипнет: “Исуса - не предам”. Как зимний щит, над нею снег вознёсся - и дышит, и валит. Телега впереди - страшны колеса. В санях - лицо горит. Орут проклятья! И встает, немая, над полозом саней - болярыня, двуперстье воздымая днесь: до скончанья дней. Все, кто вопит, кто брызгает слюною, - сгниют в земле, умрут... Так, звери, што ж тропою ледяною везёте вы на суд ту, што в огонь переплавляла речи! и мысли! и слова! и ругань вашу! што была Предтечей, звездою Покрова! Одна, в снегах Исуса защищая, по-старому крестясь, среди скелетов пела ты, живая, горячий Осмоглас! Везут на смерть. И синий снег струится на рясу, на персты, на пятки сбитенщиков, лбы стрельцов, на лица монашек, чьи черты мерцают ландышем, качаются ольхою и тают, как свеча, - гляди, толпа, мехами снег укроет изсохшие плеча!
Снег бьёт из пушек! стелется дорогой с небес - отвес - на руку, исхудавшую убого - с перстнями?!.. без?!.. - так льётся синью, мглой, молочной сластью в солому на санях... Худая пигалица, што же Божьей властью ты не в венце-огнях, а на соломе, ржавой да вонючей, в чугунных кандалах, - и наползает золотою тучей собора жгучий страх?!.. И ты одна, болярыня Федосья Морозова - в Мiру в палачьих розвальнях - пребудешь вечно гостья у Бога на пиру! Затем, што ты Завет Ево читала всей кровью - до конца. Што толкованьем-грязью не марала чистейшего Лица. Затем, што, строго соблюдя обряды, молитвы и посты, просфоре чёрствой ты бывала рада, смеялась громко ты! Затем, што мужа своево любила. И синий снег струился так над женскою могилой из-под мужицких век. И в той толпе, где рыбника два пьяных ломают воблу - в пол-руки!.. - вы, розвальни, катитесь неустанно, жемчужный снег, теки, стекай на веки, волосы, на щеки всем самоцветом слёз - ведь будет яма; небосвод высокий; под рясою - Христос.
И, высохшая, косточки да кожа, от голода светясь, своей фамилией, холодною до дрожи, уже в бреду гордясь, прося охранника лишь корочку, лишь кроху ей в яму скинуть, в прах, внезапно встанет ослепительным сполохом - в погибельных мирах. И отшатнутся мужички в шубёнках драных, ладонью заслоня глаза, сочащиеся кровью, будьто раны, от вольново огня, от вставшево из трещины кострища - ввысь! до Чагирь-Звезды!.. - из сердца бабы - эвон, Бог не взыщет, во рву лежащей, сгибнувшей без пищи, без хлеба и воды.
Горит, ревёт, гудит седое пламя. Стоит, зажмурясь, тать. Но огнь - он меж перстами, меж устами. Ево не затоптать. Из ямы вверх отвесно бьёт! А с неба, наперерез ему, светлей любви, теплей и слаще хлеба, снег - в яму и тюрьму, на розвальни... на рыбу в мешковине... на попика в парче... Снег, как молитва об Отце и Сыне, как птица - на плече... Как поцелуй... как нежный, неутешный степной волчицы вой... Струится снег, твой белый нимб безгрешный, расшитый саван твой, твоя развышитая сканью плащаница, где: лёд ручья, Распятье над бугром...
...И - катят розвальни. И - лица, лица, лица засыпаны сребром.
...и я стоял и думал: а ведь всё это ты, проклятый Патриарх, всё ты и наделал. Полстраны, пол-Расеи секирами вспахал, кровью засеял! А што из крови-то вырастет? Кровь и вырастет, оно понятно. Из ненависти вымахнет ненависть. Да до небушка. Дымы повалят, пули засвистят... Покосился. В толпе рядышком со мною, грешным, странник стоял. Сколь я их, горемычных, на веку повидал. На суглобой спинище старый, годами трёпанный, молью траченный, с чужово плеча кафтан; от дождей и снегов весь повыцвел, сам цветом дождя сделалси выкрашен. А он на мои порты зыркает. Порты залатаны, Настасья залатала со тщанием, со любовию. А я стою, в раздумье тяжкое погружённый. Патриарх, мыслю! Ты человек, властью облеченный, яко Царь. Ты да Царь - вот тож двуперстие. И вся Русь, да, вся, тем двуперстием должна бы покреститися! А што взамен тово?!
Везут... везут мою дитятку духовную... везут мою цариценьку в клобуке, чёрную мою ворону-галку, монашеньку... в одеждах цвета земли она, и на соломе, в розвальни набросанной, прямо, гордо сидит, сани туды-сюды качаются, а она... она не покачнётся... руку воздымает, высоко подымает, выше главы своея... и - вижу - двуперстие из пальцев исхудалых складывает... и ищо выше, выше тянет... вот же оно, вот - Исусово крестное знамение! Исусов знаменный роспев! Чёрная воронушка моя, монашенька моя Христова, дщерь моя исповедальная! Ведь на смертушку катишь! Ведь розвальни те толстопятые, полозья - брёвна стоеросовые, тя везут - ах, знаешь ли, куда?! на што?..
...и тут болярыня моя на мя - свои широкие, будьто лопатою выкопанные на метельном лице тёмныя очи - перевела.
...узнала. Она - мя - узнала!
Споведала!
Мне почюдилось: власы на главе ея, под монашеским полночным апостольником, встали дыбом. Брови собольи на лоб поползли. Щеки осунулись. Всё лице мукой смертною исказилося; словно бы она уж в яме сидела казнящей, и вверх, на последний свет свой Божий, из ямины - глядела, и со светом Божиим - прощаласи.
А длань с воздетым двуперстием - не опустила.
Так и сидела с подъятой рукою, толпу плачущую, ропщущую крестя.
Побледнела сильно. Цвета снега сделалось ея лице. А снег повалил гуще, гуще, и вечер наваливался, катился синею бочкою из-за сараев и древняных сторожевых башен, и всё синевою обнималось и лазурью мрачной, предночною вспыхивало, вспыхнули и глаза болярыни, на мя обращённые; я видал, она разлепила пересохшие губы, мне чудилося, они кровью запеклись, и вытолкнула из груди своея хриплый стон: Аввакуме!.. отченька!
- Аввакуме!.. отченька...
Мне причюдилось, вся могучая толпа, што на ветру да на снегу упрямо колыхалась, взорами болярыню провождала, тот возглас сирый, тот стон прощальный услыхала. Я стал ушами всех. Глазами всех. Я внезапно стал всею толпой. Таковое чувство может посетить живущево человека; оно сродни всеобщей вере; оно нисходит на тя в соборе, в совместном мощном пении, в любви, когда ты и супруга твоя нежно и крепко обымаетесь на общем ложе, во звёздной морозной ночи, а изба жарко, томно натоплена, для радости и зачатия. Я стал всеми людьми. Каждым человеком во толпе стал я. Снегом под сапогом странника. Чугунными веригами на голом теле блаженново. Сапфировым перстеньком на тоненьком пальчике боярышни, што таково жарко, безысходно молилася за безвинно на смерть осуждённую. Секирой на плече, на бархатном, цвета болота, кафтане боярсково стражника. Я стал всеми очами и всеми ступнями; всею утварью, мастерами изделанную, и всем ветром-воздухом; всеми голосами, ропотом, вскриками и бормотаньем, и всею тишиною, падающею с небес тяжёлым Царским, белым, прозрачным, кружевным пологом. Я стал - всем.
Всем сущим.
...не сознавал, што же такое со мною.
...чуял токмо: таковое же и Господь испытывал, когда заколотили гвозди Ему в руки и ноги Ево и вздёрнули Крест Ево ввысь, там, на Лысой горе.
...и блазнилось мне, што вся толпа эта, розвальни моей болярыни слёзными зрачками вдаль провождающая, всё это толпища Голгофы, и все мы стоим не на улочке града заснеженнова, а на истинной Голгофе Господней, на Лобном месте Господа нашево Исуса Христа, и там, за пеленою снега, над градом многолюдным, неистовым, муравейным, над толпою, над санями, везущими мою болярыню на смерть, над крышами и крестами храмов Божиих, над птицами, галками, воронами, снегирями и свиристелями, над безумными воробьями и Ангельскими голубями, то и дело вспархивающими в набухшее снегами небо, встают эти великие, огромадные Три Креста, и на одном, в самой средине, в средоточии Мiра видимово и невидимово, висит-раскинулся, тяжкими, яко жизнь вся, гвоздями приколочен, Христос, а праворучь и леворучь Ево - два креста помене: и там два человека тож распяты, и оба головы к Спасителю повернули, и взирают на Нево полными невылитых слёз глазами. Мученики! Даром што разбойники! А может, они покаялись! Может, пред казнию у них исповедь священник принял!
Да што там: сам Господь на Кресте - их, татей, простил!
И вот над болярынею моею, в санях катящейся, и стоят-нависают над крышами, башнями, крепостными стенами, нищими избёнками Три Креста, и высочайший - Крест Господень, и она, задирая к Нему главу свою, облачённую в угольный мрачный плат, выкрикивает, и слышу я напоследок, прежде чем розвальням во клубящейся метелице навек исчезнуть, этот ея пронзительный, высоко летящий крик:
- Помяни мя, Господи, во Царствии Твоём!..
И тогда я не знал, не ведал, што со мною сотворилося. Вскинулся весь, будьто птицею я стал, тварью пернатой, и все перья на теле моём хладно, могуче и празднично подъялися, и окутался я облаком то ли вьюги, то ли дыма, то ль воскурений снежных, небесных. Ангелом на миг я стал. Преисподню на мгновенье стал зрети. Весь Мiръ, инда яблоко, стал держати на ладони. И сам - в тот весь Мiръ разом обратилси.
И я, сиречь весь Мiръ, так болярыне моей возлюбленной крикнул, глотку надрывая, изо всех последних силёнок:
- Нынче же будеши со Мною в Раю!..
И это раздалось, раскатилося по всей белой снежной земле, надо всей колышущейся толпою:
- Ю-у-у-у-у-у!.. ю-у-у-у-у-у...
И не устыдился я, не засмущался, што я на глас Господа Бога нашево свой глас положил; я ведал-знал, што именно так и надобно крикнуть.
Другово прощанья нам с возлюбленной дщерью моей было не дано.
А вот таковое - назначено.
Имеющий уши - да слышит. Имеющий душу - да простит.
Прости, спаси и сохрани мя, Господи.
...так бормотал я, уходя со снежной, тысячью ног притоптанной площади, с когтя-загогулины птичьей улицы, уходящей во смерть и в никуда, от следа дико визжащево санново полоза, а из розвальней у болярыни свешивалась медвежья полсть, тепла была, да вытерта до дыр, насквозь, старая медвежья шкура, да я согласен был, штобы с мя шкуру содрали и болярыне моей на дно розвальней - бросили-положили: штоб тепло ей было, любимице моей, штоб закрыласи она мною от ветра и острой снеговой крупки, што посекает голые руки и лицо, оставляя на них ямки, выбоины, оспины; так шептал я, и шёпот мой заглушали мои шаги, я тяжело ступал по снегу, скрип-скрип, хруп-хруп, уходил от прощенья, прощанья, от ненастново виденья, от метельново колыханья, от памяти и забвенья, от рода, племени и званья, от всево и вся по именам называнья, и я старался, идя, всё забыть, всё простить, што было и чево не было; я шёл и молился, штобы болярыне моей в ямину каждый день горбушку хлеба бросали и тем жизнь ея продлевали; а потом стал молиться так: Господи, не дай ей мучиться черезчур длинно, возьми у нея ея жизнь поскорей, ибо пришла она к Тебе с повинной! И люди текли, бежали, катились, летели, ковыляли округ мя, за мной, впереди и рядом; и не было сил провожати их взглядом; я их только душою чуял, только телом тела их жаркие, тёплые, старые, юные видел, шёл вслепую, напропалую, ко себе самому в могучей толпе наконец приидя, шёл один, а как будьто все разом, шёл один, али тьмой тем, уж не ведал, а на мя косил некто Молчаливый, Безымянный волчьим глазом, ступал за мною по следу, а метель вихрилась, била ладонями мя в лицо завируха, и шептал я безсвязно, Господи, помоги, сделай милость, и улыбался, и плакал тихо и глухо.

***
(девочка и матерь ея: письмо с войны)
Мама, мама, я просто малое дитя твоё Я хочу чтобы на руки хочу чтобы крепко к тёплой груди Я всё знаю мама про быльё и про небытиё А про новую жизнь ты мне сама расскажи под снега-дожди Вон они за окном стеною и сном всё встают и встают Мама мама ты знаешь когда вырасту я хочу Стать для путника проводницей там где берег крут Там где боль и боль умирают плечом к плечу Там где Мiръ и Мiръ сшиты крепко чёрной войной Этой чёрной заплаты с атласа белого не содрать Мне всё кажется это не с тобой не со мной Эта жизнь ли смерть молитва ложь благодать Всё наврали нам ты от удара вчера не умрёшь И меня не застрелят завтра ни наводкою ни из-за угла Мама мама Мiръ на малую меня так похож А война она же закончится и все дела А ты там на том свете вяжи всё так же вяжи То берет то кофту то шарфик то штопай бельё То на кухне точилкой точи тупые ножи А я знаешь завтра воскресну во имя твоё
***
(Царь Космос и Аввакум)
Ах, сколько ж мя били. Сколь шпыняли. Гнали, лупили по спине древками секир ли, копий. Я-то желал вид принять холопий, да не мог, не мог, душа не смогала! Вот болярыню мою на смертушку в санях увезли. И што? Разве ж я ея забуду? Да никогда, вот во веки веков, вот клянуся чем хошь, жизнию ли, гибелью, мне нынче всё едино! И розгами солёными мя охаживали. И плетью-девятихвосткой донимали. За што, за што люди ненавидят человека, брата их, друженьку их? За што бичуют, пытают? А кто разъяснит! Вот на казнь лютую мя поволокут; да кто ж по мне заплачет? Разве родные-родненькие? Ах, жёнка! разбитая маслёнка... квашена капуста... без тя, жёнка, ох, на небеси будет пусто, таково пусто...
Да, людие... зло, мерзкое зло всё живёт на земле, таково живуче оно, а мы зовём к себе смертушку, когда уж невмоготу нам, когда не сдюживаем жизнёшку... непознаваема смерть, страшно, страшно человеку ея дикий каменный лик зрети. Вот балакаю - каменный; а может статься, живая она! И морда у нея волчья, и огнь палящий, краснее крови, заместо волос с главы ея на костлявые плечи струится. А ведь только зреть мы ея можем, только глядети в ея рожу... а беседовати с нею никак не выйдет, безмолвна она, немая навек, и мы онемеваем, на нея глядючи, она и нас немтырями, пред ней смущёнными, сотворяет. И покаяться-то мы во смерти перед Богом, будьто во грехе каковом страшнейшем, никогда не можем, ибо для всех уход в потайные, паутинные нети назначен: што для каждой малой букашки-стрекозки, што для Царя Грознаго и Великаго. Покаяние, людие... что есть покаяние на земле? Покаяния отверзи ми двери... покаяние паче гордости... покаяние превыше любви человеческой... а превыше ли оно любви, ответствуй, Боже, Господи Боже мой! А Бог-то, Бог наш каялся ли когда али всё молчал... сердце на замок... уста закрывши, зубы сцепивши... в Гефсиманском саду рыдал наш Господь, умолял Отца: отведи, отбери от Мя чашу сию!.. да на реках Вавилонских, да, на реках Вавилонских, на Тигре да на Евфрате, люди из реки зачерпывали да и пили счастье из горсти... а их побивали мечами, камнями, копьями, продавали за грош-копейку, предавали... Моисейскую песнь великую поют во храмах во время неизреченное, во неделю о Блудном сыне... я тоже пою... и я, грешный, пел... аз есмь многогрешный раб Божий Вакушка... сколь раз глотку мою надрывал: парастасы и кондаки, ирмосы, тропари, полиелеи и стихеры, апостоли, мученицы и пророцы, святители, преподобные, равноапостольные, страстотерпцы - все вокруг мя частоколом густым стояли и всё мне в лице моё шептали: Рая на земле твоея, батюшко Аввакуме, вовеки не случится; земля есть, а тебя, возможно, уже и нет, иди ты за Богородицей, лехчайшими стопами Она шагает по облакам, лазурные одежды за Ея спиною по ветру вьются, иди за Богом своим; это так суждено тебе, метели насквозь, вьюге поперёк, пройди за Ево великим ходом иным путём, твоею дорогой... твою дерзкую наготу только не забудь прикрыти. Не забудь стыдиться тово, чево надобно на земле стыдиться, и не взирай туда, куда заказано глядеть, и не делай тово, што возпрещено тебе делать от веку; иди торжествующе и радостно, на весь Мiръ крича песню, прямо в Рай, и рубищем, подаренным мимохожим каликой, закрывай тело голое твоё; так телеса закрывал свои праотец наш Адам... часто, часто люди себя отроками вспоминают, слепые от последнего счастья оченьки свои горе, вверх, всё выше и выше подымают; а там, в выси, синие льдины, чёрные, дымные грозовые небеса... так подниму глаза свои, давай, воплю, прямо гляди на святое, не отврати лица твоево от раки Твоея, Господи Боже мой... величит душа моя Господа, и всюду Царь Давыд, со всех страниц, со всех златых алтарей ево ясных глаз, ево царской брады и унизанных перстнями пальцев - тихое сияние... песни ему каждый день готов петь; пускай из глотки моея натруженной сия песня излетает, праздничная, солнечная, бесподобно на весь Мiръ распахнутая... Знаете, людие, есть такая икона во храме правоверном: прозывается Царь Космос. Вот вы вопросите мя, што за Царь таковский и почему нерусским, не нашим имячком зовётся. Царь Космос. Чёрный, густой, дегтярный плат, смоляной хоругви наподобие, и смотрит на нас изо тьмы той предвечной, из угольной Вселенския мрачности человек да Царь; не Царь Алексей Михайлыч, а Царь Небесный, нет, што я каково жалкое словцо изронил, нет! Надмирный, Превышенебесный; душа не ведает, како ево восхвалити, не держит слов за пазухой таких душа живая, и я не храню, а только в лик Ево золотой гляжу, ясный, светлый, круглый, инда Солнце али Луна; латунный свет лучами во все стороны от Нево исходит, а за Ним-то чернота, маята, безпросветный мрак, безобразная, довременная тьма: златой радостный праздник на весь Мiръ празднует, нам, жалким людям, улыбается, а на голове Ево, Царя тово, корона, будьто смеющаяся пасть китайскаво дракона; зубцы, яко чюдищ языки жадные, яко лопасти али лепестки громадной Райской лилии, наружу выворачиваются... бронзовые лопухи, огромные листья невероятново, неземново древа, златые, шире санново пути, разлапистые ладони, и все сплошь усажены драгоценными каменьями, аж зрак робкий свеченье то ножом режет, и глазам больно, и стою противу той иконы и жмурюся, а опосля опять очи мои жалкие, смертные, отверзаются, и Царь Космос глядит мне в душонку бедную, Время халву свою астраханскую и виноград свой персидский звездами разсыпает предо мной, с белой, снеговой бороды Царя Космоса они сыплются; чую, грехи пора исповедать мои, чую, долги пора возвращать мои, и зрю, уста Ево снова, яко рыбы подо льдом, медленно шевелятся, и хочет Царь мне слово единое вымолвить, слово самоцветное сказать, да неизреченное то слово не излетает из уст Ево: навеки онемел, небушко Ево безъязыким слепило... а внутри себя слухом тайным, внутренним, вроде бы и слышу голос Ево сильный-твердый и вместе нежный, глухой и вместе звонкий, грозный и вместе милующий: батюшко Аввакуме!.. што замер, на мя глядючи? Да весь видимый Космос есть предвечный Царь пред тобою!.. но не казню тя вовеки, а лишь помилую, во смерти помилую, во пытке поддержу, на плахе обласкаю, на костре обниму и утешу... я надо всеми, и Христос, Бог Мой, Сын Мой, Сынок Мой единородный, Сынок Мой возлюбленный, со Мною, и все, людие, вы дети Мои: под чёрными-непокорными, синими-всесильными, звёздными-грозными желаниями моими толчётесь-грудитесь, ко Мне, к ладонями-коленям Моим всё липнете, без Меня жить да умирать никак не пообвыкнете; земной Царь тебя предаст, а я, я, Царь Космос всенебесный, многосердый, всетелесный, никогда не предам. Так стоял я, слушал Ево, сердчишко моё слабое, смертное замирало, и шептал я Ему в ответ, и рот вздрагивал мой, а глотка ни звука не издавала; дрожал я весь, мелкой дрожью, яко сыпью болезной, покрывался, дождевой холод объял мя, инда ливень бил-хлестал мя изнутри; а сердце под рёбрами костром рыбацким, алым в ночи, дико горело. Итак, шептал я Царю Космосу, грешныя стопы моя направи по словеси Твоему, так в Сибири поют, я и Тебе это пою: во Царствии Твоём помяни мя, грешново, Господи, помяни нас всех... Господи, помощник и покровитель, бысть мне во спасение... все кондаки разом вспоминал, все ирмосы, и сразу Царю Космосу те знамёна, любимые, громко спел, возопил на весь белый свет, а голоса-то нет, есть только мысли да сердца биенье неутешное, в небеса возносящиеся: с нами Бог, разумейте, языцы, и покоряйтеся, яко с нами Бог, да, с нами, с нами, счастливцами... а лице всё моё залито горючими слезами, горечь и соль на губах, вздрагивают уста мои недостойные, да словно в зерцале чёрной яшмы, дрожат уста Царя Космоса на иконе, и оба мы вместе, друг в дружку, глядимси.
И я всё шепчу, сердцем шепчу: Господи Сил, с нами буди.
***
(несыть, наледь и глад)
Сибирь, мой имбирь, мой пряник мятный, со узорами-фигурками, глазурью молочною разписанный, размалёванный снегами-полудурками. Жена да детки ревмя ревут, мя в тебя, Сибирь, везут, у рек твоих брег крут, - ахти мне, да не убьют! А лишь до крови, до сукрови измолотят-изобьют, и потечёт та кровища-сукровь по сукну, по дерюге да в песок... Ах, держися, протопопица, моя бедняжечка, за мой Живый-в-помощи исподний поясок...
Настя, младенца ты живаго родила, а нужды камнями навалилися, радость наша сгорела дотла; хворую Настасьюшку да в скрипучей телеге прямиком до острога Тобольскаго везли-везли, а младенчик орал пуще раненой росомахи в тайге рыжекудрой... вопияше, инда на краюшке матки-земли!.. Мне поведали разумники-картографы, что мы, грешныи, колёсами да ножонками промерили три тысящи вёрст; трясли денно-нощно дряхлыми одежонками, запахивались, заместо тулупов, в пургу да в мороз... а в санях протряслися ищо половину пути - и зрю над собою в ночи угрюмые лица: не спи, протопоп, застынешь, как пить дать, а нам-то, вишь, ищо долгонько брести!..
А моево вернаго дьяка Антония вражина, имечко ево християнское, Иоанн, однажды схватил за шкирку, будучи непотребно пьян, и на снег выволок, и руки Антонию за спиною связал, и мимо храмины в избу себе поволок - а там-то: в рожу огонь! в зубы сапог! Мучил да мучил, на всю жизнь изувечил, а дьяк, не будь дурён, возьми да от нево улети, быстрей каменя из пращи... да ко мне, дрожа, прибежал... теперя ево ищи-свищи... я раны ему промыл черемичной водой, ромашкою пересыпал, ветошью перевязал... на мои полати спать уложил... а Антоний всё на мою Настасью во все глазёнки глядел - ничево не сказал... Лишь наутро, когда затемно за голый стол вкушать пищу сели, выдохнул, будьто задул свечу: экая протопопица, инда сама Богородица... не кощунствую, батюшка, молчу, молчу!..
А я обернулся - и вижу: на краю длинной сиротьей лавки сидит Настасья моя, а у груди ея младенчик, уснул, слава Те Боже, в охвостьях с чужой плоти белья, наелся, родимый, болезный, тощево материна, сладково молока... напился впрок, на перекрестья дорог, на все, Господи Ты нас прости, безпредельные, бездонные, безродные века...
А што ж!.. и правда, а што человек лишь года малые небо коптит, века не живёт?.. "Хочу, штоб ты пребыл, доколе Я не прииду!.." - рек Господь Иоанну-ученику, отправляясь в небесный полёт; а Настюша, и верно, сидела смирно, хоть нынче иконой в медный оклад, и белки глаз сапфиром блестели, и волоса до полу упасть хотели, русой просёлочною дорогой, не вернёшься назад...
Времячко, время... и суток не прошло, как пострадал я от диакона Иоанна зело. Вечерню служу, снаруже лютый хлад, ищо до Сретенья, исход генваря, а тут двери стук, и настежь, и втекает Иван тот, поган, тянет крючия рук, да Антония за бороду - цоп!.. да о древняный настил лбищем - хлоп!.. по Антоньеву лику кровища так и хлынула ручьём... А я на храмовы двери - засов, да руки Ивашке выпростал из рукавов, да замотал за спиною вервиём, и ево, подлеца, мы с Антошкою-дьяком сперва ремешком, посля хворостиной гусиною постегали вдвоём! Эх он и орал! Красен рожею стал, што бабий, в ожерельях, коралл. А мы-то устали стегать... провались, оба вопим, да не пытай ближнево твоево вдругорядь!
И што? Подстерегли нас сродники Ивашкины. Средь многозвёздной ночи ломились в избу. Настасья дрожала. Младенчика у груди крепко держала. Невнятно бормотала - про Бога, судьбу. Ах, судьба полынна, жизнь долга-длинна, вервиём то вяжут, то бьют, то снопы обхватят, то гробы подхватят... а жить-то - сколь там минут?.. "Пропадём, протопоп!.." - ея долгий вопль, а потом шёпот дикий, будьто чужой, слышал я всем сердцем звериным, всею Божьей душой... Дверь выбили - могутными плечьми, беспутными ногами! Врываются, на лицах пламя, зубы в ночи кострами горят, белки бешанством непотребно блестят! И встаёт тут с постели протопопица моя, вижу - губы быстрым шёпотом молятся, глаза кричат, а прозрачные слёзыньки по скулам текут, не вернутся назад!
А ништо, никто назад не вернётся... всё едем, мчим лишь вперёд, вперёд... И я-то, иерей, смерть завсегда у дверей, доподлинно знаю: там, в конце пути, ищо далёко ехать-итти, никто - никогда - не умрёт...
И вставши с постели, и творя шаг еле-еле, шаг, един, другой, подбредает к чёртовым катам, а робёнок у ней на руках - спит, ровно во мяхких облацех, не пошевелит ни ручонкою, ни ногой! И близко, вот она уже слишком близко к смертушке, к насильникам нашим стоит, - и внезаапу тако высоко, к матице самой, как подымет робёнка, и валятся на пол ветошь-пелёнки, а малец не проснётся, таково крепко спит!
И тако возговорит жена моя, Богом данная, с неба манною, к убийцам жестокосердым душой обратясь: не обидьте, сердце с-под ребер не выньте, не втопчите в наледь и грязь! Мы живые же люди! Не индюшки на блюде! Не на Масленую - блины! Не грызите плоть нашу и косточки наши, усы от крови нашей не утирайте! А простите... да со двора утекайте... да штобы не было, Божьи ж вы люди, иль кто, лютой бойни, кровавой войны!..
И воздымает выше младенца. Кот полосатый трётся возле ея коленца... и ищо один из-за печи медленно, важно вышел рыжий кот... А народ стоит, блестит в ярых оскалах зубами, и тут молонья между нами ударила: НИКТО! НИКОГДА! НЕ УМРЁТЪ!
Кто то слово молвил?.. Зачали оглядываться все друг на друга. Каждый каждому - чересседельник, подпруга. Стоит, высоко держит младенца супруга моя. И пятится, пятится прочь от меня злыдень главный самый, дьяк Ивашка, яко с порога храма, объятово безумьем, алым лихолетьем сплошного огня.
Эх, видал я не раз, как церкви горели! Те пожарища когда потушить не успели - на пепелище вставали кругом монашьим да молилися... и молитва была нам - вино и брашно... И видал сто раз, как горели дома - и метались насельники их, сходя от тоски с ума: жизнь горела там ихняя, велия радость горела, дедова, в телячьей коже, Псалтырь, древняно иконное тело... А иконописный дух?! Да пылал, бушевал за двух! А я воплю: прочь, выметайтеся во кромешну ночь, вам всё едино Господа Бога нашево не превозмочь!
И выкатились. И один из той толпы нечестивой, што вломилась к нам в дом да собралася нас, грешных, убивать - и перебили б всё бедное семейство моё, до смерти забили!.. у них во очах я это читал, ровно во Книге Пророков!... - шедши восвояси, пал на улице и издох, яко пёс смердящий.
И вот тогда Царское слово, на бумаге витиевато писанное, прибыло с обозом в Тобольск. Расколол Царь нас, мечом рассек надвое, аки воин Царя Соломона едва не рассек младенчика, из-за коево повздорили две матери: мой да мой! поди, лико кровию умой... - ах, разрубил! и што? и то: это как икона святая: упала со стены во храме, раскололась надвое, и не сшить, не склеить, не связать, - не простить. Разве ж Бога Господа можно надвое - рассечь? А потом наново сочетать? Разве ж Он попустит с Собою такое сотворить?
А землю нашу, значит, так-то - можно?!
А жизнь человечью - разрешено?!
Ну што ж... што ж... В послании Царя писано бысть, стояло чёрным по белому: везти окаянного протопопа на Лену-реку. И потекли в путь. И добралися до Енисейскаго острога. А там, в Енисейске, ждал уж другой приказ Царский. Везите, мол, преступника в землю Даурскую! От земли Чудской до земли Даурской - вижу: несыть, наледь и глад... Раскололи любовь! да тропою узкой не вернёшься назад... Не уронишь хрусталь, не схоронишь печаль... так с тобою навек, нищий ты человек, твоя голь, боль и жаль...
***
(дощеник тонет)
Енисейский острог покидали. Оглядывали срубы, крестились. Когда ищо доведётся увидеть эти дома, эти небеса?
Небеса одни. Надо всей землёй.
И Бог - один.
А люди разрывают Ево на куски, кромсают, ломают, режут ножами.
И это не Причастие святое, нет. Это - безлюбье. Бездушье.
Бог - твоя душа. Потерял ты, брат, родич, соплеменник, живу душу свою!
Лошади тянули возки, телеги, кошевы. Он оглянулся на град, што покидал. Ветер трепал браду.
Протянулся день, другой, третий. Реки, холмы, шкура тайги, далёкие крики зверья. Когда вышли на берег Тунгуски, лоб крестили опять. Река! Жизнь велика. И слово надо сказать, штобы соединяло, штоб звенело и болело и всем ево слыхать, не только себе под нос бормотать. А што есть такое слово? Слово было у Бога. И слово было Бог.
Ересь Никонова, изыди!
А ересь, што такое ересь? Гадость то, мразь, мерзость, да! А каково-то душе еретика, вдумайся! Вчувствуйся. Еретик, он опять же мученик. Да заблудшая овца он. Да вражина первейшая - не тебе: Богу опять.
Дощеник, припав боком к берегу, деревянный телёнок - к корове-матери-земле, ждал. Погрузились. Протопопица перетащила по доскам детишек: одного на дощеник перенесёт - за другим на берег бежит. В юбках запуталась, чуть в воду не свалилась, дитёнка на руках пьяно держит, качнулась, еле удержалась: устояла.
Вот так и надо устоять.
Стоять во што бы то ни стало!
Наш Господь выбрал это, вот это: на Своем стоять. И быть распяту. И мертву быть.
А зло, оно што? Оно неистребимо. Невытравимо из людского скопища! Вон гнус сибирский летает, клубится. Человека привязать ко древу - за ночь гнус съест ево до костей.
Погрузились. И ветер тут налетел! Ветер, мощь, стихия, человеку страшна, борет всё, разрушает всё, коли захочет - всё в мире с землёю сравняет.
Ударил ветер в бок дощеника. Перевернул ево, и черпнул он воды. Господи ты мой Боже великий! Помоги, спаси, не отринь! Потонем ведь все в одночасье! Водица хлещет, ветр ярится, парус рвётся, текуча вода, Мiръ исчезнет, сгаснет под водой, погружаются медленно люди в яростную воду, во время, погружается мир в темноту, Бог, да Ты Свет, Ты един, на Тя уповаем, да не постыдимся вовек! Вот палубы, доски кренятся, ветр сумасшествует, - да мало ли в жизни человечьей безумья, и вот, зри, тебе безумье юродки-природы довелося к сердцу прижать. И простить! Простишь ли, человек, природе да Богу страшную смерть свою!
...Жизнь, жизнюшка. Тебя нельзя начать заново. Тебе имя-то каково? Ты протопоп, звать тя Аввакум, жёнка твоя зовёт тя в минуту радости земной - Вакушка. Земное имя! Дать ево нельзя вдругорядь, и нельзя жизнь начать наново. Сибирская бурливая река, вода нахлынула, дощеник тонет, вот-вот на дно пойдёт, к рыбам да червям. Полна древняная утлая чаша ледяной воды! И по лету в тутошних реках вода холодна; холоднее смерти.
А вот жёнка твоя со детишками, вместе с людьми и дощеником, тонет. Тонет! И нынче утонет! Ты-то плавать смогаешь, а она не умеет. А всё, что потонуло, да разве же выплывет?!
Жизнёнка, летишь, малая, сирая ластовица... тощая, слабогрудая птиченька... то над реками... то над морями... над тайгами... в пустынях ветр пески, смеясь, перевивает...
Спаси! спаси! лишь крики над рекой. Лишь рваные паруса серых облаков в небеси. А и кто там во облацех, над тобою и сторожами твоими, протопоп? А это Господь Бог твой! И на гибель твою, и на гибель протопопицы твоей и чад твоих - торжественно, молча взирает! Ибо смерть - таинство велие есть; и неизреченна она; и пьянеют люди при единой мысли о ней без вина; и все поколенья, до тебя бывшие, по лику богатой и жестокой земли прошедшие, уже в холодной воде, - а ты ищо идёшь, ищо идёшь. И вот - плывёшь. И вот - тонешь!
Уходит под воду днище твоё! Корма твоя! Сосновый, гордый нос корабельный твой! Дощеник-то твой хрупкий оказался, жалкий! Протопопица на кривой палубе стоит, ребят к себе сгрудила, глаза по плошке, глядит на тебя, инда душеньку свою всю перелить в тя желает. Да! Так любит она тебя! Вот сей час! Перед смертушкой!
Власы бабы растрепались. Страшен вид ея! А што, ежели и земля однажды, в свой черёд, в черноте ночных небес - возьмёт да утонет? Ко дну пойдет, да не к червям - ко звездам!
Орёт ребятня. И все люди блажат.
Пошто, когда человек умирает, кричит?
И лик свой к небесам задирает. Вопит надсадно!
Умирать - не хочет!
Господи, спаси! Помоги! Сохрани!
Да тонули, всё равно тонули, бесповоротно: видать, пробоина во днище случилась...
Обернулся. За их дощеником плыл, качался на ледяных волнах второй корабль. Там, на ево палубе, Царёвы люди и несчастные ссыльные, наказанные ни за што, просто за жизнюшку: за то, што на свете живут, - плакали и визжали. И бросился в воду един Царёв слуга; не разобрать, стар иль млад; и сажёнками поплыл к Аввакумову дощенику, и уже взбирается по борту на палубу, как соболь когтями во кедра кору, вцепляясь во щели меж досок. Корабль уходит под воду, а человек со другой лодьи зачем приплыл, по шаткой палубе, полоумный, шарахается?! А! Из воды - за волосы - вытаскивает робятёнка! Так это ж, зри, протопоп, сынок твой младший! И отроковицу из воды хватает, и на бочку с солёною рыбой кладёт, бочка, чюдо, ищо торчит из воды! А мать глядит. Глядит неотрывно!
Вся жизнь в ея очах; вся смерть. И синие от холода губы шевелятся. А ни крика, ни стона. Ни звука.
Вот уж все твои детишки на той бочке сидят. А Царёв слуга, по колено в воде, бредёт по скошенной палубе к тебе.
- Спас я семейство твоё, протопоп!
- А пошто спас?!
- А жаль мне тя стало! Всё же детишки! Божьи созданья! Безгрешны они! Это мы грешны со всех сторон, протопоп!
- Как имя твоё?! Ежели живы останемся, в молитвах буду поминать!
- Егор!
- Кому служишь, Егор?! Царю?!
- Ему, батюшке! Кому ж ищо!
Так перекрикивались.
- Што стоишь како жердь, протопоп?! Богу молись! Авось Он зла не попустит!
Почему ты запел, среди смерти всеобщей, тот кондак, из Постной Триоди, да зачем сбился на свою, из души, песнь, ты и не ведал.
Необъяснима жизнь; и непостижна смерть.
...покаяться - многотрудно поплакаться - солнцелико отверзи ми двери прилюдно отверзи Врата Великие заутреня гаснут звёзды мигают во светлом храме свечей тяжелые гроздья икона в дубовой раме икона в тяжком окладе то медном то кованой стали колючкой страданья ради оплетена - не устали мы мучиться навзничь падая в распутице - ниц распяты свечьми зажигая пальцы где плачет Ангел крылатый смеётся где Божья Матерь с рождённым во хлеве Сыночком заутреня - вне проклятий от гибели вновь отсрочка заутреня тлеют звёзды ломаются с мёдом соты избави мя Господи грозный от всякия нечистоты
...помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое...
...о, лютые грехи творил я, Господи. И въявь творил, и злобным, нечестивым помышлением исхищрялся. Грязен аз есмь пред Тобой, и во прахе лежу! И прах лобзаю, ибо прах, землица моя - то Ты, жизнь дарующий! Прости, Жизнедавче! Убоюсь, да трепещу неустанно, невозбранно страшнаго Дня Суднаго: тот Последний Суд земной и небесный, та всеобщая великая смерть, незримая, неслышимая, неописуемая языками людскими, нелюдимая, неотвратимая, - и внутри, во чреве предвкушаемой той всеобщея смерти, видя воочию, как огнь ея объемлет всё сущее на земле и за ея пределами, уповаю на Тя, надеюсь на Тя, призываю Тя, не токмо к себе, многогрешному, а ко всему несчислимому войску людей Твоих - и крестьян во полях, и ратников, на войну на конях едущих в мощных доспехах, и баб, детишек во утробе носящих, и деток тех безсчётных, то весело играющих, то от глада и мора Вселенскаго в зыбках вопящих, и зыбки те станут им скоро гробы, - ко всем, ко всем Тя, Жизнедавче, зову, кличу нутром всем и сердцем неистовым всем Тебя одново, Господи Боже мой, призываю на ны милость благоутробия Твоево, - такоже и Давыд кричал-вопил в утонувших в море-окияне времён забытых веках; забыли мы, каково одевались тогда, што вкушали за трапезой, как миловались в застланных чисто постелях, а бывало, и под Солнцем ясным, в странствии, при дороге: помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей! Помилуй ны!
Нет, я не фарисей, нет. Хоть и грешен везде, всюду, со всех сторон. Нет! никово я не поучал, никово лживо не спасал, ни на ково не клеветал, никово комьями грязи не забрасывал, слюною ядовитейшей не оплёвывал.
Спасе Всемилостивейший!.. каюсь, каюсь и ищо покаюсь. Каяться надо постоянно, всегда, вечно. Не бойся каяться. Стыдно иной раз. Оторопь берёт: сколь же всево нечестивово натворил, настряпал! А к стопам Божиим припасть - всё равно второй раз на свет родиться. Исповедь - вот сияние. Яко Северное. Цветные шелка там по небесам ходят-бродят. Да и в Сибири-матушке таково видал. Красоту Господь каковую содеял! Для нас, грешных? Да! для нас! но и для Себя тож.
Молиться надо! И каяться! Везде, всюду: и во грязи, во прахе, и в Сиянии неизреченном! Человек то вознесён, то во Ад низвергнут. В Аду - не до красоты ему! А внутри поёт, мечется жажда велия - опять красоты, опять любви сердечко хочет, востребует. И воздыхаю. И возношу молитву, пред тем, как ко сну отправиться, всё ея шепчу-повторяю, а очи слипаются уж, и сил нет сонную, тяжелую главу поднять, и протопопица ворочается на ложе, и детки хнычут, таково жалобно и тонко, како бельчата, бурундучки на ветвях сосновых, - а я стою на коленах пред святою иконой и всё бормочу, как пою, выпеваю душу свою, выпиваю суждённую чашу сию: спаси, Блаже, души наша.
...и волны, видишь, вняли, послушались молитвы твоея. И ветер внял: утих. И холодная синева, чистота страшная, смертная широково неба твоево выше, выше, в бездну Мiра поднялась. В дощеник волны били, били, яко в бубен шаманский, и прибили ево ко брегу: к песку да камням, и то снова была твоя земля, родимая землица, а уж могла во смертном сне привидеться-примститься. Воля Божья! На бездорожьи! Не обидь ны, Господи, не обидь! Дай есть, дай пить! А я Тя люблю и так - зри, зажал Твой Крест честный во кулак...
***
(сон мальчонки Аввакума)
а я хотел бы стать поводырём такой красивой тётеньки с тёплой рукою и чтобы волосы у ней на затылке тяжёлым пучком и чтобы глядела восторгом тоскою а я бы крепко её за руку взял и повёл повёл повёл вперёд по дороге и времени катился девятый вал а она глядела нежно и строго навсегда не остаться ребёнком жаль умереть навсегда приговор жестокий и блестит ледяной дороги сталь и шагаем мы вдаль от срока до срока я пока мальчонка я тихо расту а вокруг война её дикие звуки а мы всё идём держим крик во рту не разнимем на морозе тёплые руки и она глядит на меня сквозь кровь и тоску и она говорит немыми устами а как звать тебя мальчик и я говорю Аввакум и она говорит священником станешь и смеюсь я звонко глаза закрыв сам себе упованье слеза и предтеча сквозь воронки пули за взрывом взрыв потому что впереди небесная встреча в белом поле навстречу мне выйду я бородатый старый юродивый нищий и застынет красивая на краю бытия и меня старика обнимет кострищем и стоять я буду в суждённом огне и глядеть я буду как я сгораю так всё будет всё сбудется в дивном сне на краю любви на исходе Рая
***
(звёзды в горсти)
О, нельзя, нет, нельзя жизнь заново начать. На новой жизни поставить чистейшей новой Радости печать. Они бегут и бегут, твои ноты, крюки, твое богатейшее, цветное демество: пой великий распев, пой Мiръ твой, вертеп, Господень хлев, скоро последнее торжество: всхлип, вскрик, а боле и ничево. Не обернуть вспять событий, необратимы они: твои ночи и дни, хоть подкову перегни, хоть ближнево насквозь обмани, - грань между смертью и жизнью - да, отодвинута вдаль всегда: ты живёшь, а однажды умрёшь, да то вечно в будущем; разбитая льдом пруда, твоево хрупково зимнево сердца слюда...
До последней минуты! До последнего биенья внутри - твоя смертушка завтра: смотри ей в глаза, не смотри! Ты твою смерть в твою жизнь никак не вписал: не отразил ни в одном из тысящи тусклых старых зерцал... Ты слишком жадно, единокровно живёшь! полноводно поёшь! До страсти точишь охотничий нож! Ты вечно выходишь из ветхих, отживших кож! Ты бабочкою смарагдовой вылетаешь из мёртвой куколки вон! Ты смерть наизусть читаешь, выпрастываешь из паутинных пелён...
Но ты свою смерть не узнаешь в лицо, когда явится вдруг! Но ты перед ней зарыдаешь: обнять не хватит рук! Ты жил - тёк огненной лавой, расплавленный, яркий, жаркий, безумный, дурной, морем потоков кровавых, зрячим Мiромъ, слепой войной! А смерть - твоё настоящее тело! Она - гляди-ка! - ты сам! Она стать тобой не хотела, взять на себя стыд твой и срам... Когда всё кончается - красная лава застывает январским льдом... Без славы помрёшь иль со славой - да разве всё дело в том! Ты назначен быть смертным, слышишь. Приговор ты выучил наизусть: УЙДЁШЬ ЗВЁЗДЪ ЯСНЫХЪ ПРЕВЫШЕ. Уйду, ты киваешь, пусть. А потом вдруг вскинешься, ярый, многострунный, пожарищней жизней всех, и завопишь на весь Мiръ подлунный, на весь ево плач и смех: Я НЕ МОГУ, МОЙ БОЖЕ! Я НЕ ХОЧУ УЙТИ!
...белое поле. Мороз по коже. Звёзды в недвижной горсти.
...и только нежный голос тонко струит занебесный плач: ты родился голым, слеп, нелеп и горяч, и уходишь ты голым, велик, жалок и наг, разрушенный Божий Город, ослепший Вселенский зрак, одичалый кузнечный молот, сожжённый кричащий сруб, - насквозь прозрачным, как в голод, с молитвенной дрожью губ, с последним хриплым дыханьем, выталкивающим последний стих, с немым ночным замираньем кимвалов, цимбал твоих; и издали, тихо, оттуда, где жил до рожденья ты, тебя обнимет остуда - сиянием красоты, мерцанием перелесков, алмазным блеском полей, повиснешь на тонкой леске всей рыбьей жизнью твоей, забьёшься, и перельёшься в огромный звёздный котёл, и смертью своей упьёшься, пред Господом бос и гол, - скелет без кожи и плоти, без белой кости душа, в сиянии и в полёте последним ветром дыша.
***
(первое видение Аввакумом Царя и Патриарха)
Шаманский порог перекатывался грозными струями. Струи серебряные, струи железные, навеки безвестные, а вверху, в небесах, бранные тучи друг с другом воюют. Никак друг дружку не поборют. Так и люди. Вражина Пашков, страж ево, то подходил на палубе к нему, разворачивал за плечи к себе лицом, и ну - с размаху - рукавицей да в рожу! Аввакум даже не утирал ладонью кровь. Пусть течёт. Непредсказуема человечья злоба; когда она родится, как вспыхнет, сколь будет пылать, долго ли, коротко ли - никто не знает, только Господь.
Пашков плевал ему в лицо. Плевок грубо вытирал холодный ветер. На палубу, шатаясь, выходила чужая вдова, одетая в чёрную понёву; крестилась, потом крестила протопопа. "Разобьёмся на пороге-то!.." - одними губами бормотала.
...как же там жёнка, с детками, во закутке подпалубном, одна... плачет? молится? Уж лучше б молилась. Господи, на молитву наставь ея, сделай милость. А я потерплю. Я ведь жизнь нашу - любую люблю. Жизнь - она ведь такая: то вёдро, то бури отчаянье, а то сидит девчонка, рыдает печально, то дочушка моя, речушка, разливается-плачет слезою талой, горячей.
Дощеник наш, ровно утица плывущая, с боку на бок на стрежне переваливается. Делать нечево, плывём, хлеб жуём. Голодать голодаем, а потом вдовы, монашки грядущие, в котле наварят кашу, так с той кашей и Страшный Суд не страшен. И приблизился другой порог, по имени Долгий. И завыли на бреге голодные волки! Нас зачуяли, человечину, значит. Стоит на носу дощеника вдовушка, плачет. Подошёл да шепчу ей: тихо, тихо, так всё шепчу: тихо, тихо, ты што, шепчу, аль не видала в жизнёшке лиха?.. аль не страдала, боли не дожидала?.. али муки мученической вовеки не испытала?.. А она, вдовица-то, как обхватила мя за шею, как прижалася вся, дрожа, пламенея, и молясь, вслух бормоча безсвязицу, безтолковье... да полное чистой, неистовою любовью... Молода ведь... да я тож молод... а внутри дощеника - моя жёнка, дети... а снаружи - Долгий порог, тяжкий ветер, холод и воды, до края землицы воды, то сплошные смерти, а то Вселенские роды...
Я так ей шепчу: ну, пусти же меня, ты, вдовица, пусть это всё нам обоим в Божием сне приснится, а так - обнимемся мы там, видишь, где?.. в зените, за облаками, там тя поцелую, обовью Ангельскими руками... А тут Пашков. Прыг на палубу! и нас, обнявшихся крепко, зрит погано! И хохочет-ржёт, ровно конь! и валится, будьто спьяну! и по доскам катается, колена поджав к подбородку... а потом застывает - да так и засыпает, к небесам браду подъявши смешно и кротко...
И вдовица моя выпускает мя из объятий, подбегает к Пашкову, обтирает ему от пота лицо потрёпанным платьем, шепчет Божие Слово... А я над ними стою, сам себе храм, сам себе колокольня, и мне так грозно, вольно, нежно, мощно и больно.
...а наутро выкинули из дощеника мя на берег. Зачем? не знаю. Может, Пашков тако умертвити мя пожелал. И готов уж я был обратиться живым да горячим телом в тот жёсткий, по утрам льдом обросший дощеник, олений стланик, ободранный веник. Причалили лодчонку к берегу, скалы над водою нависают, меня за шкирку, яко щенка, ухватили да на берег вышвырнули. Сапогами водицы черпнул, порты вымокли, изветшалый кафтанишко тож. Обернулся. Ну я ж не Лотова жена! На дощеник гляжу. На палубе вдовицы столпились, на мя пальцами кажут, лики от слёзынек ладонями обтирают. И это мне, мне их жальче, нежели им - мя, грешново!
Озираюсь... Высоки уступы и скалы. Камень на камне навален, и подбираются горы Сибирския к Господу Богу. Мощь! Сила! Красотища! Зажмурился я. Так стою, и ведь ведаю, што сгибну, а внутрях всё поёт. Очи отверз. Надо мною гуси летят. И то ли восвояси возвращаются, то ли прочь с родимой земли улетают: я счёт временам утерял, не знаю, нынче поздняя осень или ранняя, ледяная весна. Гуси, утки, лебеди, галки, вороны, орлы да соколы, о, многое множество птиц Божиих снуёт тут под небесами, утопает в синеве али в сером мышином рванье, в занебесной дерюге! И чюдится мне, што из чащи на мя зверьё глядит. Пристально, яко на врага. На вражину; я для них, зверей, - человечья вражина, и иново мне имечка нету пред зверьми, хоша пред людьми я всю жизнь норовлю чистым да честным пребыть. Зверьё моё! Лоси да кабанчики... олени да козлы дикие, нравные... медведи да волки... бараны да косули... а поговаривали на дощенике, што тут и громадные лесные кошки по тайге бродят, и кто той кошке в когти да зубы угодит - живым не утечь уж ему... И смертно я страшусь лесных змеюк; хоть на бережку стою, на дощеник пялюсь, а под ноги себе со вниманьем гляжу: может, мимо проползёт, подлюка, так я ж ей чуть пониже башки ея вреднючей сапогом наступлю.
Нет. Не вижу змей. Стою, ветр мя обвевает, студит. Неужто на пищу диким зверям пойду? Сзаду ко мне казаки подходят, слышу песка да веток хруст под ихними сапожищами. Поворачиваюсь к ним весь, каков я есть. Казаки на мя воззрились.
- Откуда ты, мил человек?
- С дощеника. Вон, утекает.
- Энтот? Вниз по реке?
- Да, вниз по воде.
Дружно обернулись туда, куда я взирал, и проводили дощеник печальными, удивленными очами.
Потом я кашу казакам на бреге холодной реки варил. Посадили мя ближе к необъятному котлу, крупы в котёл насыпали, водою залили. Деревянную, с длинною точёной ручкой, лжицу в руку всунули: мешай! Мешал. Ветр усиливался. Ярился. Огонь под котлом; ветрище ево красную бешаную шкуру в лоскутья рвал. На реку под ветром я не глядел; ветр белые барашки по серой волчиной воде всё гнал и гнал. Да всё к моим ногам. Казаки костёр близко к воде развели, и ветр иной раз швырял брызги в огонь, ровно горсть мелких жемчугов. Я такие там, мальцом, на родине, давненько, с детьми - из перловиц зубами вынимал... Казаки вопят: лодья! лодья! Оглянулся. Лодка к брегу пристала. Оттудова люди идут. А поодаль дощеник примкнулся к песку: наш, Пашков? чужой? Не ведаю, ибо зраки будьто тучею заволокло. Тяжело люди идут, хрустко ступают. Топ, топ. Вот те, батюшка, и сосновый гроб. Над собою смеюсь: што сам себе мелю! Стали. Казаки таращатся. И я гляжу со вниманьем, спокойно. А лиц по-прежнему не различаю, и кто такие, в рожу не узнаю. Да и не узнаю никогда. Один шаг вперёд - и р-р-раз мя - по скуле! Больно вдарил; да колко, длань ево в колючую воинску перчатку была облечена. Другой вперед ступил - и стук мя - по скуле другой! Кровушка изо рта потекла. Я зуб на песок плюнул. А тут и третий вперёд по песку шагнул - и мя в грудь толкнул, и свалился я, и тут бить меня зачали, одежонку всю как есть посрывали, и голого били-лупили, прямо на бреге реки безвинной, а гуси в небесах всё летели, а я их уже не видал, мордой расквашенной в песке лежал, песок белый, холодный кровью пятная. Тут разум утерял. Таково крепко били. Кнутами и батогами. И конскими плетями. Когда древняным стволиком молодым, тонким, да с потягом, стали по спине охаживать, на миг я очнулся да опять во тьму нырнул.
Опять вынырнул. Чую, губы сами шепчут: за што? за што?.. пощадите! пощады! Злые люди! Ах вы, злые люди! Под дождём на палубе валяюсь. Наш дощеник? Не наш? А што наше-то в подлунном Мiре?.. да ничево. И сам я не свой. А Богов. И люди под Солнышком, под Луною - Боговы. И ничьи боле. Нет, диавол рядом; и ухватить норовит. И пожрать. Мы - еда. Еда! Всяко, во все времена и царствия. Так назначено. И не нам укротить ход времен сих. Дождь осенний, хлещет по мне, лупит наотмашь. Не хуже палачей. И лежу тихохонько. Терплю. Смирение и терпение, так повторяю себе мокрыми губами, смирение и терпение... и...
И будьто я тут, на мокрой скользкой палубе валяюсь ликом к небу, и будьто уж не тут. А где? То-то и оно. Небеса волглые расступились. Разъялись. Мечом молоньи рассеклися. Каждая жилочка во мне дрожит-болит. От боли ничево не чую, не зрю-не слыхаю. Шёпотом Господу молюсь. И вроде как не на дощенике уж я. А в Царских палатах. И на троне восседает Царь наш Государь, владыка верховный, Царь святой и славный, Богом на тот трон посажёный, и я, хоть ни в жизнь ево не видал-не встречал, прекрасно понимаю: это - Царь. В одной руке ево скипетр торчит, указывает вверх, на своды палаты, зело расписанные яркими фресками. Ярче Солнца те росписи, богаче хвоста павлиньево! Во другой руке - держава, круглая золотая Луна. На вид тяжела, а на ощупь? Гляжу на Царя. Царь - на мя воззрился. И молча таково друг в друга вглядываемся.
И не вижу, што возле Царсково трона человек стоит. И вдруг увидал. Во чёрной рясе. Иерей. Высоко поставлен, пред самым Царём, а пошто же в повседневной нашей поповской хламиде, не в ризе злато-сребряной, парчовой, смарагдами да лалами расшитой? Ах, кумекаю, Великий ведь Пост нынче. И архиерей, и митрополит, и сам Патриарх должны во времена Великаго Поста во чёрное платие облачитися. То Царь в парче сидит, в каменьях, на Солнце играющих. А Патриарх - Господа слуга. Господа же на исходе Великаго Поста избичуют, оболгут, распнут и во гроб положат, и камень велий ко входу приткнут; и никто из живых, живущих ищо не знает, что белый Ангел прилетит на том камне смиренно сидеть. И Марию Магдалыню со Марией Клеоповой ждать.
Стою пред Царём да пред Патриархом и мыслю так: с ума, видать, скатился, избили до крови, до утраты разуменья, вот и видятся картины несбыточные. И тут Патриарх шагает вперед, и ищо шаг, и уж возле мя, и тихо балакает, почти шепчет, еле разбираю:
- Верь, верь, ты без веры - прах. Главу склони!
Я подошёл под благословенье. Башку поднял - Патриарх в то время мя крестным знамением осенял. А Царь, Царь на всё это внимательно глядел.
Потом Царь разжал губы и молвит:
- Думаешь, ты в Сибири? Мнишь, то я прибыл в Сибирь да тебя велел тут сыскать? Нет. В Москве ты, протопоп. В первопрестольном граде. Изволь к ногам припасть Царским!
Я так в ноги Царю-батюшке и повалился. Рухнул на колена, потом лицем на половицы возлёг, на животе, аки квакша, растянулся. Распластался. Лежу. Тишину слушаю. Молчанье Царское. И Патриарх молчит. Тут понимаю так: да ведь это ж Никон Патриарх. Никон! Через пять изб от меня рожден! Земляк мой, ищо чуть, и сродник! А што, ежели рот разлеплю, язык разую - да к нему обращуся, яко к родному, по вере кровному, по землице, где рождены матерями нашими в Божием Мiре, брату возлюбленному! Да ведь все люди братья на земли! Все! Зачем же нас разрубают?! Зачем берут меч, топор, алебарду, секиру, тесак мясной - да как размахнутся, да как вдарят, резанут, отсекут, от хлещущей кровушки лице своё не отворотят?!
Лице моё от половиц - горе подымаю. Очи соль заволокла. Соль по щекам льётся. Трудно в голос молвить.
- Никон, - бесслышно шепчу, - да Никон же... ты же - свят... ты же - в наивысшем сане... пошто ты так-то удумал... книги переписать... псалмы по-иному петь... старые святые словеса, коими спокон веков наши отцы, деды и прадеды изъяснялись, всё перелопатить, искромсать, с ног на голову водрузить, исказить да извратить... где буковку пришить, где титло присобачить... штобы музыка святая - инако зазвучала, иною тропой побежала... а пошто менять тропу ко Господу в небеса?!.. али заросла та тропа крапивой да чертополохом?..
Патриарх на мя взирает. И Царь на мя взирает. Оба живые. И я жив.
Ни жив ни мёртв.
- А што, думаешь, протопоп, где жёнка твоя?!
Тут сердчишко во мне в ямину ухнуло.
- Не ведаю...
Губы захолодали, яко на ветру.
Царь щурится недобро.
- У меня твоя заполошная жёнка! Да таково орёт-то, я ея велел чуть поколотить, штобы - примолкла!
На Царя гляжу и весь дрожу. Настасьюшка! сколько мук! сколько... сколько...
Догадался. Како батогом во всю нагую спину протянули.
- Царь-Государь батюшка! А ты ведь - не Царь!
Округлил глаза Царь. Воткнул в меня зрачки - два копья.
- Што мелешь!
- Ты ведь - порог речной! Смертный! И имя твое - Падун!
- Што...
- И Расея - твои берега! И тайга - горностай у тебя на плечах! И не все переходят тебя со благополучием, не всякий дощеник! Кто и разбивает о тя крепкий лоб! Кто в воде твоей, богато-сребряной, жемчужной, тонет навек! Не выплывет! Рыбой станет! Посреди реки царишь! Камнем торчишь! С места не двинешься! Царская власть крепка! Да наступит час - свалишься с трона... вижу, вижу! Дождь и снег! И потоки хладные! Река безумствует! Это ты, Царь, яришься! Не знаешь, како безвинных погубить! Да помогают тебе ветр, тучи и метели, и гнус жестокий, и слуги твои, клыкастые хищные звери!
Молчание сковало мразом уста. Я понял: конец мне пришёл, и, даже ежели то сон ужасный, он наверняка сбудется. А ежели то не сон - сколь же времени я пребывал во тьме, до перевитых во плоти жил да сухожилий избитый, измочаленный?
- Жёнка твоя красою не обделена, даром што крестьянка простая. Отдашь мне ея, протопоп? Легла на сердце мне она, горячо легла, обожгла. С детями - беру! Разженюсь - из-за нея! А тебе выкуп богатый дам. Не пожалеешь!
Слушал, будьто псалом Давыдов вдругорядь извратили, дощеник крепкий издырявили да страшным пустым гробом по сиротьей реке пустили. И плывёт покаместь, да вот-вот потопнет.
Покосился на Патриарха. И, о ужас! увидал, как Патриарх - смеется! Ухмыляется! Над кем смеется? Над Царем Алексием Михайлычем? Надо мной? Да хоть бы и надо мной! Я - стерплю! Да как же оно... Бить Настасью велел, а тут же - и обласкать грозится, и отнять ея у мя хощет, и возжениться на ней мя вместо?
- Выкуп...
- Да, протопоп! Царский! Повелю тебя возвернуть из Сибири на веки вечные! Дам приход новый, али под Москвою, али под Вологдой, али, может, в Новегороде Нижнем! Времена сместятся. Не изловишь, как изломятся - да сдвинутся! Из старика - во вьюныша обратишься. Бог наш чудеса творит! Знай лишь Ему молись! Лбом об пол бей!
Царь глядел на мя, а я глядел на Патриарха.
Крикнул я Царю, да прямо в лице ево владычное:
- Эгей, Царь-батюшка! А зачем таков раскол учиняешь семейству доброму, благочинному! Пошто колешь-рубишь надвое, да без возврата! Настасью штобы взять?! Да уничтожь мя тогда без следа! Убей! Казни! Лучше смерть, чем раскол! Лучше - тьма! Всё одно потом народы из гробов восстанут! И праведники воскреснут - к свету многозвёздному! А грешники в Геенну огненную низвергнутся! Эдак-то вернее будет! Всё честнее!
Побелел лицем Царь. А ко мне шаг шагнул Патриарх.
- Аввакум...
- Што, твое святейшество?! Што произнесть хошь?!
- Аввакум...
- Што, Никон?! Забыл, каково рыбку-то вместе ловили в Сундовике?!
И так заплескалась у мя пред очами та рыбка! Мелкая уклейка, вьюны полосатые, усатые, в черным-чёрной, да на диво прозрачной воде! Вода как угольная слюда, а речонка быстрая, да заводи в ней, иной раз множество рыбы удой натаскаем, на кукан насадим, домой бежим босые, рыбёшка на вервии за спиной болтается: глядите, люди, каков улов богатый! И Исус со товарищи рыбку в Геннисаретском озере ловил... Пётр рыбу ту сетями в лодью выгребал... а мы, детишки, - с куканом... и тёплая вода с рыбьих хвостов каплет, по спине течёт, по хребту, по рубахе...
Пётр, батюшко мой...
Рыбалка твоя...
Царский глас громом над головой прогремел:
- Ежели я - порог, то Никон Патриарх - твой острог! Зеницы-то разлепи! Оглядися! Себя в чужих зраках - узри!
И вижу, как Никон обращается, медленно и страшно, в древняный громадный сруб; што за брёвна великанские, может, и лиственница, прочна-железна, тюрьма навек, сгинет тут всяк человек, и я внутри сруба, и подо мною соломы пук, солома шуршит, я пить хочу, пить, и боле ничево, и глас со верху, ровно с матицы: ОСТРОГЪ ГОСПОДЬ СТРОГЪ НЕ ПУСТИТЪ И ЗА ПОРОГЪ.
А потом ищо хрипенье, ужасное пенье: ТО БРАЦКЪ СИДЕТИ ТЕБЕ ТУТЪ ДО ФИЛИППОВА ПОСТА А ВРЕМЯ ПОТЕЧЁТЪ ЗА ВЕРСТОЮ ВЕРСТА НИ КРЕСТА НИ ЧЕРТА
Мыши... тараканы... ночию - холод лютый, инда на снегу, на ветру голяком сижу... а спать-то охота, а без тепла-то и не уснёшь... Стал худой, вострый, будьто нож. На кочерьгу похож. На руки-ноги свои глядел: пальцы белые, што мел, из-под тощей кожи колена торчат - таковыми костями лишь насытить малых волчат... Мыши, мыши... я сапогом их бил. А потом над мёртвою мышью, яко робёнок, трясся-плакал, я-то зверьё живое любил, а потом в нея, ищо теплую, в загривок ей зубы запускал... блевал, а жрал... не было зерцал, штоб свой увидать зверий оскал... Вши, блохи... иная насекомая тварь... захлопнул терпенье, како рыночный ларь... И всё себя, грешново, вопрошал: где сон мой, где явь... начало начал... Где детки мои, доченька да сынки... где зрячии их зрачки... на расстояньи руки... Ко мне сын кулачком во дверь тихо стучал... а я-то в кандалах... сруб заместо зерцал... пальцы вместо свечей... подниму - инда горят... озираю мой бархатный, мышиный наряд... худые лытки... с миру по нитке... Брацкой острог... чужие льдины плывут из-под ног... уплывают, уходят из-под кромешных ступней... жить бы да жить на свете, да не сыскать огней... што путь-дорогу укажут во мгле... да не надо мне в небесех... мне бы - тут, на земле... А где ты, Настасьюшка, у коей бабы чужой... приживалкой... ухватом... подпоркой-клюкой... хоть чем дитяток корми, да штоб не помёрли они... крестом Христовым в наш вечный мороз - их да осени...
***
(Аввакум суть зерцало Никона)
Пошто ты Церковь-то разрубил? Ах, бормочешь, нельзя иначе было. Нет, Никитка, крестьянский сын, земелюшку б тебе орати да орати!.. а ты во Церковь подалси. То тебе Царь пообещал, мол, твори што желаешь, а он ни словечка тебе не молвит поперёк?!
Царь народу приказал. Народ послушался. А как же; народ пред Царём на площади ниц падёт завсегда. И Царь не испрашивает народ, нет! Царь велит - и народ склоняет выи. Царь - древо, округ нево бояре - кусточки да отростки, и тако лес тот всевластный растёт и нарастает.
Што в самом-то деле случилось, а, Никон? Пошто тако всё свершилось?.. да и вершится дале. Пошто вдыхаем не благовония, а вонь да гарь пожарищную, кострищную? Раскрыти ли мне людям замутнённые, бельмами неведенья затянутые очи их? Обнажити ли пред ними всю суть твоево, Никон, деяния? Али смолчати?
Велик народ; могуч народ. Да ведь, Никон, ты сам - народ. И я, Никон, я - тоже народ. Ты веруешь, и я верую. Мы оба веруем! Да только во што, в ково ты-то веруешь! Может статься, и не во Исуса Христа вовсе!
Ты застрельщик. Ты предводитель. Ты, поклянися, это всё придумал! Муку эту мученическую!
Народ мучится. А Царь? А Царь доволен! А вот скажи, кто Царём, яко пешкою на индусской, во клеточку, игральной доске движет? Кто тобою, Никон, да, да, тобой, хитроумным да оборотистым, сзади тебя вставши, помыкает?! Ах, не знаешь?! Я знаю! я!
Книжную справу разве ты удумал? А разве ж не греки? А за греками кто стоит? Зачем мне, Аввакуму, во имени Божием удвоять начальну буквицу?! Буква - и ея двойник. А, у всех, у каждово есть двойники! Вот в чём разгадка! Нет, скажешь? Да ведь и у Бога Господа есть двойник! Диаволом он прозывается!
Трёхперстное знамение тебе пошто было изобретати? Пошто крестный ход округ храма повёл, негодник, не посолонь, а противусолонь?! Земные поклоны пошто запретил?! А крест на церковном куполе кой бес тя надоумил не осьмиконечным изделати, а четырёхконечным?!
Нет... не кричу я... а пошто кричать... безтолку кричать... зряшно глотку надрывать...
Што свершилося, то и бытует. Не делай никогда опасново шага; вкоренится в народ твоя ошибка, опрометчивость твоя, и начнёт пускать гнилые ростки, чёрные листья. Да не ошибся ты; нет! ты всё заране наметил, всё просчитал, разложил на столе, како пельмени сибирские на посыпанной мукою доске.
А пошто ты всё то замыслил, Никон? Пошто с народом и с землёю Русской восхотел то сотворити? Какая муха благая тя больно куснула, ты и запрыгал, аки коняга играющий, встал на дыбки?!
Гордыня тя обуяла, вот што! Гордыня. Отрицаеши? Напрасно! Што глядишь исподлобья? Да, и я грешен! И я гордыней одержим! Да гордыня моя - вера моя. Горжусь Исусом! Горжуся Мiромъ подлунным, Божиим! Горжуся людскою любовью, ибо любовь наша суть отраженье Апостольской любви, и слёзы наши суть отраженье Богородицыных слёзынек, и молитва наша суть зерцало Ангельсково, в небесех, нашептанья. Ты, иерей, Апостола разве не захотел повторити?! Пошто же ты возгордился тако, што неудержно, нагло потопал, грудью вперёд, очьми рьяно сверкая, противу родимой древности нашей?!
Во время оно, при князе Владимире Красное Солнышко, два устава бытовали: Ерусалимский да Студийский. Во Царьграде изначально возлюбили устав Студийский, он же и к нам на Русь прибрёл-переселилси. Да незаметно, неприметно всю Византийскую землю залил-захлестнул волною Ерусалимский устав; а книги, книги-то при том на месте не топталися, они ж переписывались, Никон, они дышали, менялися, дрожали, ломались, плакали горюче, неизбывно! Оттово, што люди, люди их курочили, вспахивали, наново лепили гусьими, преступными перьями своими! Так ромеи святые словеса переписывали; а у нас всё твердили Студийский устав, всё по-старому молилися. Пошто ты приказал переписчикам трудиться не покладая рук? Справа! справа! А вышла не справа, а кровавая слава.
Хуже войны это, Никон. Хуже. Горше. Больнее.
То Распятие новое, токмо растянуто оно на чугунном кресте времени.
Кто снимет с новаго Креста прежнево, вечново нашево Бога?!
Где вы, о великие, величайшие? Где вы, Иоанн Дамаскин, Иоанн Златоуст, Василий Великий, песнопевцы, творцы занебесных Литургий? Где вы, возлюбленные, златосияющие Иоанн Лествичник, Роман Сладкопевец, Макарий Египетский, Григорий Богослов? Где ваши святые, солнечные рукописи, в них же ваши голоса навек сокрыты, спрятаны, и на волю вырываются при каждой радостной службе, при всяком ароматном каждении? Посылал ты, Никитка, в южные жаркие земли слуг твоих, приказывал им: привезите таковые мне книги с чужбины, штобы я мог родные страницы все искорёжить, исчеркати новою справою!
Ах, Никон... Да ведь тебе твой холоп Суханов приволок книги даже не царьградские - оттиснутые в дальних градах: в Лютеции, в Аахене, пражские да веницейские! А пошто ты велел раздобывать себе древнейшие письмена, в коих речь идёт о позабытых славянских богах, о ледяных землях, о Гиперборее и Мангазее? Языческие книжищи приказывал к себе в терем доставить, а на стогнах костры повелел разжигати и швырять во огонь книги родимые, благолепные, святые. Сам я видал, как на площади широкой возожгли кострище до неба, до мрачных туч, рваной мешковины дырявей, и гарь подымалась в небеса, и вопили и рыдали люди, обступя ночной костёр, протягивая к огню дрожащие руки! Громадный костёр, а к нему подвода подъезжает! Полная книг наших священных, великих! И сваливают угрюмые мужики книги те с подводы наземь, и обливают смолою, и поджигают. И вот уж два на площади костра. А вот и третий! Троица огненная! Троица пламенная! Книги, они, сгорая, корчатся и страдают, яко же и человеки!
А человеки тому нечестию сопротивляются, а их за то хватают, вяжут да в тот костёр - вослед за книгами разнесчастными - бросают. Жгут, жгут людей! То ты, Никон, содеял! А молодой Царь - он што? А он захотел славы. Прославиться на весь Мiръ возжелал! Ну разве ж непонятно! Ах, два вы жестоковыйных ката... На костры всех подряд отправляли, а сколь ищо отправите! Вам равно, крестьянин ли, боярин, черница, монахиня, торговка, сокольничий, юродивый Христа ради, по улицам да переулкам нагишом бродящий. Великая казнь святово! Слыханое ли дело! Не было таково от Сотворения Мiра на всей земле. А вот у нас содеялося. Провижу время: и продолжится это книжное всесожжение, и будут жечь и жечь Священное Писание и опосля нас, грешных, и чрез множество неизречённых лет... там, во тумане неведомых веков...
И будут забывать люди Слово Божие, како оно на свет родилось. Слово было Бог, в Евангелии Иоанновом изречено!
Костры пылают... огонь, огонь, огнище... опять до зенита, до Полярной звезды...
А пепел остынет - мальцы, огольцы, выгребают из тёплой золы медные застёжки: вот всё, што остаётся от Слова Божиево, нерушимово.
Куда же ты бежишь от меня, отвращаеши лице твоё, али припекают тебя головёшки кострища гордыни твоея? Берегись, тако и сгоришь от греха тово, како от похоти сатанинской... Стой! Слушай!
Казнишь, казнишь! Вот што гордыня творит! Смертушку вы с Царём назначаете книгам и людям, будьто орешки щелкаете! А ведь жизнь Бог даёт, Бог и забирает! Правильными себя посчитали. Во предводители Церкви и народа - сами себя записали! Церковь... Ведь она, братцы мои Алексий да Никитушка, русская. Русская! Византийский орёл - пошто он нам? У нас и свой орёл летит над вольными полями, над златыми хлебами, над изобильными зверем, рыбой да птицей тайгами. А вы... яко нерусские люди. Пошто в вере отцов и праотцев увидали ересь? И греки двоеперстием крестилися! А мы, русичи, во храм входили, будьто Солнца причащались! Господь суть свет! Потому и крестный ход ходим посолонь! Потому и во Троицу ко святым образам берёзовы ветки приносим! Солнечное древо берёза, солнечным шумом над рекою шумит... над родимою Волгой... Не стремись запретить то, што растёт и цветёт над обрывом, над смертию самой! Возгордился ты шибко, Никита, да Царя за собой уволок! Гордыню вашу едите, гордыню из братин пьёте, гордыней умываетесь да утираетесь. Гоже разве то?!
Пускай я равно с вами грешен. Я тоже - гордый! Главы долу не клоню. Разве казните мя за верность? Да, верен! Да, лишь Христу Богу! А вы...
Што? И вы верны? А к чему же тьму тем смертей на Русской земле устрояете?!
Инда память из вас исчезла, испарилась?! Да помните ли вы незапамятное время? Ах, не жили тогда? А предание на што? А байки да былины наших дедов на што? А летописи-то на што?! Зря, выходит, летописцы трудилися, спину гнули над столешницею, гусьим пёрышком выводя на чистых страницах смоляные буквицы, и те жуками быстрыми разбегались, чечевицею чёрною под пальцами раскатывалися: то-то и то-то в сей год бысть, князья перессорились, град в июле крупный выпал, храмину новую, белоснежную во поле чистом, у озера синево возвели... Свободны мы были! И помнили своё родство! И Бога чтили ежеминутно, ежемгновенно, как то и должно в Мiре быти!
И милостиво глядел я на сие, што в Рожество возсиял и Сочельник Велеса, а потом являлся весёлый Коляда; и што во святово Георгия выгоняют скот и празднуют Даждьбога; и што Никола Вешний обнимается с Ярилой, зрак слепящим; и што на Ивана Купалу Рожество Иоанна Крестителя, а во день Перуна, владыки громов и молний, приходит Илия Пророк, великий громовержец; и помниши ли ты, Никон, што на Руси на Михаила Архангела возжигает земные и небесные огни Сварог, и летает над ним кругами птица Симургл? Помнишь, да лице отвращаешь?! Прямо мне в глаза гляди! Али не русские люди мы! Всё свято, што возсияло на родимой земле под светилом небесным! Я - помню! Память моя - со мной! И милостив я, и почтителен я ко предкам моим! А вот ты? Ты?!
А трапезную, бунтарь, во што превращаеши? Кормление бедных и сирых, встреча паломников, странников, калик перехожих, пиры во великие Праздники для народа всево, заходи, кто похочет, садись и ешь со всеми, сообща вкушай Господни дары! Братчины гудели и шумели во трапезных! А ты... Теперь тамо пищу вкушати токмо бояре могут. Токмо приближённые к иерею знатные прихожане! А не мстится ли тебе, Никон, што то есть неравенство внутри Церкви? Сказано ведь Господом самим: несть ни еллина, ни иудея... Он-то пришёл воистину не к праведникам, но ко грешникам!
А пошто ты, Никон, глазища-то твои басурманские прячеши? не молвишь, пошто кресты осьмиконечные возненавидел, обрубил до четырёх немецких плашек?! Молчишь... Чем тебе, мордвину раскосому, наш родимый Христов Крест не угодил?!
Не маши на мя рукавами парчовыми! не сморкайся в них!.. говори по правде...
И колокола во древности нашей звенели-играли! И звонари наши за вервие языки медные трясли, во колокол ударяли, людей на радость либо горе всеобщее созывали! А скоморохи?! Да, прыгают высоко, голосят далёко! Кричат - глотки надрывают, во метели родятся, на площадях умирают! На торжищах знатных... у крылец теремов княжьих... а ведь, Никон, они, скоморохи-то, поистине безстрашны! Всех просмеют, яко в мыльне берёзовыми вениками нахлещут! Што различишь в их воплях, прибаутках вещих? С куклами бегут, сани волокут, а на санях блаженная танцует, рукой пред собою незримо малюет: голым пальцем на морозе рисует в небесах Царицу Небесную - последней вьюгой, последней песней... И богомазы ведь наши скоморошьи игрища на фресках малюют, во храмах! Скажешь, нечестиво изображати глумцев?!.. в личинах волков, медведей, козлищ брадатых, упрямых?.. Кричишь: диавола то служитель!.. а он противу тя встает, щёки размалёваны свекольным соком, а потом колесом пред тобою пройдётся и взвопит: што, церковный князёк, глянь, над тобой небосвод высокий! Небосвод далёкий свят, свят, а всё печёшься о земном!.. плюнь да разотри, ведь всё одно уснёши вечным сном... И отдаёшь ты приказ: тово скомороха в клочки разорвати!.. и што, Никитка, тем лишаеши ты себя прощенья и благодати... И их, вечных странников, во цветных колпаках, перекати-поле, ты готов всех, скопом, пожечь, посечь, обезглавить! И, да, творишь сие, ловишь их, будьто зверей, и кровь не унять, одну, без тебя, не оставить! Кровью наслаждаешься, кровью насыщаешься... да ты разве упырь?! Ты ж иерей святой, Никон! Ты паствы смиренной поводырь! Ты вести должен, вести... а куда ты Русь ведеши, ну ответь мне, куда?!
...народ наш велик. Ты уйдёшь во свой черёд, Никитушка, а над народом всё будет, не избудет, гореть звезда.
Огнь вечен. Велик. Подыми твой лик. Погляди вверх, наверх. Тамо, тамо плач и смех. Там жизнь, а земля - лишь отраженье ея: тамо чистой Радости музыка, - здесь, вся во слезах, ектенья.
***
(письма с войны: навстречу)
Мы, ведомые нашими детьми, идём по убитой военной земле друг к другу всё время. Идём всё надвременье. Идём всё безвременье. Парим надо всеми. Как Ангелы; да вот, человеки мы; и не взять нам у неба жизни взаймы, и не взять у земли, мы сами себе корабли, плывём, встречи назначенной ждём. Пока надеемся, да не умрём. Мне возраста нет; дала монаший обет; холстину грубую ветер вьёт; последний поход. За руку мальчик меня ведёт. Да не мальчонка, а целый народ. Разве народ умрёт? Никогда. Под босою ногой хрустит слюда тонкого льда. А навстречу мне и мальчишке, там, далеко, идут двое: старик с непокрытой серебряной головою, за руку девочка держит его, идёт и шёпотом, торопливо молится, и я понимаю, Матушка это малютка Богородица. Старик святой! Время, постой! Время, зачем ты идёшь над нами... Время, зачем ты пламя... Мы все в свой черёд сгорим; поднимется к небу тяжёлый дым; поднимется к небу последний крик... запишут в новый нас патерик... Где ты, святой старик? Где, протопоп, арфа твоя, Царю ты Давыде, твоя ектенья, где твои слёзы, тебе исполать, весело смеётся малютка Божья Мать... Мы встретимся! Свидимся! То суждено. Навстречу друг другу идём давно. А как давно? Сколь долгих лет? От очей старика течёт бешеный свет. Нежно светится мальчонки взгляд. Время, не рыдай, поверни назад. А вокруг, а вокруг грохочет война. Дни в крови. Ночи без сна. Смерть без панихиды. Жизнь без любви. Время без веры. Боль без судьбы. Нас не убили. Хранит нас Бог. Я увижу тебя, отче, дай срок.
***
(спасти)
Постоянное моё желание - спасти ево, спасти. Унести, яко яблоко в горсти.
Унести: яко вынути котёнка из клыков могучево злово пса; спасти, ему надо выжить, жить, а ему дышати осталось всево час, полчаса.
Спасти казнимово!.. было раньше то ли поверье такое, а то ли закон, то ли волком взвывал глашатай на площади, балакал колокольцем подвешенным языком: ежели ково казнят, к тому на помост девица взбежит, завопит: мой!.. то мой человек, беру ево в мужья, развяжите, ослобоните, ибо сей же час пойдём с ним домой!..
Так раньше было. А может, есть и сей час. Слезами вижу юдоль, поскольку кровавая соль дотла выела хрустали моих глаз. Воздух, ветер ем и пью, ветром-бурею бормочу-говорю: отдайте, люди, возверните судьбу мою, развяжите, разбейте оковы, отпустите на волю зарю!
Спасти. Пусть самой погибнути. Но тебя я спасу. Обниму душой, положу на сердце, подержу на весу - всю жизнь твою, отче, Царь мой, моё убежище, крепость, робёнок-мой-сирота, - зри, нам с тобою объятье в широкой полночи распахнул сам Господь со Креста.
***
(Аввакум и я. Псалмы поём)
- Исповедуйся мне, Господь поможет тебе!.. всем сердцем своим исповедуйся и расскажи мне все чудеса, што с тобою приключилися, и все ужасы, што тя посетили... я отпущу тебе все грехи твои, и возвеселишься ты, и возрадуюсь я, и Всевышний, глядя на нас с тобой с небес, возрадуется сильнее нас. Прощай всегда врагам своим, тогда они не погибнут душой; будут страждать, потому как прощения враг не выносит боле, чем битвы. То есть земной суд. А што есть Божий Суд?.. кто сидит на Царском престоле, а кто в грязи копошится. А века идут-бредут, и не остановятся ходячие, текучие времена никогда... а кровь?.. наипаче она не остановится, льётся и льётся. И оружие изготавливают в дымных кузнях, и дома пожигают супостаты, и горит огонь по всей несчастной земле, а в огне милая наша, бедная память горит. А у Господа престол на небесах, и судит Он всю Вселенную, и правда у Него одна, и самый малый, самый нищий, самый скорбный, самый убогий из нас уповает на имя Господне. Все мы на коленях ко Господу ползём. Все мы плачем пред Ним, лице ладонями закрывая; все хвалим Ево, а ведь Он за нас пролил Свою драгоценную кровь; одна капля крови Ево - обещание жизни вечной и воскрешение мертвых. Помилует нас Господь!.. и железо ржой затягивается, яко хлеб - плесенью, и душа человека изъязвляется лжой; миримся мы с тем, што суждено; терпение и смирение, вот две наибольшие добродетели, а иных и не надобно. Доченька моя!.. хвалы Господу приноси. Придёт час - повалимся пред Ним во грязь лицом; падай, но и подымайся, и иди, иди вперёд, знает Господь в небесах каждый твой земной шаг; возвратятся грешники во тьму кромешную, а праведные народы подымутся к Богу, и незабвенный будет наималейший нищий, и тот, кто терпел во имя Господа, до конца не погибнет. Да што я, не погибнет; не умрёт никогда. Закон лишь Божий над нами. Далёко от нас отстоит Господь. Камнем не добросить. Каждый из нас мыслит: неужели скорби мои Он, яко письмена, читает? На кострах сгорают люди, в крови тонут люди, погибают в слезах от горя, причитанья и сетованья достигают ушей Бога. Судьбы наши все связаны с Ево судьбой. Нас любящих и нас врагов - всех Он одинаково объемлет. Не клянись людям, но клянись Богу; всегда молитва твоя должна быть у тебя под языком. Не убей невинново, вознагради нищево, сразись с диким зверем, ежели он хочет тебя загрызть, и накорми ево из ладони твоей, ежели зверь, умирая и мучась, извивается пред тобой. Так и Бог видит, што мы хищники, и в тот час наказывает нас; а видит нас смиренных и терпеливых, и вознаграждает нас. В сердце Ево толпою втекаем все мы, люди, все мы в руки Ево движемся, яко в руки отца родного. Великий нам Господь помощник во всём. Обуянный гордыней и отроду лукавый отвернулись от Бога и глядят на диавола. Не гляди на диавола, это погибель. Пусть ты будешь бедна и убога, гляди лишь на Бога, лишь Ево величай на Земле.
- Батюшка Аввакуме! А как мне молиться Господу? Может быть, недостойна я, может, отвернёт Он своё лице от мя, грешной? Нужен мне иной раз Ево совет, съедает сердце моё болезнь, сжигают мысли мои страдания, и думаю, думаю я о врагах своих. И так молюсь я Господу: вразуми мя!.. когда-нибудь и я усну, во смерть войду тихо и горько, и там, внутри смерти, позабуду я моих врагов, а может быть, и встречу их. Но лишь на Господа буду я уповать, лишь на Ево милость и спасение, и Ево небесной Радости будет радо сердце моё. Батюшка Аввакум!.. лишь имя Бога на устах моих. Молю об одном: людие, не отнимите это имя у меня.
- Милая доченька моя! Всю жизнь я Господа любил, и теперь, на пороге смерти, я Ево ищо пуще возлюбил. Утверждаю я себя через Господа; сохраняю я себя молитвою: помози, Господи; избавляю я себя от страданий, припадая ко Господа стопам. Я не гордоус, я смиренец пред Господом тишайший, во всём Он помогает мне, от всево злово и чёрново защищает меня. Он заступник мой, хвалу Ему воздаю каждый день и каждый час. Ведаешь, сколько раз я болел болезнью смертною?.. знаешь ли, сколько раз беззаконием люди убивали мя?.. и вот, болезни Ада, вы отступили от меня! И вот люди, што мучили меня, отстали от меня!.. а я всё иду, иду вперёд, и только вопль мой, крик мой Господу возношу. Движется, дрожит и трепещет под ногами моими земля, и горы смущаются, яко люди, и медленно прочь плывут. И бегут от взгляда Господа, как дикие звери. Яко дым, расходится Господа гнев, яко огнь, пылает Ево лице, и воды Он насылает на землю потопные, и огни безпредельные, землетрясы и мор, голод и праздник; блистает Он в небесах. Да, не каждый смертный зрит это сияние. Люди друг друга на гибель посылают, стрелы пускают из луков, бросают копья, ненавидят друг друга люто, а Господь всех нас любит, всех, кто сеет смерть друг другу. Чистоты хочет от нас Господь, чистоты. Все наши судьбы у Нево на ладони. Ежели мы грязны, Он очистит нас; ежели мы праведны, Он восхвалит нас; ежели мы развратны, Он ударит молнией нас; и вот, смирение... смирение и терпение... Доченька, лишь об одном смирении и об одном терпении я тебе говорю, я тебе пою. Лишь Бог один владыка наш; не Патриарх, не Царь, нет. Подумай о том, како плывут осетры в реках быстрых, холодных, како скачут олени в чащобах, како летят перелётные птицы в небесах вольных, широких, просторных... всё то дал нам Господь, повелел охотиться, рыбалить, жечь костры, на огне пищу себе готовить. Да разве повелел Господь нам врагов убивать? Разве кровь Он велел нам лить? Ведь мы, чем больше зла несём в Мiръ братьям своим, тем сильней души наши обращаем во прах. Пред лицем Бога стоим мы все, как пред лицем ветра, дует ветер нам в лицо, валит нас на землю, валит нас, безсильных, с ног, слышим мы ветровой зычный глас, волчий небесный вой: то Господь говорит с нами. Я закрываю глаза и вижу Вознесение Господа моево. Смертные люди стояли и молча глядели, как Он возносится к облакам, и в радости, и в печали, и в потрясении великом исповедовались тогда друг другу, и каждый для другого был Господь, и каждый пред другим, яко пред Господом, представал. Давай, доченька, петь песни Богу нашему.
- Милый батюшка Аввакум! Какая огромная Земля! Сколь живых тварей живёт на ней! Играет-плавает рыба в морях-окиянах! А человек ставит капканы на зверя, стреляет в нево из ружья, ево вострым ножом колет. Возвышаются горы; птицы живут на горах, гордые орлы. А может, есть недосягаемая какая гора, где живёт сам Господь? Кто из нас, живых, взойдёт на гору Господню? Я стараюсь, батюшка, уходить от злобы и лести, уходить от лицемерия и хитрости, а они всё бегут за мной. Я хочу, штобы Господь благословлял мя ежедневно и ежечасно. А может ли так быть, скажи мне, што Он отвернётся от мя навсегда? Да и я войду в Ево врата, вечные и сияющие, только когда буду умирать; и выйдет навстречу мне из врат смерти Господь, царь Славы, и прошепчу я: здравствуй, царь Славы!.. всю жизнь уповала на Тебя и не стыдилась тово упования, и молилась за своих врагов, и училась у Тебя, как надо итти по земле сквозь жизнь, но как сквозь смерть итти, я ищо не знаю... как по смерти ступать, какими лёгкими стопами. Вся юность моя во грехах; но, зри, я живу, да, живу, до старости своей докачусь, и каждого греха моево стыжусь, стыжусь, потому што Господь все грехи мои видит, и огромные, и самые крошечные, малые, бедные. И так молю: ради имени Твоево, Господи, очисти мя от грехов, все их возьми, от мя отыми, не повторю их больше никогда, хочу быть и по смерти близкой к Тебе, Ты, Господь, держава тех, кто убоится Тебя, и счастье тех, кто любит Тебя. Иду-бреду, семь железных башмаков износила, устали ноги мои, истомился дух мой, воззри на мя и помилуй мя, ибо нищенка я Твоя слабая, ничтожная. Гляди, как я тружусь и не изнемогаю во имя Твоё! Гляди на моих врагов, и сделай их друзьями моими, родными моими, расцелую их всех, стану пред ними на колени, так душу свою сохраню. Уповаю на Тя, люблю Тя, избави мя, Господь, от повторения страшных грехов моих.
- Запомни, возлюбленное чадо моё, што Господь ведает всю Вселенную и всех в ней живущих; да што там живущих - всех ведает, и живых и мёртвых! Реку увидишь на пути своём, поклонись реке, она живая; к морю подойдёшь, прибой лизнёт стопы твои, морю-окияну поклонися, оно живое; гору увидишь высокую, голову свою задери, а потом поклонись горе низко-низко, то гора всево Мiра, то Господня гора. Невинна должна быть ты руками твоими, што добро лишь творят, и чиста сердцем твоим; не впускай в сердце своё ни лести, ни ненависти, тогда примешь благословение от Господа нашево, и милостью Своею Господь одарит. Доченька моя! Стань одной из огромново златово века, из уходящево Ангельсково рода; одною из тех, кто Господа ищет, из тех, кто желает встать, радуясь и ликуя, пред лицем Ево. Князь Мiра... он рядом, за спиной, топырит чёрные крыла... да пусть! А ты-то где, Царь земли нашей? Допустить пред Господом склониться может только сам Господь. Славен Он, Он есть Царь Славы, лишь один Он силён и крепок, лишь один Он сражается со злом. Молись Ему, и придёт Он к тебе однажды, доченька, откроет Он дверь твою и внидет, ибо Он Господь сил наших.
- Родной мой батюшка Аввакуме!.. к одному Господу поднимаю я душу мою, лишь на Нево уповаю. Пусть враги мои разойдутся, яко дым клубящийся; беззакония они творят. Так молю я Господа: скажи мне пути Твои, но и мои пути открой мне. Научи мя итти по моему пути! Научи мя жить правильно! Будь щедр ко мне, Господи, будь благословен ко мне, не оставляй мя. Накажи мя, ежели грех и непотребство опять на земле творю. Множество грехов у человека, и у меня за пазухой множество грехов. Убоюсь я Господа, знаю, што душа безгрешная во блаженстве водворится... закрываю глаза... а ночами во снах моих всё Господа вижу: мы с Господом единородны. Ведь так, батюшка Аввакуме? Уведи мя от нужд моих! Уведи мя от боли моей! Прости мне все грехи мои! Я хочу терпеть муки, как Ты, Господи. Я хочу судьбы, похожей на Твою. Дай мне такое счастье: хоть немного повторить путь Твой земной.
- Всегда Господь мой мя прощал, всегда наставлял, потому не боялся я никово, не страшился никово; всем, зло насаждающим, всем, кто хочет посеяти, вырастить и срезать под корень плоть мою, всем, кто оскорбляет мя, я слово Господне говорю. Пусть Царь пошлёт на меня целый полк стрельцов - не убоится сердце моё, ибо лишь на Господа я уповаю. Разите!.. режьте, колите!.. убивайте!.. а жить буду. Живу в любой нищей хижине, в любой курной избе, в чёрной баньке жить могу, а буду благословлять Господа во все дни живота моево, и там, где стоит храм святой, ево посещать, тот храм, и служить в нём литургии Иоанна Златоуста и Василия Великаго; пишу кровавыми письменами на ветхом пергамене души моей: храм то селение Божие, то камень, коий несокрушим; можно пожрать всё живое на земле, изрубить секирами, исколоть копьями, уничтожить, а храм Божий будет во прозрачном утреннем воздухе тихо стоять, даже ежели будет навеки разрушен. И с колокольни будет доноситься тишайший, нежный звон. Вижу: в иных временах разрушаются храмы, падают каменья на землю, горят купола. Где молиться? Господь живёт внутри тебя. Ты есть живой храм Господа. Не оставь дитё Твоё, Спаситель мой; Ты мне отец мой и мать моя, я никогда не предам Тебя, и Ты не предай мя; никогда не солгу Тебе, и Ты никогда не обманеши мя. Терплю во имя Твоё, и укрепляется сердце моё.
- Отче Аввакуме! Слышишь ты, как я взываю к нашему Господу?! Люди валятся в ров, люди забираются на горы. Люди кричат, штобы услышал их Господь, и не ведают, што Он слышит их. Люди думают, што вот, навсегда погибли они; людям ежели што, вот лишь навсегда; они грешники, и не осознают тово, и больше никто их не спасёт, никто не пошлёт мир, счастье искать, в поте лица трудиться, а приходит Господь и спасает их, и лукавых прощает. Господь всем воздаяние Своё воздаёт. Не разумею я никакие дела Господни, но ежели я отвращаюся от Господа, я все дела мои и дом мой, и строенья ближних моих, и мечты дальних моих разоряю; я не рождаю, а убиваю. Господи, не дай мне убить ближнего моево! Ты один защитник мой! Помоги мне. Путь пройдёт не только тело моё, но и душа моя. И пусть достанет сил исповедаться Тебе: утверди мя в неведомой силе моей. Спаси нас всех от последней битвы и последней молитвы, ибо лишь один Ты можешь это сделать.
- Лишь ты один, Господи, в небесах и на земле, лишь на одного Тебя уповаю я. Спаси и сохрани людей всех Твоих, и любимую доченьку мою, чрез века и времена она ко мне пришла. Будь ей Богом-Защитником. Дай ей дом, ежели бездомна она, и дай ей пищу, ежели голодна она. Восстанет убитая держава, и простим мы наших убийц ради имени Твоево. Мы на земле мирно живём, ловчие сети ставят нам враги, а мы молимся: Господи, возьми нас в руки Твои! Когда мы будем умирать, в руки Твои мы предадим дух наш. Убегаем мы от суеты, хотим войти в Твой покой, радуемся и веселимся от милости Твоея и от любви к нам. Врагов наших лобызаем како любимейших друзей, избавляем очи наши от яростново взгляда; молимся о том, штобы утроба наша жива была и в голоде и холоде, лишь Тобой одним спасалась. Отдохнём, когда час пробьёт!.. на тёплой, любящей, необъятной Господа груди. Любимая доченька моя! Терпи от всех врагов поношения; видишь, как люди ко Господу бегут?.. такоже быстро и ты беги. Тысящи людей, тьмы тем живых сосудов скудельных... сколько людей погибло оттово, што не обращалися они к Богу никогда. На одного Господа уповай и всё только тверди-повторяй, и всё только шепчи: Господи Боже! Ты еси Бог мой. А коли тебя гонят, значит, так назначено и земле твоей родной, и тебе. А ежели нечестивые руку подымают на тебя и бьют тебя, значит, так суждено им, и за своё нечестие они сойдут в ад и за свою лесть. За то, што уста их слова поганые и смрадные произносят, понесут они наказание Божие. Бытие Бога есть тайна. Мы никогда не узнаем ея. Поднимается на мятеж человек, льёт кровь; люди друг другу языки отрезают, штобы не произносил язык имя Господне; говори ево сердцем, говори ево душой, шепчи ево духом своим, и спасение пребудет с тобой. Лишь одной истины ищет Господь, и ты, как Он, истину твою ищи, мужайся и укрепляйся сердцем и веселися духом твоим, доченька.
- Я живу на земле и страдаю на земле. Я не знаю, што такое небеса, я стараюсь быть кроткой, а часто бываю гневной. Я хочу возвеличивать Господа, да, так! а на самом деле, наверное, я, глупая, обижаю Ево. Я молю Ево избавить мя от скорбей и боли, а Он всё больше, щедрыми горстями даёт мне скорбь и боль. Я пытаюсь жить так, штобы мне не было стыдно. Я готова быть нищей, но только бы ощущать Господню ласку. Однажды ночью мне приснился Ангел Господень. А может быть, то было наяву. Он подлетел ко мне, раскинул широкие крылья. И я видела, как светятся, как ясно горят, как два Солнца, ево глаза. Я ощутила святость Бога, исходящую, как лучи Солнца, от нево. Я спросила Ангела: Господень ли ты посланник? Зачем ты пришёл ко мне, малой, неприметной, бедной? И тогда открыл Ангел уста свои и проговорил: я страху Господню хочу тебя научить. Я воскликнула отчаянно: значит, ты хочешь смерти моей! А я хочу жить! Ангел улыбнулся: не говори злово. Не умоляй о плохом. Моли только о чуде, и изо рта твоево извергай только хвалу и радость в защиту мира, ибо миръ лишь Господь даёт. Воззри на лице Господне! Да, я посланник Ево! Я посланник Ево, но даже я, слуга Ево, не могу близко смотреть на лик Ево! Ты должна увидеть Ево сердцем; тогда сердце твоё не будет сокрушаться, тогда скорби твои Господь все излечит. Смерть грешников страшна, они, ненавидящие праведных злые люди, обрекают себя на смерть мучительную. Молись за них. Пусть избавит Господь души ненавидящих от страданий. Пусть даст им радость.
- Возлюбленное дитя моё! Молю Бога, штобы сохранил Он пути твои, и тут же тихо шепчу: сохрани, Господи, и пути мои, сделай так, штобы изрекал я в Божий солнечный воздух только добрые слова. Грешны все люди, и аз есмь грешен. Смиряюсь я пред тобой, Господи. Пусть я буду болен и немощен, жестоко наказан Тобой за все грехи мои тяжкие, но я останусь с Тобой. Пусть в измученном, скитальном сердце моём разгорится огонь Господень. Часто вопрошаю я Господа: скажи мне, когда уйду я с моей земли? Открой мне час кончины моей! Открой мне суждённое мне число дней моих! Я ничтожен пред Тобою. Образ Твой поддерживает мя в страданиях моих, и терплю я боль и ужас, тако же вытерплю я и Страшный Суд Твой, ибо это будет Последний Суд. Ты можешь сделати так, што я онемею; Ты можешь сотворити так, што весь я буду изранен, и Ты приблизишься ко мне, нежно проведёшь надо мною руками, и почую небесный я ветер, и все раны мои вмиг зарастут. Услышь молитву мою, Господи! Каждодневно и ежечасно возношу я ея Тебе. За мною стоят толпы. За мною народы стоят. Встают стеною все отцы мои и праотцы, сопровождая мя, доколе я не отыду прочь, из Мiра людей, доколе не уйду во тьму, штобы воскреснуть, задыхаясь от счастия, в Раю Твоём.
книга огня
КРОВЬ ЕСТЬ ОГОНЬ
ФРЕСКА ВТОРАЯ
Егда святыя церкви без мятежа и без пакости в мире бывают, тогда вся благая от Бога бывают подаваема; такоже пременения ради церковнаго пения и святых отец предания, вся злая на них приходят. Ныне же, Государь, грех ради наших попущением Божиим, отнележе они новыя учители, начаша изменяти церковное пение и святых отец предание, и православную веру, от того Государь времени в твоем Российском Государьствии начаша быти вся неполезная, моры и войны безвременны, и пожары частыя, и скудость хлебная, и всякое благих оскудение. И аще Государь толикия многим безчисленныя свидетельства на нашу православную христианскую веру яко непоколеблемо в православных догматех и в церковных исправлениих, и до сего времени пребывает, и за церковное пение пременение, видим вси наказание Божие, то кая Государь нужда нам истинную православную веру, Самем Господем Богом преданную, и утверженную святыми отцы, и вселенскими верховнейшими патриархи похваленную, ныне оставити, и держати новое предание и новую веру?
Послание соловецких иноков
Царю Алексею Михайловичу
(Раскол есть война)
Жизнь - весна, да смертушка - зима-война. Зиме вёсну век не повоевать, ан весна промчит - и зимка, глядь! Устройство Мiра, воззри, таково: то жнитво, то зимнее, от пуза, ество, то голодуха, пустое брюхо, повылезла шерсть, а ты ищо не умер, ты-то, богоравный, ищо есть! Тони в славном море Байкале, плыви, задыхаючись, по Хилке-реке: тяни свою лямку, не шагать уж тебе налехке, - не спи, не смыкай ночью вежды, звёзд сыплется с небес зерно на темечко... а ты не тот, што прежде, не крутишься, веретено... То гибнешь-тонешь, то отсыреваешь, мокнешь под ливнем, избитый, себе чужой... синий живот, плоть как неживая, волоком себя по камням волокёшь, изнываешь душой... Барку твою от брега оторвало потоком. Вертит, несёт, - ах, утлый корабь! Жёнка да детки - на холме высоком... молятся: Боже-Спас, жизни вервиё не ослабь... Вода леденюща, быстрюща, лодью норовит перевернуть кверху жалким рыбьим дном, а я воплю: Богородицу сущу Тя величаем!.. в сём Мiре страстном! Богородице Дево, радуйся, благодатная Марие, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах!.. тонут минуты мои, уклейки святые, в набегающих, застывающих, инда в зерцале, волнах... Не утопи! Ты моё упованье! Ты ж моя радость! Праздник ты мой! Древняный поднос нас несёт на закланье хищной Геенне, чернущей пасти немой... Огненной глотке да пропасти водной... наша судьбина - в Божию длань - возляг... Спасённый, вышел на брег я, свободный! Смеюся: снова живу на свете, босяк! Кафтаны атласные, понёвы тафтяные, рубахи льняные, тонково полотна, гребут руками-крючьями... ручонки ледяные... кто прикрал, кто на кусту развесил... шёлковая весна... Шкурка-безделка, горностайка да белка! Рухлядь богатая... настреляли зверья... Эх, напиться бы на радостях да пьянющим в стельку!.. всё ведь сгорит-сгниёт, истлеет тряпкой жизнёшка моя...
Ах, жизнь моя, ты надвое раскололась. Ах, жизнь всеобща, ты треснула поперёк! Власть - на куски: последняя волость! Молитва - от тоски: не затвержен урок... Иргень-озеро впереди!.. волоком - лодьи... молюсь-крещусь: ах Ты Господи, пособи... Зимний волок... снег-лёд ноги молотят... бредём чрез силу, от инея седы... Я сани сработал. Снежну землюшку мерить! Полозья просвищут по святой белизне... Гляди!.. распахнулися звёздные двери. Гляди!.. гореть нам, смертным, во звёздном огне... Ингода-река... четвёрто, опосля Тобольска, лето... Ах, власть, то тиха, то оруща, то жруща в три горла Мiръ - война посреди зимних Райских, сиротьих кущей, война моя да Никона, а Царь - во шубе, истёртой до нищих дыр... В шубе из соболя сибирска, из горностая, из росомахи, из куньих шкур... Зверьё - постреляли?!.. а жизнь такая: ты первым, штоб тя не убили, выстрели чур! Кнуты востры, а пытки жестоки... я задыхался... ловил воздух ртом... Страданье - выпей!.. приходят сроки. Все умираем! Сей час - не потом! Все умираем! Земля раскололась. Да мы не зрим тово: аки яйцо! Кричи, вопи! Подай же голос! К тебе - с-под купола - летит Божье лицо! То Спас убруса! холстиной утруся... заутра снова - через порог! по снегу - волоком! с роднёй прощуся, со мною память, со мною - Бог! Снимай ты, жёнка, со груди цату, всю изукрашену - смарагд-жемчуг, тяни, рыдая, купцу кудлатому, авось услышит твово сердца стук! Да за драгую вещицу эту даст нам, голодным, ржи отборной четыре мешка... Когда и хлебец... когда - траву по свету... и щи крапивныя... слеза велика... А голод - это ж раскол великий! Нам голод жизнь разбил-расколол: где сытый - гляну весёлым ликом, где тощий - криком, мыком, што вол... Травы-коренья! души просветленье!.. чем голоднее - тем ближе к небесам! Кору соснову - варить вареньем... да волчьи кости - искать по лесам... Жевать медвежатину, глодать кобылятину, терзать, плача-воя, што волк не догрыз... О том, штоб не стать для рыси - свежатиной, о человече, ты помолись!
О, голодуха... ни зренья, ни слуха... как эту песню хрипло пою - о том, как во имя Святаго Духа стоял близ мёртвых сынков - на краю... Краюха жизни... метель, ты брызни в мя вином белым... мя до глотки - залей... штоб я не выплыл... штоб стал на тризне медным потиром Царя Царей... Как вопит жёнка... как рвётся тонко последний помянник... зеркальный крик... и хрип мой жалкий: ищо родишь робёнка... и ртом горящим - ко Тьме приник...
Увы, кромешный, слепой и грешный! Увы, полумёртвый ты протопоп! Источник рыданий - водою вешней струится, льётся на детский гроб... Не надо сладостей. Избавь от радостей! Эдемским садом бреду в снегах. Во льду. Упился голодными ядами. Рекою льдяной лежу в брегах. Лежу я навзничь. Што для неба значишь?! Разрубят тя, расколют в щепу... а слёзы льются, недаром даются... оплачь свою душу... оплачь судьбу...
Раскол - военный... суров, нетленный... тьмы сокровенной златой символ... Не надо счастья! Я - неизменный. Я лишь за Господом во Тьму ушёл.
А там - кострище... и ветер свищет... и аз недостойный, нагой иерей, едва не сгибший без пития-пищи, стою у столба, а хлад всё острей, а я цепями обмотан, к столбу привязан, костёр ярится, рвёт огнь в лоскуты, о, долгая мука, уж лучче сразу!.. не снесёшь боли, малодушный ты, орёшь так хрипло, к воде приникнув звёзд ключевых, метельных звёзд, так будет, знаю, та боль святая, вот так же страждал на Кресте - Христос, и я како Он же, Господь упованный, я столь страдаю, чашу сию глотком не выпить!.. клеймом не выжечь!.. а только так - у столба - на краю - на звёздном обрыве - глаз косит сливой - безумствует пламя - вопит народ - а я расколот, я серп и молот, я смерть и голод, водоворот - я только Время - я звёзд беремя - и бородёнку в небеса задеру - я лишь огонь - я надо всеми - горю-пылаю - и не умру...
***
(письма с войны: всё это снится)
я не умру ведь ты же знаешь это я просто гляжу на убитого он рядом лежит головой в круге красного света и красное растекается и дрожит и красное лижет мои руки и ноги кирпичи и камни землю и облака гляжу на мёртвых пытаюсь молиться Богу для крестного знамения не гнётся рука с неба вой опять настигает все кричат: ползите в укрытие в ров а я не умру я ведь другая мне не надо ни яви ни снов люди люди вам всё это снится а я не сплю я иду ко дну я улечу на небо в огненной колеснице я расколюсь на миръ и войну
***
(Аввакум царапает Царю письмо)
Ах ты, свет ты мой Царь. Всё мнится мне, што не севодни-завтре помру. Потому хочу успеть высказать тебе, Царь-Государь, што нельзя не сказати смерду - Царю своему.
Вот сижу я во темнице. И што? То ты мя во темницу воссадил. И пребываю тут; и страдаю зело; а человеци на земле и созданы Господом единственно для тово, штобы бесконечно страдати. Я себя вопрошаю: и к чему таково Мiроустройство? пошто та мука мученическая? Не лучче ли было бы, штобы людие вси друг к друженьке милостивы и ласковы были? Вот што я тебе, да, тебе исделал, Царь? Што такова я тебе сотворил, што ты гонишь мя? Живаго местечка, свежей кожи и неполоманных костей нету на мне от всечасных побоев. А всё по твоему владычному приказу, видать, лупят мя. Сколь разов я смерть к себе тут призывал, в застенке. Молил Бога Господа: возьми, Господи, вынь из мя душонку мою, она Тебе в небесех верой и правдой послужит. А што Тебе в теле бренном моём? Выпитое оно уж всё страданием, слабое, тщедушное, утлое. Дощеник ветхий тело моё, и вот-вот потопнет в холоднющей Времени Реке.
Вот ночь идёт, идёт и проходит, и не сочту я, сколь раз в безсветной ночи на живот свой паду, да по полу к иконе Божьей Матери Донской всё ползу, ползу по ледяным половицам, да лице своё по доскам тащу, а доски-то неструганые, и щепки мне в скулы и щёки впиваются зверьими зубёшками. Все половицы за ночь слезьми улью. Како баба, реву. Больна моя душа. Чем исцелю ея? Разве любовью? А где она, любовь? Где ты, где ты, любовь? тако и себя, и Бога вопрошаю, вот и тя, Царь, сей же час вопросил. Когда ты ищо то письмецо получишь. Когда тебе ево вослух прочитают слуги твои. Не ведаю, знаю одно, нескоро. Так проплачу полночи и прямёхонько на дощатом полу сном тяжким забудусь. И сплю, и сновижу: будьто бы я пред тобой, Царь, в обличье Ангела Господня стою, и с крылами за плечьми. А ты очи возвёл, мя увидал, да так возрадовалси, бросился ко мне и ну мя обымать-цаловать, как сродника драгоценнова. А я тебе на те Царския ласки не отвечаю, инда столбище стою; выпустил ты мя из объятий, я тебе земно поклонился. И вдруг ты, Царь, предо мной содрал с рамен твоих парчовую, жемчугами и златом расшитую барму, распахнул и сорвал с себя кафтан со длиннющими, до полу, шелковыми рукавами, рубаху исподнюю совлёк - да так, с голою грудью, предстал предо мной и на грудь твою нагую перстом указал: гляди, мол, Аввакуме, где рана-то моя страшенная, опасная! Я глядел. Рана, будьто кто нанёс ея вострой секирой, али охотничьим ножом, али кухонным бабьим мясным тесаком. Длинная, сверху вниз красной полосою, и кровь чуть запеклася; свежая, недавняя. Я крик в нутре подавил. Ладонь к устам прислонил и так, с зажатым рукою ртом, торчу столбом пред тобой. А ты воздыхаешь, голяком-то: зри, протопоп, рану-то мне какову сотворили, так я тя прошу Христом Богом, помоги, излечи!
Излечи, лехко вымолвить. Да непросто исделать. Исцелить только Бог может. Я тебе, Царь, шепчу: давай, Алексей Михайлыч, я тебе пособорую. Соборования благодать излечит не то што рану твою - излечит будущие раны и грядущие дикие муки твои. Давай, соглашайся, прикажи иереев собрать, и станем во круг, и елеем святым запасёмся, и начнём! А ты главой брадатой несогласно трясёши. Нет, мол, нет, не надобно мне тово соборования, смертию оно пахнет, давай лучче ты сам, Аввакуме, попытайся. Не хочу я, штобы кто другой мои страдания непотребные видел.
А пошто же, это уж я вопрошаю тя, они-то непотребные?.. с кем не бывает беды... А ты на мя косишься зло. Ту рану, ответствуешь, нанёс мне не враг, а друг. Я ему верил всецело. Любил я ево! А он со мною повздорил. Пьяны мы были в тот час оба. Крепкую брагу в застолье вкушали. В палаты мои вместе удалились. Жарко мне стало, я одежонки с себя атласные совлёк. Обернулся - и ахнуть не успел, како друг мой уж с обнажённым бердышом стоит, крепко сжимает в кулаке ратовище. Да руку подъял живенько, бердыш молнией сверкнул у мя пред глазами, махнул он, друг-то, мне по голой груди, а я даже боли в те поры не почувствовал. А кровища хлынула ручьём! Горячо стало рёбрам, животу. Я прохрипел, ловя воздух ртом, а кровь руками: вон отсюда, пёс! Он убежал. Наутро я казнил его. А рана моя воспалилась; молю тебя, излечи мою боль!
И што, спросишь, я в том сне я стал с тобою делать? А вот што. Ложись, говорю, Царь, на пол! Ты лёг. Я стал пред тобою на колена. И обеими руками начал съединяти рваные, воспалённые края раны твоея. Слеплять, стискивать... сжимать, гладить, и всё это время, што делал так, молился, молился... Молитва, Царь, горы свернёт. Молитвою живы будем. Так сращиваю рану твою гнойную - и вдруг прошибло мя: да ведь эта же рана - противу сердца твоево! Точно против сердца. И даже почюдилось мне, што сердце сквозь ту рану, бияся, выглядывает. Страшно мне стало. Мороз у мя побежал по шкуре. Восхотел я свечу святую возжечь, штобы пред ней за тебя, Царь, Богу помолиться. Огонь-то ведь очищает. Огонь благословляет. От огня злые бесы, чёрные духи бегом убегают. Валом прочь валят, откатываются диавольной волной. Восстал я с колен, ищу очами свечу... а ты возлежишь на полу, снизу вверх на мя взираешь и шепчешь мне таково жалобно: отче Аввакуме! не бросай мя! пожалей мя! излечи мя! утеши мя! Я совсем один в целом свете, хоть и семья у мя, и Царство безпредельное на пол-Мiра, и огни в широких палатах горят, и яства дивные мне прислужники на блюдах то и дело несут, а я-то сирота! и нет мне житья от моея тоски. Ты-то, Аввакуме, люби мя! А я обласкаю тя как могу. Ты думаешь, я тебя гоню и пригнетаю? Не пригнетыш я твой! Благодетель!
Так ты молвил мне, грешному, и сердце внутри мя сместилося, сошло с оси, сорвалось с кровеносных петель, яко дверь ветхая. А рана твоя лишь под моими ладонями намертво склеивалась. А чуть я встал, спинушку усталую разогнул - разошлися опять края ея рваные в разные стороны. И обнажилося красное мясо, и кровь закапала, засочилась. Жизнь моя, помыслил я так во сне, и те свои сонные мыслишки хорошо помню, крепко, - жизнь моя, вот и ты тако же станеши однажды: нападут на тебя, пронзят копьём, яко Христа, изрежут ножами, а то и башку отсекут, яко Юдифия отсекла Олоферну владыке, - и што ты зачнёшь делати тогда? Как будеши со смертново своево одра восставать?
О да, Царь! Покаместь я жив-здоров. Како бы ты мя ни мучил, ни истязал. А дале? Пробьёт час, и я исчезну из глаз, мук не переживу, боли не перетерплю. Ты лучче, Царь, повели мя немедленно изрубить, вздёрнуть... а всево лучче - сжечь. Сожги мя! Огня желаю. Сам, видишь, тебе об огне возговорю! Пламя, оно на нашем, на моём языке глаголет; зело понимаю я ево. Глас ево чюю, словеса ево внемлю.
Спросишь, чем завершился мой чюдный сон? А не скажу. Много тебе будет чюдес в одной бумаге, возлюбленный Царь. Забудь моё сновиденье, Державный Государь, и зачем я ево тебе поведал. Так, навалилася тоска на мя тож; такова же, на какую и ты жалился мне в моём сне. У всех людей тоска. Што у холопов, што у князей. Ты вот венчан на Русское Царство шапкою Мономаха - вроде б ты вознёсся надо всеми, и щастлив должен быть; ан нет, несчастен ты, и ужас в полночи объемлет тебя, оттово лишь, всесильный Государь, што ты смертен, как все, и умрёшь, как все! Како же и я умру! Отмерен срок. Пошто же ты мучишь верново слугу своево? Только ли за то, што я держуся Старой Веры?
Старая Вера! Разве возможно предать своево Бога? Разве Бог твой сделал тебе што ужасное, неподобное, и ты Ево отринул, а себе и подданным твоим стал вещати: лице Бога на образах перемалевать надобно! словеса Ево во древних книжицах переписати наново! креститися не двумя перстами, како все наши предки святые крестились, а тремя, дескать, то верно, а не вера отцов и праотцев! Стыд... горе... Горе мне, горе всей Земле Русской! А тебе, Царь, видать, не горе! Научился ты лгать самому себе! Ты прости, што я так тебе грубо толкую. В жизни у каждово есть путь; да не каждый зрит ево. Говорю тебе истинно, куда итти. А ты мя не слушаешь. Не слышишь.
Пошто мучишь? Ведь замучишь.
А я тя давно простил; Господь мне помог простить; благословляю тя по чюдесам Господним благословением милостивым, просветлённым; снизойди к благословению моему; я не всякому ево даю, хотя я и паству мою везде, где бы я ни живал, во Сибири, во Москве, во Даурии, да не знаю, где ищо по земли буду жити-скитаться, благословляю широким крестом, тако же и болярыня Федосья, ученица моя верная, друзей ея навек благословляла. Кто такая болярыня, спросишь? Да разве ж я тебе отвечу! Не хитри, што не знаешь ея. Всё ты знаешь прекрасно. Она мне является в самые тяжкие времена нищей жизни моея. Вот голодал я тут целую седмицу. Голодал-голодал, да и оголодал. Ни рыбы, ни мяса, да и курочка перестала нестися. Молока бабы до избы не приносили. Неделя миновала постная, я псалмы Давыда зачал пети, Псалтырь мою старую наудачу открыл, да тут скрутило мя в бараний рог, сперва хлад всево охватил, затем огнь лютый; и дрожал дрожмя, и зубы мои колотилися друг об дружку со звоном, яко бубенцы скоморошьи. Думаю: печь растоплю, на печь возлягу! И согреюсь. Растопил. На печь с трудом забрался, члены все охвачены трясовицей. Лёг на бок, колена ко груди подтягиваю, яко червь скрючиваюсь. Мыслю так: сей же час помру, здесь на печи, Настасья страху натерпится, мя с печи сдирать, обмывать, хоронить, вот ищо жёнке хлопоты отчаянные. Весь я во огнь обратился.
И, как только я стал весь огнём палящим, как дверь заскрипела и сама собою, без человека, без звука, открыласи; я думал, это домочадцы пришли; а дома никово; а входит баба, и лице мне ея знакомо, и вроде как я поднялся в воздух над печью, в избе повис, и так вишу, наподобие зыбки младенческой; в воздусях парю; а жена та, што в избу вошла, лице своё ко мне подняла и глядит на мя, как на икону святую, таково любовно и почтительно. И очи ея горят, слезами полны. Тут я узнал ея. Болярыня, хриплю, да како же ты тут, каково долго ты ехала, на каких лошадях поспешных прикатила, кто тя ко мне допустил, зачем ты тут?
Она молчит. Ничево не говорит. Лишь на мя глядит. И из глаз ея на мя течёт такое дивное успокоение, такая благость и сладость души, што лихоманка зачала отступать, таять и растекаться по углам избы, а я всё в воздухе висел, лодкой плыл под потолком, низкая крыша была мне навроде дощеника палубы, все качалось и моталось, я всё легче дышал, лехкия мои внутри рёбер расправлялись и наслаждались дыханьем, а болярыня моя молчала, всё молчала, всегда молчала, вовеки молчала. Царь, молчанье иной раз величественнее любого славословия и наисладчайшево величания. Ведь и молча можно говорить. И я услыхал, каково болярыня мне глаголет: ты, отче, не болен; то все больны вокруг тебя. Ты в вере живёшь, а люди лишь притворяются, што веруют. А иные и притворяются, што - живут. Страшнее этово ничево быть не может.
Но ты, продолжает так же молча, тех живых мертвецов не бойся. Пожалей их. Научись беседовать молча с ними. Вот како я с тобою сейчас. Молча гораздо боле, чем ты мыслишь, Учитель, возможно друг другу сказать.
Слово, слово, слово... Слову конца и краю нет. А жизни - есть. Страшимся мы этого края. Да всё к нему и идём, к нему движемся. Срок придёт - кости твои, отче, зверями хищными, псами приблудными станут разгрызены, воронами зловещими расклёваны. И што? Где ты сам будеши в тот миг, где душа твоя живая в те поры пребудет? Гроба хочешь, Аввакум? Не будет тебе гроба! На земле будешь лежати; под Солнцем, Луною, звездами и дождями; под тучами, быстро по небесной тверди бегущими, инда бешаные степные кони; и люди прах твой под ногами не узрят, и люди, равнодушные, иные, другие народы, инакие поколения, останки твои, с землёй и травою перемешанные, станут топтати, вминать в них станут лапти свои и сапоги свои, и босые, жалкие стопы свои. Да тот же час Ангелы твои рядом с тобою возлетят! Богородица близко к тебе встанет, улыбаясь жемчужно, сияя на тебя глазами, што шире лазоревых небес! И будешь счастлив ты!
Молвила так - и поднялась вверх, в воздух, и так висели мы с нею друг против друга, и сердце моё занялось. Я видел шёлк ея волос, и как они по раменам струятся. Она висела противу меня в зыбком тумане, полумраке избы, подобно иконе святой. Я не знаю, Царь, с чем сравнить ея лик. Я знаю, ты замучишь ея, как замучил мя. Ведь болярыня Старую Веру исповедует и за мною идёт.
Царь! а ежели ты, ты за мною пойдёшь!
Вот тогда Русь наша будет спасена.
От чево, спросишь, спасена? Да от распри. От смертей. От огня; ведь мы, кто во Старой Вере живёт, будем сожигати себя во срубах, избах и овинах, в ригах и на гумнах, да просто, Царь, на площадях себя жечь, аки дрова во печи, при всём честном народе. Сердце не остановишь, покаместь бьётся оно. Душу не сожжёшь, пока тело не сожжено и душа верой крепка. Я, по-твоему, еретик? Да ведь ково только не именовали еретиком! И Господа самово именовали. Для первосвященников Анны и Каиафы Он и был самый главный еретик. В темнице мне печаль. Но когда раздумаюсь о вере, радость охватит: не изничтожу! не предам! Остригите власы! Выдерните браду мою по волоску! Прокляните мя так и сяк! Замкните на сто замков в новой темнице, в далёкой страшной, густой тайге! Не страшно умереть за любовь Господа, во имя Господне. Святое Евангелие, Царь, читай! Это есть единственная на земле Книга, кою нужно читать каждодневно и можно вкушать вечно. То наш хлеб и наша вода; наше вино и наше прощение. Не держи мя за своево вражину! Не враг я тебе. Я любви полон, а не яда. Ненависти, што в иных людях вижу, нет во мне. Да, грешен! А кто из нас не грешен! Но покаюсь и боле не творю тово греха.
Затем изволь поклонитися тебе до земли, Царь, прощай, Государь, я-то жив, а ты-то не знаю, всяк под Богом ходит, никто не знает часа своево. Челом бью и все мои муки тебе прощаю. Не хотелось тебе о страданиях балакать, но уж такова моя судьба: я радости хочу, а мне на блюде яства несут: боль, крики, батоги да кровь, а боле и ничево.
Царь! Помни, што и в тебе кровь течёт. И в людях, слугах твоих. Кровь во всех, и кровь всегда. Не лей ея понапрасну! Святи ея! Прости ея! Сбереги ея! Ведь мы народ, не лей кровушку народа твоево, Государь возлюбленный.
Из лесов диких мысленно гляжу на тебя и молюсь за тебя; за ково же мне ищо молиться.
***
(письма с войны: дети приходят во сне)
за ково же мне ищо молицца я шибко уже стара предо мною у зеркале плывут лица лица а я молюся штоб дожити до утра а што утро утро оно такое свету море да всё видать наскрозь да што ль все стали враз незримы Осподу Богу Он-то бедняга ослеп от слёз одна разруха одне могилы помирают у боях наши сынки а я старуха уж нету силы никто на домовину не взденет венки малой сгиб у рукопашном истёкши кровью во сне приходит реву ревмя старшой приникнет ли к изголовью крылом серафима ручьём огня и я бормочу им престаньте мне сницца и я пою им детское демество за ково же мне ищо молицца за ково как не за деточек ну за ково
***
(любовь, она же искупление: Аввакум и Феодосия)
Он чуял себя временами малым мальчонкой. И словно бы рядом с ним братики, двое, а может, трое, и вроде бы в хворости, и вот-вот покинут сей Мiръ, ибо всё тленно, пременно всё, и жизнюшка малая, чуть занеможет, разъест ея изнутри незримый таинственный Червь, во сне он особо тщательно трудится, грызёт человека, выгрызает не хуже лисы лакомый кус из мёртвой мыши; и вроде бы сперва один братик умирает, за ним другой, даже и не в кроватке, и не в зыбке, младенчик, а прямо на полу возлежит, корчится и стонет; и внезапно зычный, звучный глас над Аввакумом произносит: СИЕ ЕСТЬ СЫНЪ МОЙ ВОЗЛЮБЛЕННЫЙ И ВОТЪ ОНЪ УМИРАЕТЪ И БУДЕТЪ ЖИТЬ ВЕЧНО
Он оглядывался. Никово не наблюдалось в остроге. О нет! сквозил тут некто живой. Скрипела, отворяясь, затяжелевшая от сырости, а после скованная ночным морозом дверь. Знать, сняли, али сбили замок снаружи. Входила женщина. Он отшатывался: баба!.. пошто баба-то здесь? Щурился. Не жена! Нет! А кто такая? Вглядывался. А она всё стояла у двери, ближе к нему не шагала.
И очи Господни изнутри наконец вспыхивали ему, в ево бедной, кружащейся шибче звёздново ковра округ Полярной Звезды башке: БОЛЯРЫНЯ!
Господи Боже Ты мой, вылепляли с натугою занемелые, посинелые от голода губы, Федосьюшка, дщерь возлюбленная, дщерь моя духовная, ничуть не греховная, откудова же ты-то здесь... в обители сей безумной, коловратной... позорной, непоглядной...
Ах, то ведь не вертоград уединенный... не Райский Сад... во Время шагнул ты - не оглянися назад...
Он шагал к ней сам. Шаг, другой. Шаги как века. Один век, другой. Ты моя птиченька! Каково тя принёс ко мне Дух Святый? Али обозом за шесть тыщ вёрст ехала-тряслася? Аль в виденьи созерцаю тя, лицезрею, ученица верная моя? Шептал, приближаясь: ты-то сама вся, берёста живая, белизной слепящая, как тайно писанная грамотка, и шуршишь, и в трубку свиваешься, и кто тя прочтёт?.. разве я, негодный, утлый, тя недостойный? Исус, вот бы Он положил нам закон - во Брачном Чертоге совокупитися. Да Настасья у мя! Каково брошу ея! Невозможно сие!
Подошел вблизь, вплоть. Бился в груди под бичами Господь. Колокол гулко охал, чисто, честно. По ударам сердца в тебе можно поверять часы Мiра: коли бьют тяжко, мерно - с Мiром всё будет спокойно и знатно, силы в нём прибудет, а войны убудет.
Рот с трудом разлепил, будьто засох он в болести, спёкся; истязальной кровию запёкся.
- Я тебе, голубица моя, грамотку посылал в топорище бердыша... стрельца одново, парня доброво, чистово... обещано им было мне помочь, письмецо то тебе передать. Ты тут... значитца, посланьице получила?.. Прочла?..
Болярыня молчала. Нежная, призрачная улыбка стала медленно, обреченно взбегать на ея бледный лик и тихо, аки вода из-подо вешнево льда, расплываться по нему, холодному и молчащему.
- Што помалкиваешь... слышишь ведь, што я тебе балакаю... Разучился я, голубонька, говорить по-людски в заключении, а всё по-птичьи, по-зверьи норовлю то стон, то крик из себя выхрипнуть. Каково ты там?.. во светлом Мiре, не таёжном, диком, там, где грады высоко строят, где малиновые звоны с колоколен по шири всей гремят-звенят, над реками, над озёрами прозрачными... Христово стадо пасёшь?! Ты хоша и баба, а головушка твоя управительная, не плоше любово мужика всё заделье скумекаешь!
Вскинул браду. Стрелял очами. Болярыня глядела на нево из-под ресниц, како одни бабы глядети умеют.
И молчала, молчала.
Он вздохнул длинно, страдально, будьто в минуту занемог.
- Што рот на замок?! Зубы на крючок?! Ты мне... поводырю твоему... изменять удумала! Знаю, знаю всё про твои грехи бабьи! Да нет, не помышляй худого... никто мне не донёс... а сон я видел. Сновижу!.. и Господь мне всё, всё во снах моих изъясняет, што с моими сынами да дщерьми духовными там, на воле, деется. Ништо не скроешь! Как ни старайся. Как ни ховай грешок за пазуху, в сумёшку. А!.. морщишься?!.. тяжко тебе? Да, тяжко. Слушать правду всегда тяжко. Иные людишки не могут правду слушать; дыхание у них на замок амбарный запирает, и дышать по-Божии, вольно и сладко, не смогают. А я, во сне непотребном тебя увидав, - молился! Вскакивал средь ночи, на колена - бух пред иконой, и молился! Молюсь, инда горю огнём! И вышёптываю Богородице: Пресвятая Богородице, охрани дочерь мою возлюбленную, Федосьюшку милую, единственную, от страсти пагубной, от любови треклятой... да не любовь то, Мати Богородице, а напасть, а соблазн велий, а Геенна в Мiру огненная! И разорвала Матушка Богородица руками Своими нежнейшими ваш треклятый союз, што зачался, да не подрос у Мiра во брюхе, да так на свет и не породился! Слава Богу за всё! Богородице слава!.. Што... молчишь...
Женщина молчала.
Он дышал шумно, многозвучно, многострунно, многотрудно, звучал соцветием хрипов, как заморский диковинный орган.
Закричал неистово.
И женщина вздрогнула, как от змеиной плети удара.
- Дрянь таковская! Уродина! Бабёшка полоумная! Гадина подколодная! Хватай нож, тесак кухонный, да и выколи око твоё, што на грех соблазняет тя! Лучче без зренья на землице остаться, нежели зреньем тем во тьму диаволю ввергнутой быти! Вот в чём ты, в каких таких тут мехах стоишь предо мной?!
Протянул руку. Цапнул пятернёй за мощный таежный треух, что возвышался грозной мохнатой митрой на голове женщины. Она не успела отшатнуться. Он резко сорвал треух и, озлясь, столь же неистово швырнул ево на пол. Треух шмякнулся на доски, словно убитый зверь.
- Што, баба, шапку себе не могёшь бабью пошить?! Кику разукрашену гордо носить?! Плат вышить шерстяной, белый розанами, будьто разбросать яркие цветы по снегу?! Пошто в мужика играешь?! Не мужик ты! Не мужик! Баба! Баба!
Она стояла с непокрытой головой. Во срубе, а будьто на морозе. И странный, сновиденный ветер внутри избы скорбно шевелил ея волосами, перебирал их хладными невидимыми пальцами: так пряха придирчиво и осторожно перебирает пряжу, ищет, где порвалася нить.
Он протянул руку. Отвернув лицо, вслепую, на ощупь нашёл ея плечо; оно само скользнуло под ево дрожащую ладонь, угнездилось там тёмно и тепло.
- Ну, слышь, прости...
Сжал ея плечо крепко, больно. Худые длинные пальцы вдавились, как в серое тесто, во шкуру волчьей шубы.
- Ну, ну... горячий я... Не сердиси, право же слово. Да! ревную. И возревновал! Так аз есмь живый. Живой я! И страдаю, поелику живой. Мучусь вот... из-за тебя... а ты - тут как тут...
Оторвал руку от ея плеча.
Измерил всю невидящим, страшным, горящим взором; бешаными глазами - перекрестил.
- Да ты мой сон! Опять - виденье! Опять - бред! Сатанинский морок. Изыди! Изыди!
Широко, зло двуперстием перекрестил ея.
Она стояла всё так же: тихо, спокойно, рядом с ним. Простоволосая, треух на полу валялся.
Он упал на колена. Громко бухнулся; колена в пол ударили, яко два костяных молота, и стук тот под сводами тюремной избы раскатился, ровно под сводами храма.
- Сон мой! Болярыня! Прокопьевна, овца заблудшая! Голубица чистая моя, да, и вся такая моя, что мне самому-то страшно! Инда страх мя берет не токмо видети тебя, да и думати, матушка, о тебе! Господь придёт и будет всех нас, грешных, вынимать из могил, скелеты наши плотью одевать да судити Страшным Судом. И нас, и нас с тобою посудит! А как же! Перво-наперво! Небеса в свиток совьются! Ты помнишь словеса сии?! Помнишь?!
Она молчала и улыбалась. Ветер светлые ея, метельные власы шевелил.
- Звёзды с зенита обрушатся! Землетряс корку земную, чёрствую поколеблет! А мы с тобою што?! А мы...
Задохнулся.
- Обнимемся...
И тут случилось чюдо сновиденное, нежданное. Женщина протянула руку. И положила руку на темя протопопа - так иерей возлагает на главу исповедника епитрахиль после кровавой исповеди. Аввакум отозвался на прикосновение всем телом: так жизнь всей плотию отзывается на смерть. Так умирающий всем духом отзывается на жизнь, ежели ево - жизнью поманят.
И второе чюдо произошло: она тихо, медленно опустилась пред ним на колена. Оба стояли, друг против друга, коленопреклоненны. Широко распахнуты глаза. Нет в любви, людие, ничего мiрсково. Есть только неотмiрское. Небесное. Да и не надо обниматься. И целоваться тоже не надо. Душа целует душу. Сердце милует сердце. Дух ласкает родной, заблудший дух, опять вводя ево в лоно судьбы, в чертог неизречённых чудес.
Руки опущены вдоль тела. Колена доски древняной тюрьмы прожигают. Глаза ищут глаза. То ево Болярыня к нему навек пришла; и теперь даже ежели уйдёт, то всё равно: счастливы оба лишь тем, што друг перед другом навек на колена встали. Всё равно што помолиться вместе. Всё равно што есть, пить вместе - на краю великово и последнево голода. На краю великой ночи Страшного Суда.
***
(Глас Никона)
Никово я не раскалывал. Никово не убивал. То мя зачали убивати, а я восстал на глупцов, на скотов, на козлищ рогатых! Я поклоняюсь Богу-Свету; слава Тебе, показавшему нам Свет! - восклицаю я, литургисая, и кто мя сможет упрекнуть в том, што я насильник, гордец и палач! Да никто! А этот... этот... Я уж и в одну темницу ево брошу, и в другую швырну, нет, всё упорствует, всё за старые Псалтыри да Четьи-Минеи, как за грешную душу, держится: а, ха, ха, да ведь Времячко-то поперёд ушло, укатилось, увалилось за нищий окоём. Иное Время настало. И весь сказ! И надо подлаживаться под Время, приласкиваться к нему надо, иначе оно тя замордует, излупит, сгубит почём зря! Безжалостно Время. Неподвластно нам, человекам. Только над туманными снами своими да над ропщущей паствой своей мы смогаем быти господами; над всепожирающим Временем мы не властны, не ево мы цари.
А нынешний Царь... што нынешний Царь? Славно я втолковал ему, каковы деяния надобно с народом произвесть, штобы народ сам, гуртом, овцами, хозяином обласканными и собаками злючими сторожимыми, за новизною побрёл. Новизна! Ей завсегда противятся. Ея боятся, ненавидят. Ну и што, што война! Да, началася война! Да, внутри народа самово! Да, гляди-кась, я-то, видать, с войной поспешил! Да времени земново нетути у мя, и нет у нас ни у ково. Торопимся! Посля нас - кто за нас наше правое дело сделает?! Да никто. И ты, Аввакум, лучче мя то ведаешь!
Всё понял Царь; согласен со мною стал во всяком начинании моём, во всяком хотении; да я и обнаглел до тово, што стал - Царю! - приказывати. Так! Не таюсь, не токмо новизны восхотел, и не токмо славы земной, преходящей, огнём времён сжираемой; власти - захотел! Да такой, што превыше Царской! Ого-го какой! Необычайной; таковой и в самой орлиной Византии было не сыскать! Штобы Русь не токмо пред обновлённым Богом распласталася на коленях, на животах, рыдая, от старины к новизне ползла, но и поклоны мне отбивала, яко пред образами, мне, да, мне! всемогущему Патриарху, ищо немного, и церковному Царю!
...а то и настоящему; чем я хуже живаго Царя? Да ничем. Может, и мне суждено почуять под моими смертными, жалкими костями позолоченный холодный трон. Скипетр да державу ощутить в холодных руках. Руки-то хладны, да сердце огнём занимается. Огнём, слышишь ты, Вакушка! И огнь тот никакою водою не залить.
А война? Што война! Война идёт всегда. Нет на Руси времячка без войны. Война, она меж мирами грохочет. Миръ, птичий да поющий, трепещет, людей обнимает, плачет-жалится, смеётся на площадях скоморошьими зубёшками. У! Всё скоморошье племя начисто повыведу! Порублю, пожгу! Пущай визжат аж до звёзд! Любо.
Война! Смута являлась. Лжедмитрии вспыхивали и гасли. Злобная Маринка, поганая пани, похотела стать Царицею Русской. Кому война, а кому мать родна! Человек, Вакушка, издревле убивает человека. Так назначено; так положено. И во Ветхом Завете про сие значится, и в Новом; разве ж не распяли Христа самово римляне в медных латах на Лысом холме? А, ты мне вновь про то, што мой Раскол вывернул Русь наизнанку! Ха! Ну да, вывернул. Яко чулок овечий, бабкой вязанный! И то суждено! В любом прошлом, знай, таится будущее. В каше, кою я, Никон, заварил, прячется - будущая Церковь!
Ищо вспомнишь мя. А может, не вспомнишь, а я тя, пёс смердящий, в застенке до косточки сгною. И носа не высунешь.
Нет, не так: сожгу я тя, Аввакуме. Яко книжищу старую, старуху умирающу. Не Богова больше она. Новые, истинные прилетели от ромеев письмена. И ты не Богов. Ты, как и я же, гордыней одержим! И ищо пуще, нежели я! Такова гордыня жрёт тебя, на глазах моих сжирает, што лишь буйное пламя, в ево же языках столбом стоя, вопить станешь до небес, излечит ея!
А ты мне про што опять?! Про то, што сельский поп обедню похмелен служил? Упился вусмерть и постыдно на паперти упал и так валялся, покаместь жёнка не приковыляла и не утащила ево в избу, под мышки уцепив? Ах, ах, Аввакуме! А ты у нас, видать, безгрешен! Не пьёшь настойки крепки, девок на исповеди не щупаешь, не дрыхнешь, пуще медведя в берлоге, посля шумново празднества! Ни гулять тебе, ни играть, ни по полю скакать! И то правда, ведь не скоморох ты, Вакушка, а протопоп! Чистейший ты протопоп, алмазный, как я погляжу... А ты не зришь, што ли, што страна наша, Расеюшка, расширяется на Восток, лехкия лесные раздувает, прибирает к рукам Москвы и Сибирь, и восточные лимонные земли, и вот уж Тихий окиян под ногами плещется, и вот уж на заходе Солнца запорожцы с Русью союз заключили! Третий Рим мы и есть Третий Рим! А четьвёртому не быти! И мы, это мы, да, оба-два, Царь Алексий и я, грешный Никон, содеем новое Вселенское Православное Царство! А стольным градом ево станет, ну ты угадал, гордец, конешно, Москва!
Окромя Москвы-матушки нету Вселенсково Града на земле!
Токмо... ну да, да... Град Небесный Иерусалим... златой ковчег надзвёздный... четыре Ангела на страже по стенам... на четыре стороны света глядят...
Што там бормочешь? Под нос себе шепчешь? Не слышу! А, про Запорожье да Киевские земли! Они-то под властью Царьграда. А мы уж два столетия как сами народом правим! Веру ево на путь направляем! Да, зрю превосходно, различаются и книги наши, и служба наша! Да не бойся: всё я приведу ко единому, Вселенскому обряду. И - нишкни! Што на Украине, што на Руси, што в Сибирюшке, што у моря Восточново, Охотсково! А там, помяни моё слово, Вакушка глупый, а там вся земля-земелюшка будет наша. Наша!
Русский, слышишь, весь Подлунный Мiръ будет!
Разве за то не жалко жизнь отдать?!
Да, по-разному молятся, по-разному крестятся, по-разному служат! Да приведём всех скотов во едино ярмо! И будет пахать народ, яко вол, землицу свежую, пушистую по весне времён орать!
Да вот беда, Аввакум. И кормишь ты ту беду с руки, язви тя в Бога-душу! Сам - кормишь! Собою - кормишь! Упорствуешь и воюешь! Ты сам вызвал ту войну. Сам на бой мя вызвал! И Царя! Наглец! Да Царь наш - наместник Бога на земле! Царь и народ - одно! Ежели Царь повелел - народ костьми ляжет, да исполнит! А ты?! Упрямишься! Неистовствуешь! Мя как угодно клеймишь и грязью поливаешь! А я-то тебе друг! Я-то тебе не враг! Я-то тебе...
...помнишь, ну вспомянь, како мы с тобою на санках тех... на саночках каталися... на салазочках... с горушки, над реченькой нашей застылой... изгибы ея зальделые помню... инда крыла, инда шея у лебедицы... река зимою, да она вся лебяжья, царевнина... как хохотали мы, Вакушка, когда с тех салазок в сугроб валилися... и ты за спиною у меня сидел, и крепко, таково крепко мя обхватывал... аж дух замирал, до тово крепко... будьто задушить хотел... и смеялся громко, на всё небо - смеялся... весело нам было... весело...
...да знаю, знаю, што ответишь. Што, мол, не ты сопротивляешься мне да Царю - противится народ. Народ! Могучий наш народ, сильный. Он, вижу, и противится моей да Царской воле сильно. Но, знаешь ли, ничево необоримово на свете нет. Нет! Што носом мя тыкаешь в незнание моё?! Ну и што, грецково языка не знаю! Ну и пёс с ним, с грецким языком! Арсений Грек, прислужник мой в делах Церкви, всё поправит!
Упрекаешь, што множество ошибок да описок в книгах византийских да веницейских?! Согласен! Имеются! Мне об том Арсений толковал! А в наших што, корявостей мало?! Ух как много! А какая тебе разница, Аввакуме, тако звучит: в Духа Святаго, Господа истиннаго и животворящаго, али этак: в Духа Святаго, Господа животворящаго. Што тут преступново?! Убрали словцо - ах, жальба какая! Обряд можно поправить, да и сам догмат наново начертать, ежели времена сместились и иной воздух люди вдохнули!
За старину, за старину, за праотцев воюешь... сто раз мне то повторил... яко несмышлёнышу... Што мне кричишь, криво рот разеваешь? Што я упрямый мордвин, леший раскосый?! Да! А может статься, и леший! Из лесов Сундовика сюда, во Москву, припёрся. Мыслишь так, ты один крут и жёсток? Я тоже крут, надобно, и заломаю на дыбе тебя сам, собственноручно, и тоже жёсток, жёстче железной лопаты, грабель железных, вострой железной секиры!
Жёсток... или жесток? А какая разница. И тут разницы нет. Один звук во слове уплыл, другой приплыл. Гордыня всё спишет. Ея власть. Без нея ничево не сотворишь могучево, вечново тем паче.
И Царь жесток. И он не знает пощады. Таким, помысли хорошенько, и должен быти правитель государства громадново, како море-окиян. Он повелевает, он руль времени вертит - и, зри, не страшится будущево. На кой ему будущево бояться, когда надобно настоящее строить! Мы - строители! Зодчие мы, заруби себе на носу, Аввакуме! А зодчий што? Он месит, кладку кладёт, рубит, жжёт, сечёт, вешает, рушит, а опосля опять возводит. Вот и мы тако же. Всех перевешаем! Всех порубим! Пожжём всех несогласных! А посля на костях, на крови новый храм возведём. То закон бытия, Аввакуме! И ты ево ведаеши лучче меня!
А Царя не тронь. Царь велик и страшен. Хотя молод, а хваток и мудёр. Усмирит он вставшую на дыбы лошадь, безумную Расею. Безумен русский человек! Без Царя он в башке, да с огнём во сердчишке. Уважь Царя! Не противься ему! Смирись ты, ну смирись, прошу! Не просить мне тебе надобно, а приказывать! Не баять с тобою, како с шабром, а сечь да сечь плетьми-девятихвостками! Штобы шкура твоя с тебя кровавыми клочьями слезала! Штобы ты восчувствовал: смирение, оно одесную тя стоит, а терпение - ошую!
Инако ты мыслишь, Аввакуме! Не вливаешься ты во церковный хор. Слаженно, ладно, знаменным распевом, в един глас со всеми не поёшь! Статочное ли это дело! И не тверди, Бога ради, што Раскол наш - то страшное, невозможное, дикое безумство, што мы с Царём злее зверей; ты што, Смуту забыл? ведь она в те поры кровию да огнём нашу землю залила, когда мы с тобою на тех салазках... по тем горушкам да сугробам... Дети, што с них взять! Катаются! Смеются! А про опричнину отцы да деды на сон грядущий нам, мальцам, у печи рассказывали; так волосья дыбом вздымалися! Разве ж нас жестокостью да кровью удивишь! Мы ко всему привычные! Пошто пророчишь, што Церковь наша замрёт и умрёт?! Да никогда тому не бывать! Да ни в жизнь! Врата Адовы не одолеют ея! Што каркаешь об том, што мы все духовные погорельцы, и по мiру пойдём с клюкой да сумой, да в духе, о, в духе будем милостыньку клянчить?! Как не уразумеешь ты, што мы - вперёд движемся! Во грядущее! А ты нас всех назад тянешь! Рак ты, Вакушка, рак и есть! Ужо обрублю я тебе твои распроклятые клешни!
Не повинуешься?! Выю не гнёшь?! Невероятна, Аввакуме, гордыня твоя! Я и не мнил, што ты такой молот железный, таковский кремень неразбиваемый! Да я ж тебя разобью! Расколочу! Яко орех кедровый, разгрызу! Во прошлое глядиши?! Гляди! Глазёнки все выглядишь! Я-то воевать с тобою буду до победы! Иначе я не могу! Нам с Царём над тобою - и надо всею староверской братией - великая победа нужна! Такова война! Пускай мя низложат. Пускай изничтожат. Муку претерплю. Я тож страдати умею. Молча буду под пыткою стоять. Но ты, ты мя не победишь. Помни: нет ни старой веры, ни новой, есть только Бог наш Христос! Али я тя анафеме предам, али ты мя анафеме предашь. Поглядим! Утро вечера мудренее!
...а салазки всё катят... всё катят с обрыва... и снег, Вакушка, снег-то всё блестит... яко адамант... инда глазам больно...
***
(девочка, ты чья?)
...дык я ж што. Я ништо. Аз есмь жалкий протопоп, во поту солёном лоб, спина горбится яко сугроб. Што нас забодал тот круторогий баран Никон! Ни-и-и-и-икон... Вежды сомкну - вижу ево рожу одну. И дородная такая рожа; борода с вехоткой в мыльне схожа; Никон, Никон, во храм заходит - кричит криком, вметнётся в Царския палаты - ах, уж лучче мне быть вживе распяту... Како он пред Царем-то нашим батюшкой изгалялся?! Как земно кланялся ему, с ним, князем верховным, троекратно челомкался-цаловался! Да! троеперстие на себя накладают, ево едино, из солонки Иудиной щепоть, воспевают!.. да за нево, люди, люди, мя - да нас всех, вот он смертный грех!.. - убивают...
Никон. Лунные блики. Луненька моя, свет полнощный, государыня, Федосьюшка... да ведь знай, душенька моя лунная: он ко мне што ни ночь приходит. И речи-то, речи всякие-разные заводит. Изподволь, издалёка зачинает. Да ласков, нежен, будьто во Христе безбрежен, будьто мать родная. Я сажусь ближе, ближе. Из-за ярких слёз ни свечи над книжкой, ни мыши-воришки не вижу. Прямо в морду ему, в лисью, лицемерную, гляжу я: што, мол, Никонушка, шабёр мой, бобёр лесной мой, заимел власть большую? Власть большую, за нею подался на сторонку святую, таперича сидишь одесную Царя, а и кто ж там ошую?
А ошую-то я, да не я, хитрец, а мой призрак брадатый... инда бормочу: не-е-е-ет, ищо не конец, ищо я, зри, не распятый... Не утыканный копьями, не колесованный, не задушенный, не посожжённый, - а вот сижу тут с тобою, дурак, непонятный ты враг, ночью бессонной... Ну што, давай, словеса свои ковром на зиме колоти, выколачивай от пыли, вражина! Можешь хоть яростью, хоть слюной изойти, - а я лишь шёпотом: во имя Отца и Сына...
Што поведать решил?.. тыщи верст отсудил у небес, у застылой землицы... На крылах сна прилетел... а помнишь, мальчонка, пострел, как вместе ловили синицу... Как дудки ножичком резали!.. как на свадьбе плясали резво... а свадьба та была, помню, колдовская, черемисская, с мёдом-яблоками... В розовых понёвах черемиски плясали, нас, детишков, во плясучий круг за ручонки выдирали, а мы по полу берёзовому пятками били яростно...
Это детство наше, Никон!.. это детство наше сосновое, ягодное, холщовое, малина-брусника... велелепное сельцо Вельдеманово... неизречённое сельцо Григорово... И бабка ищо жива... и недуром из земли лезет трава... и ищо по осени не зарезали борова...
И вот, Федосьюшка моя, таково он сидит, пёсий сын, друг-мой-дружок-барсучонок-ребячий, а я ево и вопрошаю: ну ответствуй, што поборол, а чево не превозмог, - правило нощное, древлево пенья долгие плачи? Што тебе не по нраву в нашей-то вере крепкой, старой? Расколись, яко орех! Да возгласи для всех! Поддай в небеса сердечново жару!
А он мне так молвит: эх, Вакушка, дурак ты. Налей-ка мне лучче кваску. Вижу бутыль у тя за печью, близ катанок твоих дырявых. Пересохло в глотке. Наорался я на веку. Навидался адовых казней кровавых. А ведь есть Крест Христов, не зря он в виде человека сработан; и есть крестное знаменье, ну чево ж ты ревёшь, ну чево ты...
А слёзы, государыня моя, так и брызнули у мя из очей, так и потекли на ветхую мою власяницу... И молвлю Никону: не тронь ты Крест, не убивай ты в полёте птицу! Не четыре конца у него, а все осемь. Ибо над головою Исуса, наподобье венца, письмена: ЦАРЬ ИУДЕЙСКИЙ - улетают в тучи и просинь! Ибо под ногами у Исуса израненными - тож дощечка прибита: и кровь по рёбрам Ево течет пламенно, для всякой души открыто! А вы!.. то не так начертали, сё не эдак пробормотали... А Крест Христов был и пребудет и в конце, и в начале! Альфа да Омега, а иных буквиц и не видали! И ныне, дурень ты Никон, пошто краснеешь ликом под бешаной бородою... И присно, и во веки веков, аминь!.. не страданием-кровию, а живою водою!..
Я и давай ему из апостола Павла на память читать. Я, матушка, апостола-то Павла наизусть знаю, под лестовку шептал да распевал ево сияющие словеса, ровно Исусову молитву. И валяю, яко катанки новые, для зимы снежной: слово о Христе для погибающих - безумие, а для нас, спасаемых, - сила Божья! И Ефрема Сирина бормочу, нищий на бездорожьи: Крест - путь заблудшим! Крест - упование христиан! Крест - узда богатым! Крест - памятник победы над демонами, помощь безпомощным, надежда обуреваемых, заступник вдов, упокоение скорбящих, цель старцев... Крест - охраненье Вселенной! Сила безсильных, разрешение разслабленных, покров нагим и дрожащим. Да, Никонушка упрямец, Крест - воскресение мертвых, жезл хромым, низложение горделивых, победа... победа... победа - над диаволом! Што, упорствуешь, власть заимевший?! Голгофу хочешь наново переписать?!
А крестное знамение ваше, мясо, наспех к новой, лживой Тайной Вечере порубленное?! Ах ты, пёс ты, пёс! Кому ты кость в зубах принёс! Двуперстие - вот слава, вот награда: един палец - Божественное, другой палец - человеческое! Вот и вся загадка! А Троица Единосущная - вот она: три перста сложи - мизинец, безымянный и наибольший - и будет тебе Троица, от тебя не скроется... Праотцы наши так крестилися! Весь древлий Мiръ крестился так! Пошто ты древность нашу на выдумку быструю меной меняешь, обряд рушишь! В обряде - сила. Ибо он - правда. Ибо он - Время, остолоп ты Никонушка!
А он мрачно на мя глядит, угрюмо, гоняет тёмную думу. И рот разлепляет. Изнутри ево бороды до мя долетает: а ты, Вакушка, пошто мой враг? Пошто мя предал за так? За понюх табаку? За ворону на сухом суку? Пошто на мя восстал? У мя с тобой - не моя война. Больно тебе, да! Томно! Да я тебя словесами хлещу, в застенок бросаю, на хлеб-воду сажаю, - таково я тебя спасаю, пойми это, душа твоя голая-босая! Ты мой святой Мiръ тыщу раз оскорбил, и мя вместе с ним. А ты вот скажи мне, Вакушка: ты Бога-то любил?.. али так, из кадила пускал сизый дым?.. Ежели Бога любишь - то ить и людей любишь, Вакушка. Да только так! А што зря противу истины восставать! Я-то истину - восстановляю! Я желаю, штобы всё точнехонько, по Писанию! А не по твоему веленью, по щучьему хотенью, по заячьему желанию... Пойми: есть - Святое! Есть - Святцы! И единственно их надо торжествовать и петь! А ты... ты бы рад на моём месте, близ Царя, оказаться... да слаб ты, хил... и тебе только Триодь Цветную листать да во слюду на мороз глядеть...
А я ему возьми и брякни: ты бы, Никон, лучче окрестился вдругорядь! Может, просветлело бы в башке твоей, разумом невеликой, и уразумел ты, супротив чево рискнул восставать!
А тут дверь темницы моей скрипнула. И женщина тихо вошла. Думал, баба мне кваску испить принесла. А она лик подняла, а я и гляжу - это ж снова ты! Ты, свет-царица моя, государыня, твои полнощные черты! Луна, Луненька, Федосьюшка... шаг ко мне, да шаг, да ищо шаг... Нощное правило, завершати не хочется, ночь напролёт читай нараспев, и пущай погибает враг... Ежели ночью Бога звати не станешь - так телу грешному при Солнце и жрать не давай... Прижмись, прижмись крепче ко святой иконе устами... цалуй, ровно хлеб, ровно горячий - из печи - каравай... Лучче ты голодай, чем празднуй чревоугодьем! Лучче пей хладную воду, чем сладкий мёд! Победа твоя над окаянною плотью - залог тово, што и душа твоя не умрёт...
И вот ты, болярыня, подошла к печи да на пол села. И тихо шепчу тебе: не молчи, говори у края-предела. Един Бог, Он и в Солнце и в Луне, сияет всем щедро и богато, Он - звёзды, Он - безумный заяц на стерне, Он бич в руке палача, свистящий, проклятый... Да ведь есть Божий Бич! Он свистит опричь нашей тщеты, нашего жалкого, зверьего упованья... Болярыня, я Богу, не тебе же служу!.. а поди ж ты, пред тобою дрожу, како агнец пред священною трапезой, несом на закланье... Земля, и моря, и реки, и лозы, и твои, нежная болярыня, слёзы - вдоль жизни моей, вдоль всех ея полуночных видений... Никон, отселя брысь!.. вся такая наша жизнь - от бреда до костра, от резни до святых песнопений...
Да, он тяжело с лавки встал. И к двери пошагал. И у двери на тебя и меня оглянулся. И тяжело изронил: не станет у тя, Аввакум, сил. Разминулся ты со мною навек. Разминулся.
Я тебе не друг. Не враг. Я лишь крепко сжатый кулак. Занесён над временем, над тобою. Я лишь Божий Бич. Я назначен тя бить. Всею памятью. Всей судьбою.
Вышел. Хлопнул дверьми. Пошёл меж людьми: меж сугробами, торосами, хвоей; снег под сапогом - хрусть, он убьёт меня, ну и пусть, наша вера всё одно пребудет живою.
...ах, Федосьюшка, ты не ленись, на гулянках раскосых, гремящих монистами, не крутись, болярыне не пристало, а тебе и горя мало. Ко мне ночьми и Царица приходила. Царя Алексия жена. Я разглядел ея вполглаза, вполсилы: щёчкой светла, а бровью темна. Брехали, с нея писана масляна парсуна. Красива? Не разобрал впотьмах. Што Магдалыня супротив Исуса - кошачьих ресниц смоляной взмах.
Ты ж, милушка, лучче мя знаешь: дни наши не в довольство, а на скорби нам даны. Плачем и плачем, ревём, в небесах ночами зрим знамя, желаем праздника, а заместо нево видим несчастные сны... Семьсот молитв прочитай в полночи, пропой, моя соловьиха! Да мне - лишь одну прошелести крылом, голубица, горлинка моя... Всех помяни: всё семейство моё бедное, што хлебнуло, инда горячих щей, лиха, все муки, на какие иду, обочь сытово, небитово жития!
Ах, добро творить... это вам не квасок пить... Што, вопрошаешь, ушёл ли с миром тот, язви ево, Никон-то безумец наш? Утёк, да. Я слыхал: снег под сапогами ево хрустит, вспоминал тьмы обид, што он мне нанёс, от разбитых в кровищу пяток до кончиков подъятых дыбом волос... подъят я на дыбе?.. да буду, буду ищо, изволь... ах, болярыня, до чево дикая боль... Я испытал гоненья, и ищо испытаю, дай срок... я окружён врагами, не ведают сожаленья, волчцами мой обвивают порог... В нощи на колена вставай, да поклоны метай, покуда дыханье не перетечёт через край. Пироги с мясом не вкушай, толечко с огурцом солёным да со щавелём ешь: пока уста свежи, да и дух молитвенный свеж... Ушёл Никон. Ушёл Царь наш. Царица в парче негнущейся тихо ушла. Все покинули мя. Навалилась великая мгла. И совершил я, мать моя, сто Исусовых молитв стоя, а опосля и на колена встал; Слава, и Ныне, и Аллилуиа, и Достойно есть хрипло петь не устал. Ах, праздники мои сибирские, безоглядные!.. далёко, на край зимы заброшен я... а всё вижу тя, моя нарядная, да нету, нет мне без тебя-то житья... Без тебя - всё мне Великая Суббота, и Аввакум твой со Христом спускается во Ад, и я за Ним смирно иду, бреду, яко во бреду, и чую: нету дороги назад, и край Ево алого хитона умилённо несу, а сам по сторонам гляжу, ступаю лехко и страшно, како по ножу: всё тя пытаюсь найти, может, ты тут, во страданьях навечных, Господь прости, да не вижу, нет тебя тут, болярыня, нет, и вдруг вдали брезжит полоумный, предвечный свет, и я - за Исусом - всё ближе, ближе - всё жесточе - к нему - и вдруг слёзы на нить мне нижет один родной лик, уходя во тьму - да это ж протопопица, моя остолопица, мать детишек моих, и ах, мне до гроба жена... а Исус всё идёт, и у ног Ево толпится народ, плачет-стонет на все времена... А я красный плащ Ево всё несу, держу на весу край чистой, святой одежды Ево... а жена моя глядит на мя широко и жутко, глазами огня, плащаницей - гладью кровавой шитво... И чту я в ея глазах: протопоп, жизнь твоя на весах, жизнь твоя на часах, на Царских, разбойничьих, палачьих - да всё равно... А я ей шепчу: Настасья, да ты ж мя прости, дай руку твою подержу в горсти, пока не стало навеки темно...
А и кто это там в углу?.. босиком на холодном полу?..
Огонь во печи сгас... за окном - мраз...
Девчоночка малая, стоит тихо... а может, бельчиха... а может, ежиха...
Широко распахнуты очи... мой сон во полночи...
Письмо завершить... нет уже мочи...
...Блюди ты истово, возлюбленная дщерь моя, не токмо тело твоё, но прежде всево душу твою алмазную, бирюзовую; беги от людей злобных, ненавидящих, кто бросает в мiрскую пашню зёрна чёрные яда, мести, лицемерия; сторонися подлых притворщиков, хитроумных бабёнок, рыболовные сети лукавые вяжущих ловким, без костей, языком; болтунов-брехунов; душеньку твою в чистоте сохраняй, сердечко твоё от гнева береги, за решётку не сажай, кровавыми думами не стегай, коли встретишь зло, навеки от нево утекай, а коли встретишь добро, близко к нему подходи да крепко ево обнимай. Добро, ведь оно и есть величайшее благо в широком Мiре и величайшее человеков блаженство. Это же просто таково. Да все делают вид, што не разумеют тово.
Штобы войти в Рай Господень, надобно пребыть чистым. То есть древляя истина, доченька моя любимая.
Но вот смиренно прошу тя, молю даже: не сражайся с тем, кто при жизни мертвец, не бей тово, кто от Бога Господа далёко ушёл. Может статься, ищо вернётся.
...и положить перо. И дать себе и душе своей время, штоб обсохло чернило.
... письмо, то всево лишь письмо.
...иль то не буквы, а горячие, огненные, бедново сердца удары?
...Феодосья... Настасья...
...а ту, девчонку-то, ту, што невесть откуда является, да всё заполночь, како звать?
***
(идут навстречу друг другу)
ах идём идём идём навстречь друг дружке под снегами-дождём ногами перебирает батюшко ноги переставляю я вот мы и далёкая крепкая розно бредущая семья батюшко крепче за руку девчонку держи та девчонка смекай и есть вся твоя жизнь а я мальчонку крепко за руку держу таково боле никогда на землице не рожу то мой сынок то не мой сынок немой да чужой сердчишком одинок сердчишко заячье стучит тук да тук никогда ни в жизнь не разнимем рук я знаю как тя мальчонка зовут идём той дорогой там берег крут нам надо на кручу штоб видеть вдаль штобы ничево никогда не жаль батюшко идёт я иду во облацех пролагаем мы борозду скоро ли сретенье через века батюшко жизнь моя мне велика батюшко жизнь моя она ведь твоя вся-вся а девчонка глядит смеяся кося я знаю ея имя выну ево из звёздных пелён гляжу глазами косыми на родильный туман времён
***
(Аввакум, Никон, Патриарх во дворце. Сон ли, явь)
Зло да каиниты. Наваливаются, аки тучи чернеющие. Что есть зло? Возможно ли ему быть неискушённым добром?
Он был подхвачен ветром, суровым и детским единовременно, и во мгновение ока перенесён во раздольные, просторные, как поля-луга во солнечный ясный день, палаты. Давно уж не разумел, што с ним в темнице творится. Ну пущай будет так, кивал сам себе, а потом эдак, всё смиренно претерплю. На возвышении, в резном богатом кресле, сидел человек. Он шибко, быстро, мигом одним, угадал: да это ж Царь. И, как на грех, забыл, как Царя-то величают. Забыл! Запамятовал имя ево! С ума можно сойти в застенке; жёнка слезу точит денно и нощно; детки... забыл уж он, сколь их у нево, то помирают, то рождаются, то растут, то старятся, а он всё не старится, он всё в силе, да на кой ему эта силушка, лучче бы Господь силу-то у нево взял, а щедрой дланью ему смиренную слабость дал: лечь в домовину, им самим сработанную, сложити руки на груди и тихо ко Господу отойти, да ведь таково счастия не даёт, а шепчет прямо в уши: живи, живи, тебе не вынести Моей любви.
Царь восседал молча, сжимал в руке скипетр, в другой - тяжеловесную державу. Скипетр сверкал каменьями, держава круглила позолоченный планетный бок. Рядом с троном, внизу ступеней, стоял брадатый Патриарх. Да, так положено и разделено от века: власть Государя, власть Церкви, - а у нево, жалкого протопопа, што за власть? Да и власть ли у нево? Да и нужна ли она ему?
Все рвутся к трону. Все рвутся быть первыми. Чтобы во славу вцепиться, на гребне прозрачной волны ея засветиться. Чтобы оттуда, с таким трудом, мукой и кровью достигнутой славы, вниз презрительно глянуть, увидать людишек-мурашей, прищуриться, усмехнуться: о, я моей удачи, Луны и Солнца досягнул, снизу мя всем видать, а мне и недосуг лики все ваши разглядывать, я тут, в высоте, сам по себе, с Богом рядом, ем-пью с Ним из миски одной! Да не из плошки одной ты с Ним ешь-пьешь, а сердце твоё, в погоне за вожделенным первенством с ума спрыгнувшее, тешишь; величием твоим размалёванным баюкаешь; а сбрось себя с гребня - куда сверзишься? Обо што разобьешься? В брызги? В осколки...
Так друг на друга молча глядели: он, Никон, Царь.
И што будет? Што нынче станет?
Явь обращалась в видение. Давило бремя греховное. Он повёл плечами, передёрнул ими, молча помолился: Господи Вседержителю, избави мя ото лжи велией, от напасти гордыни. Царь первым раскрыл рот: по чину. Што, Аввакуме, злата-серебра не имеешь, сундуки с яхонтами-лалами во подполье не хранишь, што же тебе, протопоп грешный, таковую радость нас ненавидеть доставляет? Пошто с нами насмерть сражаешься? Ответствуй!
Никон тут встрял. Начал тихонько, исподволь. Голос пополз тараканом запечным. И всё разгорался, како старый самовар, разъярялся. Опала Царская и гнев Царский никогда напрасными не бывали! От Царя всё надобно претерпеть! Сказано в Писании: претерпевший до конца спасётся! Ты, Аввакуме, был изначалу плотский сын родителей твоих и всех предков твоих наследник, а чьим духовным сыном ты нынче мнишь себя?! Господним разве?! Да ежели бы ты был воистину чадом Господним, ты бы понял, что мы тож, и Царь и аз есмь грешный Никон, за высоту и чистоту Господа ратуем! Ни за што иное! Чем зраки твои демоны ослепили, заслонили?! Што ты в сопротивлении нам на земле существуеши? О небесах забыл? О грядущем праведном полёте там, в Райском Саде, меж херувимов и серафимов? Ликуют Ангелы на небеси, коли душа грешная, всю жизнёшку на земле воевавшая, просветляется и к их летящему хору примыкает! Ликуют, слышишь! А о тебе, неразумный протопоп, кто будет ликовати?! Кто о тебе возрадуется?!
Он опустил голову. Подбородок ево коснулся груди. Борода топорщилась, пряди шевелились, как живые.
Кто обо мне заплачет, лучче бы вопросили, тихо, еле слышно сказал он.
И умолк.
Царь сдвинул брови. Служка подошёл, робко взял у Царя из рук державу и скипетр. Золотыми огнями вспыхивали и гасли Царские одежды, длиннющий, в пол, парчовый кафтан. Руки торчали из раструбов рукавов беспомощными берёзовыми поленцами, и белые праздные пальцы гляделись деревянными, будьто их пьяный плотник сработал. Нынче яблочный год будет, ни с тово ни с сево буркнул Никон, щурясь на затянутое подзором мороза странное окно: не квадратное, а почти круглое. Окно-Луна. И катится прочь. Протопоп вздохнул. Люблю яблоки, тихо и медленно сказал, люблю особо в Яблочный Спас. Яблочком любо разговеться. Вы бы, владыки полумiра, хоша бы жёнку мою с детишками пощадили, ея бы на волюшку пустили, мя-то как хотите пытайте, взаперти держите, измывайтеся, только бабу, бабу пощадите. У бабы волос долог, ум короток, да, да сами знаете, чай, не маленькие, без бабы и жизнь не продолжится, и дети не народятся, и время прекратится. Баба, владыки, длит время. Она ево пестует, рожает и дале за собой, как телка на вервии, ведёт.
И опять замолк.
И так стоял.
Противостояние, не иначе.
Никон разинул рот да как заорёт, како глашатай на площади людной: а пошто словесами дикими народ весь русский смущаешь! Пошто людей за собой в дебри древлей ереси уводишь! Это ты еретик, а не мы еретики! Это ты волчара, а не мы волчары! Ты изглумился над священным, изговорился, измололся неправедною речью, перегорел, пережёгся в пепел, како забытая в печи головня! Это ты, ты мертвец, ржавая кочерьга, тобою только угли остылые из жаровни выгребать! Да на снег выкидать! А потом - в угол тя, в угол швырять! Ухват ты проржавелый, и хваталка сломана! Знамя ты в клочья порванное, и древко гнилое надломилось! И все твои к народу бедному воззванья, и все твои писанья, и проповеди все твои - глум, глум, глум скомороший! Войну в открытую противу Церкви Божией ведёшь, так и знай!
Умолк. Так стоял. Задыхался.
Пот со лба ладонью отирал.
Царь молвил хрипло: будешь противиться и дале, на костре сожгу.
Он выпрямил становую жилу. Спина хрустнула, почюдилось: надломилась. Почюял себя храминой, под кою пороха подложили да тот порох подожгли, и затряслися стены, и осели, осыпали наземь красоту и упованье древлих фресок. Почюял главу свою златою маковицей; и будьто заместо волосьев пламя; то ли закат, то ли факелом плоть подожгли. Летели мимо лица иконы. Срывались со стен. Какие разбивались о землю, какие улетали в небо. К себе домой. Позолота лилась, разплавленная. Паникадило качалось, свечи гасли, вдруг вспыхивали все, бешано, разом. Лампадное стекло звенело, и лизало пятки лампадное масло. Пахло миром, порохом, грозой, грядущим. Он понимал, што должен прогудеть колоколом разпоследнее слово. И качнул веревку звонарь, и ево колокол загудел, мерно и безповоротно. Он понимал, што скажет сей час безповоротные слова. И верно! И только так и надобно жить!
- Костёр мне будет како Бог. Господа на мя нашлете в виде огня. Это мне знак будет. Не только мучений моих будущих, но и небес моих лучезарных.
И больше ничево не стал говорить. И так досыта.
Царь говорил. Никон говорил. Они оба, над ним владыки, говорили, говорили, говорили. А он молчал. Он стоял и думал: то ли зрю, то ли чую, то ли жизнь, то ли тьма, то ли Царские палаты, то ль застенок проклятый, то ли я пёс кудлатый, то ли мне за моё грядущее - прежняя расплата. Может, я уже во прошлом? А будущее возьмёт да и никогда не придёт?
Небесное боярство! Ангельское Царство! Што есть земная власть? Поцарил, и нет тебя! А што есть земная слеза? Вытечет, утрут, о радости заутра соврут. А что ж такова земная молитва? Вот она, небес ловитва! Молись, грешный протопоп, не ленись!
Они говорили и кричали, потрясали кулаками и бородами, стояли, садились, ходили взад-вперёд; Царь слез со трона и мотался, аки хмельной, Никон неистово дёргал кулаком браду свою, будьто спутанную рыболовную сеть. Он ничево не слышал. Услышал только, когда во внезапно слетевшей тишине гулко раздался, како с небес, како во храме из-под мощново купола, глас.
- Будет война, людие, неразумны вы, разрубили сами себя мечем надвое, и война грядёт, и на множество лет вперёд. Готовьтесь к ней. Воинство со стороны одной, воинство со стороны другой. Схлестнётеся, родные. И рок то ваш. Наказанье ваше. За нелюбовь. Бога оставили. Бога забыли. Теперь - бейтесь насмерть.
И в полной тишине он сделал шаг вперёд, ко трону, и голою рукой нежно, осторожно коснулся обитой бархатом деревяшки, как в ночи - тёплой женской груди.
***
(народ родной)
Ах, люди, люди! А вы ведаете, што оно такое - толпа? А я зело ведаю, так больно ведаю, што потроха мои все сплошь огнищем полыхают. Одно дельце, людие, - болотные огонёчки; иное - егда полымя тя крепко охватит, жутко, и завоешь-заблажишь, свету не взвидишь, до чево томно! Толпа тож огонь. Огнь поядающий! Нету конца-краю пожару тому. И идёт, и идёт, наваливается, красным лоном теснит, в алые хищные губёшки втягивает тя, птаху человечью малую, несмышлёную. И то, да разве ж смышлёны мы?! Смысл наш нищий давным-давно на инаких пожарищах истлел. Упорно воспоминаем то, што забыть бы, што вспоминати никогда не велено! Кем не велено? Господом? А хоша бы и Господом. Под Ево лезвиё главу надобно склонити. Выю гордую нагнуть. Слишком мы заносимся, черезчур.
Толпа, толпа. Наплывает, слепа. То притечёт, то отхлынет. Нет удержу. Не дай Господи очутитися середь толпы. Задавят! Сомнут. Инда в кулачище огроменном, люди тя, яко ягоду, сожмут, и сок твой весь, по красной капле, выдавят. Кровь, она ж на морозе дымится! Все жаркое на холоду - дым испускает; словно бы горит, и дым валит. От толпы средь зимы крутится в небо дым. Толпа - пожар. Там, внутри толпы, человек - не Господень дар. Не благословение, нет. А иной, страшный свет. Глаза у всех горят. Рвётся наряд. И ветхий-бедный, и самоцветный, богатый; толпа - вот расплата, вот ход ея мощный, проклятый, она Царям отрада, пожива для ката, умножена трикраты, бабы всё рожают да рожают детишек, выпущают из живота, из подмышек, люди, люди - ветра да пепла излишек...
Я толпу видал-слыхал, в ней хаживал, ея по боку многорукому, многоногому - поглаживал. Тёк в ней, пребывал ея кровию, ея холодной вешней водой. Тогда был - эх, молодой! И не страшился толпы. И не страшился судьбы. А теперь... закрутит людской водоворот, и блазнится мне, што душа вон из телес уйдёт, што я - вот-вот, немедля, прямо нынче! - помру: хоругвью забьюся на сыром ветру... Земля наша, родина!
Мы - толпа, сколь площадей наискось пройдено... сколь тропинок по горам кудрявым проложено... сколь пальцев, ушей, рук-ног обморожено...
Мы - толпа? А разве мы - толпа? Толпа глуха. Толпа слепа. Толпа то нема, то златоуста: от Мясопуста до Сыропуста. Человек в толпе - не херувим, нет. Он отрок во пещи Вавилонской, угрюмой. Серафимам шестокрыльным да Херувимам многоочитым он дал обет: воеводою огнепальным гоняет тяжкую думу. Силы безплотныя! Силы небесныя! Толпа катит?! Нет! Народ идёт, глотку рвёт дедовой песнею! Злославие пущай иссякнет, а пеньё Ангельско зазвенит в выси: лети, лети, глас народа, песня, милостыньку не проси! Ты сама, наша песня, ково хочешь одаришь собою. Ты летишь во облацех, поверх хороводов девьих, превыше волчьево воя, ты раскинула крыла могучие между тучами, а и кто ты, песня, а ну признайся, скажи?.. птица ли Рух, птица ль Гаруда?.. снег завалил все просторы, сверкает лютой остудой... лети, сердцем грейся, волей упейся, да не дрожи... Мы все головы задрали. Ты летишь, а будьто лежишь в синем небес одеяле. Тя тученьки целовали. Тя звёздоньки обымали. Над народом - птица! Такая лишь приснится! Зенит протыкает золотая, крылатая спица... Течёт облаков колесница... А коль подстрелят, падать зачнёшь с высоты - Бог на рученьки тя подхватит, не сможешь убиться, в кровь разбиться...
Вот тако же и человек бытует. На мечах рубится, на брачном ложе воркует. А потом - последний полёт. Часы-то - наперечёт! А и што там, внизу, под тобой, улетающим, толпа тебе речёт... што бормочет народ... што глаголет твой Царь... скажет верным сокольничим: подстрели тово Феникса пьянокрылово да на обед мне изжарь... И летишь ты, крыльями машешь, инда в небесах пляшешь, селезень, кречет, голубь, канюк, лебедь белый... глотка твоя, видать, отхрипела, отпела...
Но последний крик! Он есть. Вырвется из пронзённой стрелою груди. Посекут землю кровавы дожди. Красный снег завихрится. Сканью земляной заискрится. Ах, люди, люди, - мы ж у потоков времён - только в небе летящие птицы... то журавли, то синицы...
Крик последний! Народ замолк, бедный! Гремит небесная, на пол-Мiра, обедня! Вытолкни крик, душа, да падай на землю; а иной я судьбины не хочу, не приемлю.
***
(только вперёд)
Самое трудное на свете - идти. Иди. Самое страшное на свете - идти в темноте. Ничего не видно. Руки сцеплены на груди. Руки сжаты на позабытой версте. Слева грохочет и справа. Последний бой. Это бьются с державой держава. Останься самою собой. Останься последней девчонкой с печальным ликом Богоматери Донской. Спасённым тощим котёнком. Собакой, чей волчий вой. Идёшь. Ты ходячее дерево. Шагаешь корнями ног. А людям кажется: девочка. Иные видят: щенок. Иным блазнится: ворона. И встали сугробы в ряд. И розвальни с небосклона в посмертье катят, катят. А там, во санях, черным-черна, в алмазной вьюге, кривя плачущий рот, широко тебя крестит матерь Война: иди, иди только вперёд, вперёд.
***
(протопоп и Никон)
...толпа напирала, а он сначала сопротивлялся ей, а потом катился вместе с ней, толпа вспыхивала тысящью зрячих огней, толпа бешанствовала, усмирялась, взрывалась опять, другой такой толпы в целом мире не сыскать; он чуял течение в ней, внутри, крови, биение крови - спины, локти, руки, ноги и щёки горели жадно, ему становилося жарко, вот далёко, над затылками, шапками и лбами, он увидал на помосте человека в ризе; ево ударило вдоль всево тела синей молнией: Никон! - а потом ищо раз ударило: нет! обознался! - и потом в третий раз обожгло: кто это?! - и самому себе он показался не самим собой.
Я не тот, не тот, кто я есмь. Федот, да не тот. Рот выборматывал невероятные словеса - он таковых знать не знал. Всё ближе толпа подносила ево к помосту, слишком сильно сходному с Лобным местом. Ах, тут вот ведь и казни запросто творятся; он попытался зажать себе рот ладонью, да не вышло - не мог выпростать согнутую в локте руку и поднести к лицу; она была прижата к животу, к потрёпанной рясе плотным, чюдовищным многолюдьем. Толпа, ты ведь великанский булыжник. Ты припечатываешь, давишь. Тебе важно, штобы сок брызнул. Плод тем и хорош, што сочен; убийство человека человеком уж тем оправдано, што убитый отдаст улетающему Мiру последний крик.
Вопль последний.
В нём - вся музыка Мiра подлунново; именно во крике, в отчаянии.
А - праздник? Разве толпа не может родить праздник?
И угоститься им, от пуза, от сердца, от души?
Вот уже слишком близко он подступил к помосту. Рассмотреть можно было шершавые грязные доски, побитые дождями. Человек, другой Никон, а в ризе всё такой же, какова и у Никона была, праздничной, снежно-сверкающей, - алмазные искры, цветной, радужный снег, глазам больно, а сердцу ищо больнее, - повел головою, скосил зрачки, и глаза ево словно бы на миг ослепли, а потом опять прозрели: то таково иной, новый Никон узрел ево, иново протопопа.
Он глядел на Никона снизу вверх. Будьто в небо. Человек, когда на человека снизу ввысь взирает, смотрит в самом деле не на человека, а на небо; и человек, на ково глядят, становится для зрящево небом, и тот, кто сверху наблюдает, зрит под собою крутящуюся землю.
Земля и небо. Небо и земля. Надобно было немедленно сделати што-нибудь, и он - крикнул.
Крик!
Птичий крик!
Человечий крик! Зверий рык!
А - Ангелы кричат?! А нежные Херувимы?! А... славнейшие без сравнения Серафимы...
- Никон! Не глаголай неправду! Ты же не враг себе!
Толпа катилась, не останавливалась. Всё ближе, теснее и безвозвратнее притискивала ево к помосту. Приговор, казнь, зрелище. Только почему не он, а Никон, Никон-то чужой стоит на помосте?! Никона будут казнить, а не ево?!
Толпа крутилась, ея водовороты и спирали вспучивались, голоса гудели и сшибалися, и там, за помостом, за спиною другово Никона, он увидал странную, невозможную вещь: громадный железный ящик, а на нём, в виде кургузово сундука, железная пушка, и ствол торчит гусиной шеей; а снизу той громадины шевелятся железные гусеницы, они с лязгом и диким скрежетом наматываются на колёса, и огромный железный короб неуклонно и грозно движется, наплывает, разрезает надвое толпу, люди с криками разбегаются, толпа разваливается в стороны, раскалывается, как раскололось и застыло Чермное море пред войском Моисеевым; он таращился, не верил глазам своим, подумал про себя смятенно: я раб безумия моево... - а за великанским коробом на медленно, дико-хищно вращающихся гусеницах катилися ищо такие же короба, переваливались с боку на бок, яко жирные железные утки, яко раскормленные стальные хрюшки, и шли, и шли, гудели, надвигались, обещая смерть, навевая Адовы сны, не уклониться, не укрыться, не вжаться в землю палым листом, не исчезнуть; только взмыть в небеса птицей... да полно, птица ли он? Стая ли птиц небесных сия крутящаяся непомерной бурей толпа?
Птицы небесные не сеют, не жнут, но сыты бывают, воспомнил он родные крылатые слова, он за ними никогда не чюял боли и скорби, они чюдились ему полными радости, настоящим праздником Господним, Двунадесятым, одним из любимых; когда наступал Покров и на всей родной земле выпадал первый, нежный, тревожный октябрьский снег, он почему-то повторял те словеса про себя, а то и вышёптывал, и они тут же улетали, крылатые Ангелы, и следа не оставляли; и он дивился лёгкому дыханию Священного Писания, не понимал, как буквицы могут становиться биением сердца, а ево сбивчивые удары - летящими птицами; люди не птицы, твердил он себе, люди есть люди, их племя накрепко привязано к земле, - а куда же мы уйдём, канем посля смерти?.. в каковую невозвратную пелену?.. в каковые облачные, грозовые дебри?.. а железные сундуки всё катились, грохот разрывал уши и ту тончайшую смешную оболочку, коя одна и защищала смятенную душу; та оболочка, што она была?.. молитва?.. песня?.. клятва?.. признание в любви?.. я люблю тебя, человече, я люблю Тебя, Боже?.. не разобрать... вдохов-выдохов не различить...
Это на нево, на всех них надвигалось Время, и с ним не справиться было, ево надо было иль принимать, иль отвергать, закрывая глаза и отворачиваясь в молчании и презреньи; человек, обладающий властью, собрал вкруг себя мастеров-кузнецов и приказал им выделать, выковать в диавольных кузнях те страшные короба; подневольные люди, послушные слуги, старательно и мрачно, ни словца не промолвив, исполнили всё, што повелел владыка; и нет, не было объясненья, зачем, для чево идут по земле, давя всё живое, железные аггелы, виверны, единороги и аспиды.
Человек и власть. Власть и человек. Неужто во будущих временах ждёт всё то же? Плыви, плыви, пловец, задыхайся, человече, в намокшем тулупе посреди быстрой холодной реки; сей час пойдеши ко дну, и никакая молитва тебя не спасёт; а што, кто спасёт? Тот, кто имеет власть?
Тот, кто плывет в лодье. Он протянет тебе весло. И по веслу, омоченному ледяною водой, ты вскарабкаешься, мокрый жук, на борт, уцепишься за качливое, ненадёжное древо, что колыхается посреди потока; вот видишь, чюдо есть, а ты не верил в нево.
Смеялся над ним.
Над собою - смеялся!
...толпа крепко прижала ево к помосту, он стал задыхаться, иной Никон глядел на нево по-прежнему сверху вниз, но он, он потерял глазами Никоновы глаза, он в ужасе уставился на железные короба, што шли и шли и шли из-за кровавово окоёма; впору было читать Псалтырь, древляя музыка уже проснулась в нём, обняла ево, и толпа обняла, они обе, музыка и толпа, стискивали ево в смертных объятьях; и тут он на миг вспомнил Настасью, жёнку ево, а потом сразу же - болярыню, несбывшуюся ево небесную жену, супругу ево в Духе Святом; и такою волной весёлого сумасшествия захлестнул ево ея образ, ея радостный, светлый лик! "Все мыслят таково, што вера во Господа - то печаль, повиновение, скорбь безконечная, како на похоронах, како при могиле; а то ж веселие, праздник вечный! Да и Страшный Суд, отче, то праздник! Цветные костры на полнеба! Павлиньи сполохи на пол-Мiра! Костер горит, пепел по ветру летит, а птица Феникс возстаёт, возстаёт! Буквицы, протопоп, ты ж мне сам руку с гусиным пером верно ставил на бумагу, штобы я с молитвою верны буквицы нарисовывала! О, отченька возлюбленный! Я так хочу быть свободна от земной жизни! Ты помолися ко Господу, штобы мне век фиял вина сапфирно-синево, небесново пить! Штобы век праздновати, на весь небосвод, свободу мою!"
Блаженная, она блаженная ево болярыня; и то главное. Как он мог забыть о самом главном? О том, что в Мiре живёт и выживает лишь юродивый Христа ради? А не сам ли он таковый был... Ежели бы вериги кто на нево тяжеленные накрутил, грудь, спину да живот чугунными цепями обмотал - он бы смиренно их носил; и там, на снежку слепящем, сгорбившись, то и дело лоб крестя, молча сидел, и жупел серный, горящий в голой руке, кривя страдальный лик, держал - а потом внезаапу рот открывал и голос возвышал; да, да, он сызмальства мечтал именно так: полуголым, в отрепьях, на снегу, и лицо закинуто к людям, и каждый людской лик - Солнце; а все Солнца катятся мимо; кто понаглей, тот и плюёт в нево; кто посердобольней, тот в ладонь ему монету, пирожок али горбушку суёт. А во Престольный Праздник - глядишь, и пряник печатный. На, пожуй! И жевал бы, и улыбался беззубо, и красной на морозе рукой благословлял мимохожий люд. Взять на себя непосильную ношу! И быть свободным! Ото всех; но не от Бога. Вся служба твоя юродская - Богу; все приношения твои и вознесения, все падения в придорожную грязь и все заоблачные упования - Богу. Он один управляет всем мощным хором бытия. Он... один...
А ты кто такой? Кто ты, кто ты, кто...
Чужой, незнамый Никон шагнул вперед. Железные бочонки на гусеницах, с длинными гусиными стальными шеями, надвинулись, заслонили солнце, снег и свет. Отец! Мать! Жизнь твоя! Зачем-то, за какою-то надобой ты был рождён. Штобы железные чёрные гусеницы - тебя раздавили?!
...он закинул голову выше, ищо выше - и в небесах увидал себя робёнком.
Робёнок шёл по облакам, бежал, останавливался, улыбался, сжимал кулачки, разжимал, бежал опять.
А толпа изменилась; всякий человек в ней, он мог хорошо рассмотреть, был одет не так, как они все пообвыкли, не в обычный тулуп али зипун, не в понёву и кику, а в непонятные тряпицы, таковых он никогда и не видывал: и, однако, все кричали, шептали, гомонили и лопотали знакомо, не звучала речь чужеземца в толпе; колыхался народ, ровно синё море, аки волна на Волге али на Енисее в ветреный суровый, лютый день; и кричал, и плакал, и ревел, и воздыхал по-родному, и, может, иноземцу то было против шерсти, ежели таковой в толпе и затесался; ах, юродивый Вакушка! И юродка жёнка твоя Настасья! И юродка истинная супруга твоя в Духе, Феодосья Прокопьевна! Нет конца-краю, нет предела юродству; благословенно оно; то тишайше, то громоподобно, и какое юродство лучче и чище, никто не скажет; принимай стезю; иди выше, выше, в гору; гляди горе; там - Солнце.
Он хорошо понимал, што во мгновение ока очутился в том времени, коего никто никогда не видел и в нём ищо не живал; а вот он тут, он зрит железные ящики, стальные короба, странные одежды, слышит родимую речь, а в ней там и сям вспыхивают, резкими рубинами и жгучими аметистами в ночной медной скани, никогда не слышанные им реченья; он хочет Бога спросить: Боже, а доколе я здесь буду пребывати?.. навек я тут али на час?.. пошто мне то наказанье?.. али в чём я провинился пред Тобою, мало и плохо молился, лениво паству наставлял?.. да не предал я Тя, яко дрянь Иуда, ни словом ни делом, а поди ж ты, показал Ты мне Мiръ изменённый, Мiръ другой, и дик он глазу моему, и тягостен он дыханью моему и слуху моему; а люди, люди-то, Господи, ведь те же, всё те же...
И не успел он додумать эту думу, как из стальных гусиных шей вылетел огонь, и загремел гром, и небо дымом заволокло.
Он ищо успел увидати, как в густом дыму падают на грязный, притоптанный площадной снег люди, люди; как льётся кровь, крови оказалось нежданно много и щедро, она лилась отовсюду, будьто взрезали вострыми ножами бурдюки с вином али выбили ногами днища из безчисленных бочек; красное лилось, алое булькало и мерцало, озёра вспыхивали кармином, люди лицами падали в кровь, размазывали ея по щекам, орали тяжко и протяжно. Увидал он и то, как чужедальний, непонятный Никон, и лицом-то вроде Никон, а повадками - нет, не он, пошатнулся на пытальном помосте, хотел ухватиться хоть за што-нибудь ослабелыми руками, а вокруг зияла пустота, вспыхивали непонятные выкрики, снег гляделся грязною солью, и льющаяся кровь пахла солью и рыбой, и он подумал судорожно, смутно, почти напоследок: всё в мире солёно, всё горчит и тлеет, а Троица Единосущная, ведь ея среди нас, грешных, нет, она над нами, эх, был бы я Иоанн Златоустый, я б сей же час рот открыл усатый-брадатый, да и запел, заблажил на весь свет, да всё што хочешь завопил бы, хоть Великую Ектенью, хоть из Постной Триоди, хоть из Цветной, а ведь это же война, я же наблюдаю войну, да в Мiре ином, да во времени чужом, вот сподобился, вот к чему привело моё юродство да верность, Господи, Единственному Тебе! Семя веры моея Ты умножил! И вот окунул мя в новую Смуту!
Откуда ни возьмись, на запруженную народом площадь выбежали скоморохи. Пушки, водруженные на железных коробах, выжидали минуту-другую и опять палили. Люди падали, окровавленные. Крики заслоняли небо, втыкались в низко летящие, набрякшие снегом тучи. Скоморохи каталися колесом, непотребно вставали на руки, галчино галдели, размазывали по щекам свекольный сок. Всех убивали, а они прыгали невредимы, как заговорённые. Он сощурился: корявые, бешаные скоморошьи руки медленно, с натугой, выкатывали на площадь огромную, величиною чуть не с купецкую расшиву, чёрную бочку; старый кудлатый, сребрянобородый скоморох пнул ея красным кровавым сафьянным сапогом; бочка разломилась, доски лепестками чёрной адовой нимфеи разошлися в стороны, и, будьто на льду, на белом пруду площади, в окружении вопящей, умирающей зимней толпы из бочки на снег вывалилась немыслимой величины раковина. Перловица? Али заморская? Он глядел пристально: таковые вылавливали в далёких морях и привозили на Русь ганзейские купцы, торговали их на Макарьевской полоумной, многогласо кричащей ярманке. Ближе шагнул. С помоста, где стоял чужеродный Никон, валились наземь расстрелянные люди. Крики усиливались, копьями вонзались в низкий серый ковёр неба. В этакой перловице могли запросто человеки поместиться, како в кошёвке!
И поместились.
Он увидал их. Внутри великанской Раковины. Двух девушек. Нагих. Розовых на морозе телами. Они прикрывались от чужих взоров ладонями и локтями, сутулили спины, но никто, умирая, на красоту их и не взирал, кроме нево, изумлённово, да отчаянно хохочущих на ветру скоморохов. Скоморохи хлопали в ладоши, согреваясь, и глядя на них, от их смеха и хлопков согревался и он. Толпа гибла под выстрелами. Огонь, крики и кровь, и больше ничево не пребывало в мире. Ни в прошлом, ни в будущем. Две голые девушки, юные совсем, жались друг к дружке на пронизывающем до костей ветру, сырость била их в щёки и рёбра, жёсткой серебряной мочалкой во снежной бане безжалостно тёрла им тонкие, тощие спины. Он шагнул ближе. Чюдо: он ищо не был застрелен. Всё, што он видал на земле, чему был свидетелем, всё умирало. Прекращало быть. С этим надобно было али смириться, али противу этово возстать; но как возстанеши против Бога, ведь Он положил предел жизни. А предел любви?
Почему человек ненавидит человека?
Почему люди убивают друг друга?
Он задал себе эти два простых вопроса, и тут же явился пред ним третий, Бог Троицу любит, да самый важный, самый пронзительный и кровавый: где же, где прошёл Великий Раскол? Между любовью и ненавистью. Между болью и радостью. Между надеждой и обречённостью. Между Мiромъ и Мiромъ! Да, человек жесток! Да, он зол и гадок! Но не настолько, штобы разрубить свой Мiръ, в коем он родился, возрос, созрел и достиг чувства Бога, пополам!
Надвое!
Он видел: девушки в Раковине тепло, нежно, отчаянно обнимают друг друга, ищут друг у друга защиты, прижимаются друг к другу, а между их телами, о нет, между душами их, тёплыми, солнечными, боящимися, дрожащими, стрекозиными ли, синичьими, ищо живыми, мерцает, перекатывается и переливается, играет всеми огнями радуги, снеговыми, ледяными, сиреневыми вспышками - Жемчужина.
Ищо шаг. Ближе. Вот бы рядышком разсмотрети. Он таковых великанских перлов не видывал за целую жизнь; ни на Волге, ни на Оке привольной, ни на золотой Суре, где живёт Стерляжий Царь, ни на речушке Сундовике, близ села Григорова, где явился он на свет Божий; ни на брегах холодных рек сибирских; ни на Севере хвойном и вечно молчащем, а зачем ему язык, есть только ели, сосны и пихты, и снега, и торосы, и Белое, цвета варёной трески, ледяное море. Перл сиял, размером со спелую кедровую шишку, а может, с голову младенца; да то не жемчуг, подумал он испуганно и отвёл глаза вбок, то, может статься, живой зверёк, в белый клубок свернулся да спит, колечком скручен, в шар оборотился, а белая шерсть сверкает радужно, вот я и обознался.
***
(што суть война)
Я себе частенько говорю: ты ведь, Аввакуме, не герой, ты всево лишь протопоп, священник ты, и Богу служишь; герои, они другие, герои, они витязи во шлемах, в кольчугах, с копьями наперевес, на конях возседают, в самую гущу битвы бросаются; воюют воины, они герои. А ты, кто такой ты? Вызови на бой ково хочешь, а потом уж и гундось проповеди, посля твоея высокой, навечной гибели. Ведь только в бою герой становится запечатлен на облачной, поднебесной холстине, а потом над убийцами дух ево, што златая птица, вольно летит. А рядом со златым пером - чёрный вран. Ворон норовит глаза мертвеца, коими он на Мiръ взирал, хищно выклевать; защитник земли нашей, ах, ежели бы не горел, не тонул, кровию не истекал живой!.. А я выжил. Убивали мя, а я - выжил! Землю нашу огнями волчьими пожгли вражины. А мы живы осталися! Што есть война? Сшибаются люди лбами, бросаются кони в людскую гущу, гибнет округ всё живое, раскалывается земелька наша надвое, а то и натрое, а то на множество кусков, како хлеб высохший, ломается. Раскол. Раскол. Сердце, звеня от ужаса, раскололось. Какую же любовь надобно иметь тебе, человече, в сердчишке бедном твоём, штобы искупить твой грех! Кто первым меч обоюдоострый поднял и разрубил веру нашу и жизнь нашу? Неужели Никон? Никон, Никитка, малец отчаянный... я ведь с ним на санках, на салазках, живо скользящих, с горы робёнком катился... вот и он сей час предо мной, на мя глядит. А тут и Настасья моя у мя под ногами шарахается, а тут и болярыня моя из-за плеча моево появляется неслышно, и течёт нежной рекою ко мне, душистое, будьто синелевое дыхание ея слышу... Вдруг к Никону обернулась. Да и шепчет ему: ты, Патриарх, не пугайся, мя не убегай, увидь, услышь, я-то ведь и есть твоя возлюбленная смерть. Вижу, у Никона губа дрожит. Как это, болярыня, како может быть: живая баба - и она же смерть? А болярыня моя шепчет: да, может, да. И ко мне лик светлый повернула. И мя очами до кости прожигает. И вдруг смертушкой обратилась: скелетом, костями гремучими; смрадом могильным повеяло. Все мы друг другом оборачиваемся; смерть поворачивается жизнью к нам, жизнь гибелью оборачивается, а я ярким безумным костром обернулся для люда моево будущево, грядущево, который огни округ башки моей метельной, седой зреть будет, а то, што на костре я сам себя во снах моих не раз видал, то не диво; не раз собственные крики истошные, до небес, с кострища тово слыхивал я... проснусь, головою помотаю да и плюну. Дай прикажу сам себе помереть, зряшный Аввакум! Ты, жалкий протопоп, привидится же тебе в ночи такое непотребство. Вставай, поднимайся, подрясник напяливай, рясу нацепляй да иди во храм, даже ежели нету храма, даже ежели вместо храма у тя хлев коровий, сруб отшельничий. Отвернись, болярыня! Не гляди на Никона! Никон тоже зачем-то мне послан. Гляди, как стоит и смотрит, набычась, у, бык мирской, Никон... за ним Царь-Государь, призраком, ветром паутинным колышется, и ты, Настасья, закрой очи твои, не гляди на то, на што глядеть нельзя... помни, настанет время, состаримся мы оба, и побредём по льду широково озера без краёв-берегов, а вокруг тайга, а вокруг кедрач, дети малые наши орут, воины жестокие нас погоняют, прикладами нам в спины тычут... ту парсуну ледовую, суровую ты, болярыня, в твоём сне давненько видала. Да крики робяток моих бедных в том страшном сне слыхала... а не сказала, жёнка моя мя в том сне обнимала, или в том сне ты, болярыня, сама мя утешала... один раз про тот сон мне и поведала, но никогда боле о том видении ночном ты мне не говорила, душенька моя... мя щадила. А и кто я такой, штобы жалостью мя наградить? Ни жалости, ни снисхождения, ни любви не прошу, не требую, лишь пою псалмы свои юродские. Не людям пою, а сам себе. Да ищо Богу. А вот сон, который видел я про тебя, болярыня моя возлюбленная. Вот он-то и сбылся. Увезли тя в розвальнях, и погибла ты, умерла с голоду в глубокой яме, вырытой до самово сердца земли. Вырастали из-под земли крики твои страшные, улетали во небеса и обращалися в кровавые звёзды. И не пришёл я к тебе, настоящий, живой, умирающий в муке мученической, а пришёл к тебе лишь мысленно, во снах моих, опять посреди полночи. Дай прижму тя к груди моей, болярыня! Моя жёнка Анастасия, голубка, прости, прости мя. Тебя я так никогда к себе не прижимал, обнимати тож ведь можно по-всякому, можно ручищами тело обхватывать чужое али родное, да свои телеса, яко шубу, на иное тело накидывати, да сжимать чужую плоть, крепко стискивать, да хруст костей слышати, да поцелуями лик румяный покрывати. А сердцем можно обымать и духом. Объятия духа самые крепкие, их уже никто не может разорвати, а Господь Бог, Господь, Господь-то может разрубить их одним дуновением из уст Своих, одним беглым взором Своим. Он и рубит-жжёт, Он и съединяет-сращивает, Он может всё. А мы, юродиво пав на колени, на животе на холодных досках разпластавшися, молимся и молимся, всё молимся Ему. И нет конца-исхода той отчаянной молитве. То громкой и хриплой, то безумным шепотком рассыпанной, слёзными зёрнами. Чем, протопоп, я отличаюся от скомороха площадново? Да ничем. Я такой же нищий, как скоморох бродячий, я такой же весёлый, безпричинно прыгаю до небес, и жить радостно-захлёбно мне, како и ему, плясуну. И так же я горько плачу, ежели мя плетью кто нагло лизнёт или жгучим словом смертно обидит. Словом можно излечити, а можно и убить, яко ножом вострым. Люди, они часто сами не ведают, што они убийцы. Убийца до гробовой доски верит в то, што он непогрешим! Што правильное дело содеял. Ежели тебе хуже худово - убийца добьёт тебя смертным боем, швырнёт в застенок; како раньше на комара иереев опальных в тайге бросали, так и тя к разлапистой ели навек привяжут; кто власть имеет, тот тобою и распорядится. Значит, главное на свете власть.
Господи Боже мой! Да не есть ли вы все, людие, юродивые-безумные! Вот юродивый на снегу сидит; и безгрешен он, ибо молитвенник он; а я есмь грешник. Ты, роза моя посреди снегов, любезная Феодосия Прокопьевна!.. ты болярыня моя и юродка моя. Ты, Настасья, бедная, несчастная жёнка моя... а и кто же такой юродивый? Не тот ли это Симон Киринеянин, что за Христом Крест, Ему в подмогу, на себе волок по дороге на Голгофу, на Лысую Гору? Путь ищо не был проложён... шли напролом, наобум... Не тот ли это копьеносец Лонгин, што на прободённый бок распятово Христа глядел, а потом как швырнёт копьё своё прочь, да бух!.. как падёт на колена, руки к небу поднимет, да как возопит на весь Мiръ широкий, вечерний, грозовой: Господи! верую! А разве не юродивые скоморохи наши? Я, грешник, вот мечтал-то, уж грешно незнамо как, будьто вина сладкого, романеи упился... о том, как брошу церковь мою, оденусь в рубище, в тряпицы жалкие, лохматые, да побегу на площадь, да увьюсь вдаль за ними, цветнопламенными скоморохами, и буду неистовый бубен трясти в руках, колокольцы зачнут на весь Мiръ звенети, и приплясывать буду умалишённо, ножонки мои жалкие крючить-подымать, лик мой грешный к небесам васильковым, ярким запрокидывать! Да кричать, блажить на весь зимний свет: а смерти не было и нет! Но ведь люди о том же, о том же всегда вопят! Што смерти нет, то и я во храме изрекаю, и я во храме о том посля службы проповедую! Колена люди предо мною преклоняют! А я руки на темечки, на затылки знай кладу, да и шепчу им, сам весь в слезах, лицо всё солёное вперехлёст слезами залито, а льются те слёзы прямёхонько из души: ах, люди, люди мои, знайте, верьте, нет смерти! Смерть, где твоё жало! Ад, где твоя победа! Христос воскрес, и Ангели поют на небеси! Христос-то для меня воскресает каждый день, и всякий Божий день я, грешный Аввакум, справляю Пасху мою! И Пасха моя - то мой ледоход, река сибирская, широкая, страшная, вскрывается во сне по весне, лёд трещит и гремит, льдины торосами встают, горами надвигаются на тебя, грохочут булыжниками, а ты стоишь на берегу и видишь, как играет первая весенняя вода, и как на льдинах тех мимо тебя плывёт весь твой возлюбленный Мiръ: мальцы стоят, за верёвку салазки держа, собаки лают бешано, взахлёб, коровы мычат, гривы лошадей, вороные и золотые, по ветру вьются, и конские хвосты огнями бьются в широкой синеве... Царство синево, упоённово, Богородичново цвета! Лазурита ослепительней, сапфира во иконной скани ярчей! Речная снизу синева, небесная сверху, а мимо мя, грешново, на льдине плывёт храм Божий, а за ним дом плывёт, изба, кому-то сгибшему родная, и уплывает во время, в безвременья широкое море... Куда поплывём? И всем во свой суждённый час колокола поют, звучат, белая колокольня сумасшедшей главой небеса васильковые пронзает... горят купола Пасхи Господней, начищенные, синие со звёздами золотыми, то цвет плаща Богородицы... так всякую минуту, всякий миг жизнь наша синевой небесной насыщается... А вдоль берега - река. Опять синева! Куда ни кинь взор! И глядим мы во грешное зерцало воды, куда глядеть святые отцы не советуют, на лик свой жалкий пялимся, да и видим: он-то стареет, а заместо чахлой плоти всё боле является душа! Лик-то морщинами страшными, инда сетью рыбацкой, покрывается, а душа - молодая!.. душе нашей всегда пятнадцать годков, шестнадцать... отроковица она, наша юная душа... Нет ей старения, нет ей износу, и поёт и плачет она, молодая, жарко и горько, и обнимает она, юница, весь Мiръ, вчера рождённый, пламенный, огни на буграх приречных полыхающие, воду синюю светлую, светло под небом горящую, под Солнцем палящим, под ветром могучим и жадным... Сколь в Мiре красоты, людие!.. и я вижу её, и я люблю её... скоморохи, они поют, а я жадно слушаю их... и прочь с площади широкой иду, возвращаюсь в избу, сбираюся во храм, зимняя трава от избы до храма притоптана... тропа протоптана, проложена не мной - Богом, владыкою души моей и судьбы моей юродивой. Я Бога люблю юродиво, Ему служу... в далёкой мрачной Византии или во первопрестольном граде ходил бы я нагим безумцем по людным, насмешно, глумливо гомонящим улицам, яко Василий, батюшка наш Блаженный, без шкуры соболиной, без шубы медвежьей, без тулупа бараньево... вертелся бы то посолонь, то противусолонь, телеса жалкие, смертные, рёбра костлявые Солнцу и Морозу подставлял... А што есть Мороз? Он есть палач али милостивец? И што есть палач для тово, кто брошен в застенок? Он есть пытальщик наш, мучитель наш безсердечный, али он боль причиняет нам лишь затем, штобы повторили мы подвиг Христа Бога великий, штобы мучение Ево на Кресте вкусили...
***
(письма с войны: дочь пишет убитой матери)
мама я иду держу за руку дедушку одново у нево густая белая борода мы идём в никуда по бездорожью где чертополох лебеда правда когда и по дороге болят мои ноги я спрашиваю деда а когда мы придём в никуда а он отвечает никогда вот в чём беда и я смеюсь это он так смешит меня мама для меня давно уже нет ни ночи ни дня всё в чёрном дыму закоптили рыбу-стекло мама моё время от меня само убежало ушло мама я такая старая как дедушка этот мы уже тыщу лет ходим-ходим по свету а я тебя всё никак не найду в таком шерстяном дыму на хрустальном таком холоду мама мне снился сон ты уже пришла в никуда и у тебя дыра во лбу чёрная звезда мама а дедушка мой слепой у нево глаза ледяные он идёт за судьбой я ево севодня спросила зачем мы идём он сказал: мы идём за огнём люди так тоскуют по нём
***
(детство, время и Байкал: ино ищо побредём)
Всякий из нас, живущих, робёнок. Детству конца нет и краю, и я дитя тож, дитя малое, неразумное... матушку вот вижу яко чрез туман, батюшку. Да разве это так важно, мне их сей же час увидать... их нет давно на свете. А я всё робёнок, хоть возрослым себя чту; хоть мудрым змием, волком матёрым у людей числюся. Много, несчётно людей, толпа безкрайняя глазами на телеса мои глядела, зраками буравящими в душу мою заглядывала, а робёнка, дитятю тамо не узрела. То, што дитя я-то, грешный, видит только Бог; и, значится, Он мой истинный родитель, Он мой отец, и я Ево сын... ересь говорю, тако еле слышно сам себе шепчу. А возвернулси бы я в детство моё, отмотал бы жизнь назад? Да нет, разве ж позволено человеку время вспять бабкиным клубком размотать... мы все идём по лезвию времени, мы живём вне времени, мы понимаем, не умишком жалким, нет, а чем-то иным, неизречённым, што нет времени, мы застываем на краю времени, мы беседуем с болью времени, мы лечим, обвязываем снеговою ветошью страдания времени... подносим времени ко рту нашу ягодную наливку, сладчайшее вино: отпробуй, времячко, глотни нашево вина... жалок кровавово вина в бутыли, в чаше ищущий, а кровушка наша, кровушка моя, кровь дикая, неприручённая помнит всё, она течёт временем, время это кровь... кровь это безвременье, то время, што давно опочило во широких, во глубоких небесах, и спит тамо уж целую вечность. Изыди, сатано, восклицал я в молитвах моих, в мiрах чужедальних, и повисал тот жалкий возглас мой между временем и безвременьем... во времени кто ево услышит? А в безконечности он и так в Божьем зерцале, синем небе, отразится весь, сполна, крик мой, вопль твой, человечек. А во весь рост возставший человек есть время. Наизусть помню Откровение Иоанна Богослова: и небеса совьются в свиток, и времени не будет. Вот пишу, говорю, кричу, шепчу. А кому нужны будут сии письмена за горами времён, за долами годов и веков, за тьмою тем боли? Призрак времени проходит мимо нас, грешных, и уходит в такой неподобный мрак, што не пронзить никаким человечьим взором. Ни дух наш, ни зренье наше, ни воля наша, ни смерть наша те грядущие времена рыболовною сетью не измерит, не зачерпнёт. Неважнецкие мы рыбари; не ловим мы золотую, сребряную рыбу времени; и я тож такой неумеха, и не ведаю, каким смертным путём прохожу во времени и по какому ево краю, по какому острию ево, по лезвию какого ножа ево, ево топора огромадново голыми стопами медленно, како в тягостном сновидении, двигаюсь я. Ищо шаг, ищо маленький шажочек... ступни мои изранены в кровь, кровь течёт, это мои стигматы, это мой ход. Я во времени иду и ноги все изранил, будьто босый по льду Байкала шествую, ветром култуком до пепла сожжён. Жёнка моя за мною ковыляет, еле поспевает, спешит-спотыкается, чуть не кувыркается. Да вопит, вопит на весь Мiръ Сибирский, кедровый-подлунный: погоди-погоди, эй, протопоп!.. оборачиваюсь к ней, да изроняю слово из брадатых-мохнатых уст моих: што, Марковна?.. пошто останавливаешь мя?.. зачем останавливаешь время моё?.. Она мне в спину, укрытую толстым овечьим тулупом, снежки криков своих, воплей своих бабьих бросает, швыряет: долго ли?!.. долго ли!.. долго ли, протопоп, ту страшную муку принимать нам с детьми нашими малыми?! извелась я вся, измучилася!.. сей же час на лёд животом лягу, замру, да так и замёрзну! А вы все идите, бредите, ступайте!.. ваше время ищо не настало, час ваш ищо не пробил! А меня, грешную, на льду озера тово клятово оставьте умирать! Киньте-бросьте мя туточки!.. Долго ли, протопоп, мучение сие принимать?! И тогда остановился я, и престал идти по озёрному толстому льду; слышал душою и видел воспалёнными очами, как подо льдом, в смертельной глубине, в холодной воде ходили медленно, шевелились, тягуче перебирали зимними плавниками могучие страшные рыбы, и подошёл я к Марковне, а она уж на льду валялась, рыдания сотрясали ея изхудалое тело, подняла она лице своё ко мне, и увидал я, што щёки ея ввалились земляными яминами под череп, ох, оголодала бедняжка, последний кусок дитяткам отдавала, истомилася, измучилась в край, и протянул я жёнке моей руку и помог ей встать со льда синево, лазоревово, порошею мелкой присыпанново, исчёрканново полозьями и подбитыми железом сапогами воинскими... шаталась моя Марковна, обнял я ея за плечи и прижал к себе, крепко прижал, будьто вжати ея внутрь себя восхотел, и прижалась она ко мне не како к человеку, к мужу ея живому, а како всё живое, обречённое на смерть, прижимается ко мгновенной жизни и убегающему прочь времени, и прошептал я на ухо жене моей, крепко, железно обняв ея на страшном морозе: до самыя смерти мука та нам, жёнка моя, и воздохнула она, как опосля плача бурново, безумново, захлёбново, таково прерывисто, яко дитя малое, жалкое, на морозе дрожащее, и вымолвила, лице своё близко, яко горячий медный потир с Причастием Святым, поднеся к моему лицу: ну што ж, протопоп, ино ищо побредём.
***
(сумасшествие)
Сумасшедший я... люди безумны тож. Служу вам, людие, всем сердцем, всей своею совестью, голос Господа стараясь услыхать. А мя в темницу бросают, мя батогами побивают, а я всё тружусь да тружусь, лежу да шёпотом молитву читаю, псалмы всё твержу: Боже, услыши, Боже, жалкую молитву мою. Ну не безумец ли я? Стрелы в мя летят, пули свистят надо мною, поворачивается подо мной бок земной всё быстрей и страшней, и не зрю уже мир я от боли. Спасибо, Господь мне ищо речь мою оставляет, и образа Свои на стенах срубовых не сымает, штобы я Ему и Богородице горячо, страстно молился... а про страсти-то это я вам зря лясы точу, рубашку лучче с себя скинь да собрату полумёртвому швырни, штоб он укрылся и согрелся, вот тебе и страсти все. Не помышляй о довольстве, довольствуйся тем, што имеешь; смирись с тем, што слаб и жалок; плачь на коленях в тёмном крысином углу, от рыданий сотрясайся, и у Бога никакой пищи, голодный, не проси, надо будет, пища тебе сама явится, она не исчезнет никуда без Божьево на то соизволения. Да будет Господь тя испытывать и голодом, и холодом; благодари Ево за это. Когда Марковне говорю, што я сумасшедший, а со мною в людском незримом хоре всё дале да безповоротней лишаются ума все на земле живущие, она кладёт руку свою нежную, невесомую, мне на плечо, ровно голубиное крыло, да шепчет: огня Господнево не бойся, Он нас живых поглотить не ищет, Бог не выдаст, уповай на Нево. Улыбаюсь ей, а она мне дальше шёпотом: душу твою Бог чует; помни, Вакушка, ты не зверь таёжный, ты не барс снежный, не медведь черношкурный, а ты человек, и Бог с тобою сотворит, што хочет. А я и спрашиваю ея, тоже шёпотом, нежно: Марковна, а может, я в монахи постригусь? Да и ты, жёнка моя, схиму примешь... гляжу, по лицу ея слёзы мелко-мелко, быстро-быстро так текут, снежно искрятся, будьто лепечут, бормочут што-то торопливо, а што, не разберу... исчезают ткани одежды ея, вязание, шали ея... будьто реет она в воздусях, яко Ангел... и так отвечает мне жёнка моя, Марковна: а кто ж детишек-то поднимать будет? сиротами, што ли, Вакушка глупый мой, хочеши их оставить? не докучай Господу словесами лишними; лучче помолися, молитовка полезна и здравым разсудком, и полоумным дурачкам. Смеюсь я: ах, Настасьюшка, дурачок я у тебя, дурачок и есть!.. и так крепко обнимает она мя, и шепчет, и щекотно шее и уху моему от шёпота ея: Господь ко всем милостив, и к безумцам, и к здоровым, и к болящим, вновь рождённым, и к уходящим навек... терпение, Вакушка, терпение и смирение, вот что нам остаётся!..
Безумец, да, тяжело, людие, скажу я вам. Безумно пишу я, царапаю пером гусиным по серой, ноздреватой яко хлеб бумаге, ломается в пальцах моих птичье перо, из хвоста у гуся острожново выдранное; чернило мёрзнет, руки холодеют, дышу в них ищо горячим, ищо жарким дыханием моим. Нет, не Апостол я Пётр, не Апостол великий Иоанн, што Апокалипсис в назидание, в наущение нам начертал на острове Патмос; жалкий я протопоп, Царём пленённый; сижу во срубе, затерянном в тайге, и зачем ея, жизнь мою, безумец, будущим людям повествую? Так, в подобном безумии и рождается человек; немощный, становится внезаапу сильным и непобедимым; мешают ево сапожищами с землёю, а он из земли вдруг воздымется в зенит, раскроет крылья, яко Ангел Господень, да и полетит, торжествующий. И так мы вечно, всегда, людие, то падаем, то встаём, и кто нас услышит, и кто по нас заплачет? Ангелы?.. они только радость несут, безумцам ли, здравым ли умом. А што есть умные люди? Может статься, и ума никаково нет? А есть только сердце, и бьётся оно ныне, и присно, и во веки веков, и есть только Дух Святый, дух, он реет, где хочет... два сына малых моих умерли, я сам ладил гробики маленькие, сам детей своих мёртвых в те гробы укладывал, сам складывал бездвижные ручонки у них на груди, и было чувство, што я босиком опять по вострым каменьям иду, и траву горькую заместо хлеба жую, и коренье жёсткое зубами, инда лошадь горчащий овёс, перемалываю в слезах... как они мучилися, металися, детки мои, когда умирали, не мог я опосля их похорон есть и пить. Анастасия всё шептала мне: ах, Вакушка, ешь да пей, кто из нас никогда не ел своево хлеба со слезами, да все мы, таково рыдающие, едим наш хлеб и пьём наше питьё, и не будет на земле иначе.
***
(моё больное)
В одиночестве, в уединении, так и лезут в голову мысли о самом больном, о самой муке великой, кою пережил я на земле. И у мя, как у всех людей, были мучители; я не мог убежать от них; они бичевали мя, но не плетями, не розгами, не палками побивали, а словами; душою своей и разумом своим они мя убивали, убить хотели, и словесами жёсткими, острыми, безжалостными втаптывали в грязь; а я, утешая себя, всё шептал себе: ково не втаптывали в грязь, ково не били, ково не истязали... да всех, всех! Нету на земле человека, коево не бичевали, не лупили! Хоть плетью, хоть словами! Словами-то ищо больнее. Иду по улице. А ко мне молодчики подходят да задираются: а, протопоп жалкий, кричат, ну давай-давай, скажи нам проповедь твою о Боге Единосущном, об Исусе сладчайшем! Мы знаем, ты повторяешь не те слова, што предписаны свыше; ты против Царя встаёшь!.. казнить тебя мало, замучить тебя на дыбе пред смертью надобно!.. а потом шепчут мне хитро: ты же всё пишешь, мы знаем, што ты там таковое строчишь, выкрадем из сундука у тебя каракули твои несчастные да направим прямёхонько Царю-батюшке, да как еретика, велит он тебя запутать вервиём да на костёр поволочь! Я смотрю прямо во лице их, спокойно говорю, не возвышаю голос: Господь вам судья, и Господь вас прости, да Он уже вас простил. А я кто такой? Аввакум смиренный, грешный насквозь протопоп; я только исповедь могу принять во храме Божием у вас, ежели ко мне на исповедь притечёте. А они мне в лице хохочут. И много ищо всево было: и за углом мя подстерегали, и смертным боем били, кулак в лицо мне совали, а потом, когда я в сугробе лицом вниз безсильно лежал, а мя по спине да по ногам сапогами чугунными охаживали, слышал я голос: ты, Аввакум, не человек, диаволово ты отродье, казнить тя надобно, да мало тебе Царской казни, мы тебя сами казним, мы тебя уже приговорили, сходи не сходи с ума, тебе всё одно ответ пред нами держать придётся! Лежу во сугробе и задумался крепко, мучимый, побиваемый: пред кем ответ-то мне держать придётся?.. никто, кроме как Бог, не осудит мя! никто, как Бог один, не приговорит! только пред Богом человек держит ответ за всё, што он совершает и што с ним совершается! А вся ложь, всё, што люди бросают друг другу, враг врагу в лицо, опьяняючись гневом, это есть положенная на чёрные знамена и крюки злоба их! не могут люди злобу в себе, инда болячку тайную, держать, они спеть-прокричать ея должны, и сие людей погубит; те, кто со злом борется, те знают, што такое терпение и смирение. А кто не может победить внутри себя зло, тому нет терпения и смирения, а тому есть возстание тёмново, мрачново огня, и возжигается тем огнём душа, испаряется на том огнище сердце, и вот внутренности твои, человек, потроха твои, што Бога Господа назначены чювствовати, сгорели, истлели, и нету внутри тебя живой души, ибо костёр, што жадно пожрал душу твою, не огнь высокой муки во имя всево святово, а костёр диавола, што испепеляет тебя изнутри. Как долго, как много, как часто проповедовал я во храме, опосля службы, о том, штобы люди в душу свою диавола не пускали! Когда крестят тебя, ведь ты же помнишь великие, святые слова: отрицаешься ли сатаны и всех деяний ево? и должен ты плюнуть во сторону сатаны, за плечо твоё, ибо рядом он стоит, диавол, рядом с тобой, и вот-вот в тебя введёт угрюмых бесов своих, одним дуновеньем нашлёт. Сколько людей в целом Мiре одержимы погаными бесами! А сколько же надобно святых целителей, излечити их от страшной, мучительной бесовщины! Могу ли я это сделать с теми, в ково вселился бес ненависти, беру ли я на себя таковую обузу? Да взял я ея на себя, когда восторженно, при хиротонии, принимал на плечи мои сан духовный, и не думал в те поры, людие, што крест сей мне тяжеленный будет, и сан свой, как крест Христов на Голгофу, по всей жизнёшке я потащу на себе, как в живых санях, по судьбе повезу... Люди, когда друг другу зло делают, не думают о том, што будет потом; не помышляют о завтрашнем дне; они не в грядущем живут, а только здесь и сейчас, живут только жалким своим, дрожащим настоящим; они не видят время, слепцы они пред временем. А кто зрячий? Ужели я зряч? Ужели я врач? Ужели безумец может уврачевать безумных? Неужто Господь избрал лишь мя одново для тово, штобы исцелить смертельно больных, помолиться за недужных, обвязать целебными тряпицами исходящих последней кровью?
***
(до судьбы)
Ты мальчик мой, ручонка твоя потная, горячая, сожму ея и плачу, плачу. Ты на полшага впереди, я за тобой; во облацех над нами Ангел со трубой, трубит он ясно, ярко, чисто, далеко... и льётся, льётся облак золотое молоко... Иди! Иди! Я за тобой. Иди, да ты и зрячий как слепой, так лёгок шаг, так ход твой невесом, ступай, катись живым счастливым колесом... Я за тобой! За нежною судьбой. Пришла война, и завтра грянет страшный бой, бесстрашный бой, безсмертный бой: застынет стон последний над губой... Иди! Веди мя! Меж кровавых, мёртвых тел! Меж пламени, железа! Ты, пострел, последний Ангел исчезающей земли... ты о последней жизни Бога умоли... Ты мальчик мой! Тебя я родила, когда, забыла, а, когда сожгли дотла, разбилась миска на краю стола, и навалилась мгла... Тебя я родила... лежу, молчу... века идут передо мной... затеплил кто свечу... в крови, слезах, измята простыня... сюда огня, огня... о, сколько лиц, людей... и всё идут, идут... их дети за руку ведут, ведут... всё мимо, мимо... поперёк, повдоль... слезами, кровью залита юдоль... ты мальчик мой... так вырос ты с тех пор... ты сам костёр... гори, пылай, иди, веди, люби... шепни мне, далеко ли до судьбы...
***
(кровь и Время)
Муки Христовы повторить для тебя... мучения повторить, страдания Бога твоево повторить, кровь, што лилась из прободённых рук Ево и ступней Ево... кровь, время, время, кровь, с ума схожу, но вижу, как небо всё, сплошь, широкими мазками, не богомазами, не яичною темперой!.. кровью расписано, будьто ветер, што бьёт в лицо, то не ветер, а потоки крови, и швыряет Бог ту кровь на небеса, под облака, под тучи, замазывает красным крыши, заливает землю, озёра и тайгу, и вместо воды в реках холодных - горячая, дымящаяся на морозе кровь течёт... воистину с ума спятил я! Всё движется к своему концу, а может, ко всеобщему сумасшествию, а может, ко всеобщему искуплению; чем искупим все мои грехи? своей кровью, новой кровью?.. сколько же крови должно ищо пролиться, штобы мы от грехов старых и вчерашних насквозь очистились, стали перед Богом яко наг, яко благ, яко несть ничево... благие, ах! пророками стать хотите?! не получится! пророк, за счастье видеть время - своей жаркой кровью плати! Пророк Езекииль воздымал ко звёздным ярким, ослепительным полночным небесам страсть свою и желание своё, и извлекал из мохнатых страшных уст своих то, што смертному услышать нельзя было. А кто за ним то пророчество записал? Неужто писец за ним украдливо ходил по пятам, и восковую дощечку, пергамент ли, папирус ли таскал да в железные словеса отливал те безумные вопли, те страшные хриплые крики? Да разве можно сумасшествие записать, людие? ево можно только испытати, ево можно лишь пережить, переплыть, и кровь по капле отдать, али себя мечом разсечь, али дать на войне шкуру свою прострелить, и рану ту, навылет пулей прошитую, уже никакой Бог не вылечит. Ты должен кровь свою Мiру во славу пролить, пусть она в землю наяву, како во сне, впитается, поутру выпадет красной росой... Пусть из нея, из кровушки твоея, из той земли, окровавленной, красной, деревья и травы новаго Эдема поднимутся, новый Райский Сад восшумит под ветром, под солнцем палящим, под небом зовущим... А ты? ты, кто отдал Мiру жаркую кровушку твою, отдал новому Райскому Саду, Богу, што улыбается нежданной, сужденной смерти твоей, ты, жалкий Аввакум?.. на Страшном Суде воскреснешь! не считай себя, червь, пророком! никакой ты не пророк! мысленно играеши ты на арфе, бред безумной глоткою хрипишь, ударяешь пальцами по струнам, щиплешь жилы золотые, медные и железные, конские и воловьи, повторяешь ты Царя Давыда, зерцалом души своея ево отражаеши... Ну каков же ты жалкий огарок, Аввакуме! Царь Давыд певец Великий, пророк Звёздный, а ты просто можешь спеть-прохрипеть твою песню пред тем, как вся кровь из тебя истечёт, до капли, и в твою родную землю вольётся, в таёжную почву, иглами елей и кедров сплошь покрытую, обнимет кровушка твоя корни грибов и ягод, ляжет под ноги волку, ляжет под когти медведя, и осторожно прольётся под нежные лапы лисы с рыжим солнечным хвостом... зверьё твоё, белорыбица твоя в реках плещется, реки кипят от рыбного изобилия, да не учюдить уж тебе, жалкий Аввакуме, чюдесный лов рыбы, не повторишь ты Господа твоево, лишь заплачеши кровавыми слезами, кровью возрыдаеши над тем, чево не будет никогда. Да, никогда! не желай, человек, што-либо повторить нечеловеческое; не Божий ты бич, о нет, ты лишь человек, сухой лист на ветру, и человечье лишь повторяй, повторяй... счастье ведь в том, што ты повторяешь святое, што ты повторяешь себя сам, потому утреннее правило и вечерние молитвы с тобою каждодневно одни и те же, да голос твой розный, то ясный, то хриплый; хрипло выпеваешь ты древлие мотивы, выходит всякий раз по-иному, да опять повторяй ход твой по земле, повторяй бой часов; так повторяет кукушка в тайге свой тоскливый одинокий крик. Кукушка, кукушка, сколь годов бедному Вакушке ищо жить?.. накукуй мне тысящу лет! хочу жити, како древний пророк... они все, пророки, безсмертны. Но ведь и они когда-то, час пробил, преставились. Всяк ушёл с лика земли, окромя Господа. Смерти не отвергнеши, от смерти не отвертишься, костёр горит, всё вижу огонь, жмурюсь, а никуда от огня уже не спрятаться.
***
(Псалтырь и Федосья-пророчица)
Всё на свете Псалтырью звучит и Псалтырью становится; всякое, нас старшее, незримо летает над нами, а мы мыслию древность ловим, и мысленно мы врагу не зла, а добра желаем. Так Царь Давыд днесь игрывал на арфочке своей злобному Царю Саулу, и музыка чюдная птицею летала-кружилася округ патлатой башки страшново Саула, умиротворяла ево и утешала. Так и любому человеку живущему помогает милая музыка. Умиротворяет ево, да, утешает. В болезнях да испытаниях ему помогает. Музыка есть великая поддержка духу и душе живой. Словесами я музыку мою записываю, а Псалтырь моя звенит и звучит то грозою над полями, то цветочною радугой. Моя Триодь то Постная, то Цветная! древность просвечивает сквозь дегтярную толщу годов и столетий, а будущность мерцает сквозь наши нынешние слёзы. Где Время?.. и опять время; опять оно надо мною крыла простирает. Што есть моё прошедшее, што есть моё настоящее? што будет моё будущее? Прошлого нет; нынешнее уныло, тяжко, а будущее кто прочитает? ево только обнять безраздельно, широко и больно, только заплакать мы можем по нём. Только возрождать голос свой, безконечный, длинный крик; да так вопить, штобы Архангелы за тучами услышали, штобы Херувимы и Серафимы задрожали и крыла во всю ширь распахнули, нас от гнева Господня защищая. Вижу, вижу, всё будет ужасом полно, ужасом и неизбежным отчаяньем. Будут глад, мор и землетрясения по местам. Глад!.. то понятно; разве не переживали мы, людие, невозможный глад в неурожайный год? Ну, мор, с ним всё ясно, нападёт болезнь лютая, подомнёт под себя, истопчет, руки вывернет, за спину заломит, и на дыбе Вселенсково жара тово сгоришь ты, и кострища тебе не надобно. А чем мы все больны, любимичи мои? Да мы же все больны безлюбьем! мы все больны неверием! а превыше всево мы все больны ложью, враньём великим. Страждем несносимо! Ложь губит нас; ложь наши мысли чистые, светлые, святые извращает, ломает, дёгтем замазывает, како распутную девку, штобы все, кто ни попадя, плевали в нея, а то белит и румянит, штобы выдать замуж, штоб ея, перестарка, в семью подобрали, ложь, она такова, и неважно, кто лжёт беззастенчиво, кто боярин, а кто смерд, кто Царь, а кто холоп, всех ложь в один вонючий стог сгребёт, всем несчастным, оболганным клеймо на лоб, плечо и руку влепит. Откровение Иоанна Богослова! Всё до капельки там записано, до словечушка! Вот оно какое: не печать, што кожу человеческую насквозь прожигает, и волдырь вздувается, а печатка лжи, от коей душа чернеет, дух огнём возгорается, тает на Адовом, чёрном огне том и говорит, стеная: неужто пепел заместо нас, заместо любви живой всю землю покрывает? Неужели грянет последняя в жизни война? Мы, все люди, сию последнюю в жизни войну то и дело опасно, дико призываем. А зачем мы зовём ея?.. ведь после нея, может статься, и людей на земельке никовошеньки не останется. Болярыня моя Феодосия Прокопьевна тако мне говаривала: последняя борьба, то не борьба последняя, борьба не победа, да нет там, знай, навечново торжества, и нет там, вдали, навечново прощения. И нет там победы, нету праздника там, ни человеческово, ни Божиево, а есть только слёзы великия, только слёзы есть, льются и льются, да не человек их будет рождать, не человек их будет, бык мирской, ослепший, точить, а сам Господь Бог над нами, мертвецами невольными, восплачет; а я болярыню и спрашиваю: как это ты, Федосья Прокопьевна, узрела те события в дали веков, в толще времён? Ужели ты, смертная баба, можеши читать время по слогам? Она тихо, молча усмехается да так на мя смотрит, глазищами насквозь мя прожигает, до костей, до дна души, до облаков тово баснословново времени, што встаёт, огромное, безликое, за моею спиной, а потом губы ея дрогнули, и тихо, тише воды, ниже травы она промолвила: я вижу, батюшко, вижу и ничево с тем поделати не могу, рада бы не видеть, не раз у Господа просила, штобы забрал Он от меня тот тяжкий, да, тот чугунный тайнозренья крест. Зачем я зрю всё сущее, и даже то, чево нетути ищо на земле? и не смогу избавитися от зренья сево до самые смерти моея. И так я Господа, батюшко, прошу: забери от мя мою жизнь, не могу я жить, видя всё насквозь... зрю сквозь моря, окияны, линзы озёр, сквозь кровеносные токи, сквозь частокол сосен в тайге, инда скелеты, кровью обмазанные; зрю всё, што было, есть и будет, сквозь грозы и ливни, сквозь причитания свадебные, восхваления хороводные... возьми навеки от меня дар сей, ибо дар Твой казнию мне стал лютою! Вот тако же, протопоп, и я молюсь, и ты, протопоп, помолись за меня днями, ночами, поутру и ввечеру; отврати лице твоё от жены твоей, тихо встань с ложа твоево в ночной рубахе, подойди к образам, ко твоему киоту, преклони колена и поднеси двуперстие ко лбу твоему. Таково крепко натопил ты печь на ночь, штобы вам с протопопицей не замерзнути, штобы тепло у вас в избе густыми сладкими сливками разливалося, и я велела все печи с изразцами растопить в доме моём! Жар полыхает от изразцов, разсматриваю я узоры на тех изразцах, вот жар-птицы золотые, вот белорыбицы со загадочными письменами на перламутровой чешуе, на других изразцах орлы синие, цвета грозы, на третьих волки серые и лисы рыжие бегут, а куда они бегут?.. на широкую площадь! А на широкой площади стоит мужик в колпаке с бубенцами, и высоко над головою бубен поднимает, и в бубен больно, жарко, часто бьёт! Глядишь, так кулаком могутным и сам бубен ненароком убьёт! А ты? Может, ты и есть живой бубен? И в тебя надобно всё бить, бить? Художник ли ты, грешник ли, пророк ли, юродивый - всё одно забьют тя камнями, батогами, сапогами. Зачем на изразце малом, величиною со створку перловицы, ты скомороха намалевал? На соблазн или на радость?
***
(солнечный луч)
Девочка, ты чья? Ох, да не моя! Охти мне, из небылья вынырнула рыбкою-уклейкой, выкатилась медною копейкой... Девочка, ты чья? Имени твоево не знаю я! Назови себя богато, назови себя нище... ветер в ушах моих воет и свищет... Девочка, ты чья? Луч солнечный летит быстрей копья! Златой нимб округ Нерукотворнаго Спаса, ясные очи превыше смертново часа... За руку мя взяла да за собою повела! И увела, и увела... и лишь шептала: сгоришь, сгоришь дотла... А я в ответ: сгорю, лишь рядом будь... А она мне: пустимся в путь... А я ей: на краю бытия... Дитя моё!.. девочка, ты чья?..
***
(Дева, как ея имя...)
Мир постепенно раскалывается на подделку и на истину, на войну и на Мiръ, на вражду и любовь, на текучую кровь и сухую ветку, на здоровье и на хворь неизлечимую, и сам миг, самоё великую загадку Раскола мы не поймали... не поняли, когда же вострубила беда, когда заблажил на все небеса последний набат, ужас Вселенной. Што же с Русью сделали? зачем она сама, смиренно, легла на заклание? Зачем обрекла себя на жертву кровавую? может быть, выживу, думает мучимый человек; а земля, родная земля, што она помышляет? Земля может мыслить, да. Земля может рыдать и смеяться. Она яко человек. Она яко Бог! Мы сей же час во тьме плывём; переплываем окиянище страха, тёмное море ужаса. Страшный, вон он, вон; кто же это предо мной, там, в углу, под образами, под святыми моими иконами?.. не различаю лицо... но только вижу...
Нет!.. то не ужас довременный. Господи, как же смертию безконечною нас измучили, напугали!
Дева, зрю... и тишина стоит округ, молоком в подойнике, и Дева стоит, тихо дышит, во длинных одеждах, то ли понёва, а то ли сарафан, а то ли праздничная юбка, штобы спеть псалом да кинуть косу на плечо, да пойти широким шагом на сенокос, посреди жаркого июля... Настасьюшка, кричу хрипло, Настасья, ты ли это?! молчит, рот на замок, виду не показывает, што мя слышит. Федосьюшка, кричу, Феодосия, Феодосья Прокопьевна, болярыня моя, што притворилася тут, притулилась?.. вижу плечи твои угловатые да прямую жёсткую, сосновою доскою, спину, а што же лик твой от мя, столь любящево тебя, отворачиваешь? Молчишь? Пошто так? Подхожу, трогаю тихо Деву за плечо, и вот, когда прикоснулся я к ней, тогда и повернулась. А по лицу ея слёзы текут красные, коралловые, кровью плачет она, зажала рот ладонью, я назад отступил, гляжу в ужасе, во дрожи, не могу отвести глаз от нежново лика, кровью залитово. А уж прекрасна она, яко сама Богородица. Кто ты, вопрошаю, зачем ты здесь, какой ты мне знак подаёшь? Знаю ли я имя твоё? Не разгадаю судьбу твою! Как ты сюда, ко мне, попала? ведь дверь-то на замок амбарный закрыта! И только я скумекал, грешный, што дверь изнутри замкнута, как дрогнули губы Девы, через силу, через красные слёзы улыбнулась она нежной, любящей улыбкой. А я, говорит, из будущево, батюшко, к тебе пришла. Из каково таково будущево, вопрошаю ея, где то будущее зарыто, в каком сундуке оно хранится, крышку мы тово сундука не откинем до поры, ея только ветер Божий поднимет и отшвырнёт. И вот жду от нея ответа, ответа всё нет и нет, медлит с ответом она, ожидание невыносимо, не снесу лютой муки, не могу боле ждать, тяну обе руки к ней, хватаю Деву за плечи и встряхиваю, навроде как грушу иль яблоню, на коей по осени поспели крупные плоды, и кричу: так! ну што молчишь! ответ Твой где! где то грядущее! где прячется! как ты там живёшь! што делаешь! кому песни поёшь! ково любишь! Ково ненавидиши, с кем воюешь, ково прощаешь, а ищо имя назови мне твоё, имя, штобы и я тя тоже по имени, Дева, называл, ничево на белом свете нету безымянново, у всево имечко своё, у всево знак свой, буквица своя, все лепечут, кричат, визжат, молчат, но слышно, слышно всегда имя, имя то слово Божие, а имя Божие - наше слово есть. Откройся мне! не таись от мя!
И задрожали и сдвинулись времена, тронулись с места, како дощеник наш, посреди реки утонувший, значит, зачем-то это надо, Господи, а мы, люди, лишь разгадываем времени загадки, как не хочется умирать, Дева, девочка моя, как хочется жить, дожить до глубокой старости лет, и штобы счастье али горе снова и снова крепко обнимали тебя, да всё равно, счастье, горе, лишь бы жизнь, лишь бы жить, тебе - жить, увечному, слепому, хромому, глухому, калечному, жалкому, болезному, нищему, а только выжить, только бы длиться и длиться жизни, эй, подай мне знак, Дева, скажи мне имя! Перси ея подошли тестом на опаре, вдох глубокий, хрип ея дыханья слышу, она воздела руки и, как и я ей, положила мне руки на плечи. Аввакум, я имя твоё знаю, шепнула мне, а ты моё не узнаешь вовек. Называй меня тысящью тысящ имён, песни мне пой, радуйся вместе со мной и проклинай со мною вместе. Ты волен надо мной, а не я над тобой, ты лепишь мыслью, выдыхаешь из груди, из-под рёбер, твоё будущее, я, батюшко Аввакум, и есмь твоё будущее, я зрю тебя сквозь века. А тебе севодня довелося увидеть мя, так свиделись мы, радуйся! Оченьки от мя отведи, за мною пристально не следи.
Сунула руку свою за пазуху себе и вытащила маленьково, румяново, в печи спечённово святочново жавороночка.
Протянула мне на ладони да колядку весело запела: ах ты Вакушка, Вакушка, ты мой родный батюшка! Давай мену мне, давай, во имя Христа Бога вина наливай! Рюмку-рюмочку подноси, вишь, звезда на небеси! Я те жавороночка, ты мне Христа робёночка! Со Христом колядовать пойду, в небеси видать звезду! Жавороночка возьми да мя покрепче обойми! Ночка звёздная, звёздная, морозная!
Я молча взял у нея из тёплой нежной руки сдобново жавороночка. Настасья моя таких же птичек детишкам нашим завсегда пекла. И на Рожество, и на Пасху, и на Святки, и на Троицу Единосущную.
Зачем человек живёт на земле? Никто не знает, я бормочу. Отчего никто не знает, батюшко ты мой? знает только Господь. Но если бы мы, все люди, стали вдруг Единым Господом, Он вобрал бы все наши жизни людские в грудь Свою живую, живым Солнцем горящую, и глаза всех стали бы Ево глазами, и Ево глазами мы бы глядели друг на друга, и сжал бы Он нас всех, как тьмы тем пальцев, во Свой кулак, и подъял бы тот кулак над Мiромъ, надо всеми звездами и небесными планетами, возсиял бы Он надо всеми нами ярче январской звезды, пёсьево Сириуса, ярче адамаса Чингисханова, ослепительней яхонта Мономахова, и каждый бы, слышишь, каждый знал своё имя, но не знал, как другово, родново, зовут.
***
(Жена, облеченная в Солнце)
И говорит мне Дева: я тебе сей час, батюшко Аввакуме, покажу то, што ты желаешь видеть, што оком твоим внутренним уж видал не раз, к себе пропозицию сию не раз призывал: гляди же!
И повела в воздухе избы нежной рукой, а рука-то бела, мягка, прозрачна, яко крин озёрный, и странно, сугробами под Луною, заискрились образа, и словно бы послышалися в полутьме сладчайшие звуки, пенье заутрени ли, вечерни, и узрел я, как под звёздными небесами снежные безкрайние платы адамантами искрятся, и как нивы золотисто, сытно клонятся к землице колосом густым; и дожди узрел, серебряные ливни, стеной вставали предо мной, яко стены Царских палат; и за снегами, дождями увидал я, как с Девой той мы рука об руку, как жених со невестой во храме, стоим, а округ нас - и Настасьюшка, венчанная жёнка моя, и болярыня Федосья Прокопьевна, душа возлюбленная моя; и Никон Патриарх, ретивый малец Никитка, шабёр мой, с коим с гор в салазках каталися да во сугробищах кувыркалися, а опосля зачал он гнать мя, гнать люто, страшно, мне на моей любимой землице не Рай, а подлинный Ад созидая; и за Никоном - сам Царь-Государь, сам Алексей Михайлыч собственной персоной, молчаньем грозен, в молчаньи живьём погребён; и знаю я, грешный, чую душенькой трепещущей, што я должен всех понять, всех простить, всех умиротворить, всех сердцем обнять. И стою, молчу. Ничево не хочу. Ни зреть, ни слышать. Ничево! Понимаю: худо это. Худо! Надо пасть разверзнуть да слово из себя вытолкнуть в Мiръ!
Озираю избу: ба, да тут все, кто мя бил и гнал, кто ко мне лепестком ромашковым али листом кленовым по осени приникал; кто коварство мне изъявлял, кто пагубы творил, а кто милость в горсти, яко кусочек хлебца насущного, нёс. Ничево не зрю от слёз! И Пашков тут валандается, коий мя лупил почём зря; и иные терзатели мои; а на рожах у всех, прежде злых таковых, начертана лишь мольба о прощении, о великом, Вселенском, всепрощении. О прощеньи - моём! Да я што, шепчу им всем зараз, да я ж вас, людие вы разнесчастные, я-то вас всех, скопом, давно-предавно да навеки простил! А вы-то страдаете! Вы-то жалитесь!
Господи, кто там, кто там... кто же там, за плечом у моей бедняжечки Настасьюшки...
Будьто дуновение ветра пронеслось пред лицом, и увидал я далёко, в углу избы, а ровно на краю поля, на краю леса, на краю земли... на краю жизни... иную Жену. На главе у нея русой, гладко, лунно причёсанной, звёздный венец пылает. Я звёзды зачал считати. Счёл все до единой. Вышло - двенадцать. По числу Апостолов святых, смекаю, да значит, Жена-то не простая! Одеянье сверкает, златошвейками расшито. Стоит, не шелохнется. Перевел я взор мой вниз. И, Господи!.. вот ужас-то где!.. вместо половиц - бездна. Разверзлася, и все люди мои, и вражины, и многажды возлюбленные, яко на льдине, над ней стоят!
А там... подо льдом прозрачным... гады морские, чюдовища речные, каракатицы ползучие... пошевеливаются, всё ближе ко льдяной корке подымаются, подвигаются... а ну как сей же час вспучатся, и пробьют ужасом кромешным тонкий морозный покров... и сгибнут все люди мои, сгибнут, как пить дать, но вот же, вот стоят, и лёд непрочный держит их, качает на себе их, и праведных, и грешных, и што мне-то делать, не знаю, то ли спасать их всех бросаться, со льдины той стаскивати, то ли поняти раз и навсегда: видение то, безумное видение, ибо аз есмь, грешный протопоп, како был безумным, тако безумным и остался!
Дымная, рваная рана Раскола. Тихо у мя на душе. Пусто и голо. И тьма во Звёздном Ковше. Нет ничево на земле, што не жаль покидать. Всех жаль; обо всех боль; в том и благодать.
И зрю - под русою косой у той Девы, со Звёздным Венцом на лбу, жаркое Солнце горит костром; и в огне вижу, вижу мою судьбу. Снова вижу! Дым великий! Кости крыжа! Тише, голубка, тише... трещит, раскололась надвое, избяная крыша... Судьбу не прочитать по тяжёлым слогам... МНЕ ОТМЩЕНИЕ ГОСПОДЬ МОЙ И АЗЪ ВОЗДАМЪ.
Гнев странен, и милость странна. Ничево нельзя объяснить. Вяжется, вяжется тонкая крепкая нить. Нам дано всё помнить и всё забыть. Даже тово, кто в чаше уксус протянет, когда возмолишься: пить...
Солнце, Солнце под густою косою! Я не один, нас нынче двое! Все люди мои, ково любил, с кем дрался, кем наслаждался, с кем, аки бык мирской, бодался, все смиренно стоят, а одна лишь Жена, облеченная в Солнце, на мя дерзко глядит, и такой ея праздничный вид! И што силится она вымолвить мне - не ведаю... зрю: Солнце над нею горит, и вся она стоит в огне...
И вижу, вижу, да глазам не верю: печалится, печалится обо мне...
Изречь бы мне словцо какое. Да нет, нету слов под рукою. Государева корона сияет больно и чисто. Наибольший самоцвет в ней - во лбу: сапфир небесный, лучистый.
Што бы вымолвить ему... што бы сказати...
А на языке всё вертятся словеса проклятий...
Их мне, грешному Аввакуму, в морду волчью швыряли... и читал я судьбу мою по складам - по голодных ворон письменам - на разстеленном на века, снеговом одеяле...
Стою и жду, когда Царь-Государь мне прикажет всех веселить, прыгать в небеса скомороха не хуже. А может, напротив, велит молчать, уста на замок, не стони, не рыдай зазря, друже. И я, растерявшись, стою; не бормочу, не пою; молчу свечой в паникадиле людском, слезами медленно на шею и плечи стекаю; и припомнил, как на Печатном дворе Книги святые украдкою, зубы сцепивши, на старое правило правил, да тогда Господь мя не оставил, а куда Время кануло то, не ведаю, ох, не знаю...
Московская ли жисть, сибирская ли, всё одно умрём... Чем себя от хвори охранить?.. да вот, хлебаю боярышник с имбирём... Сибирь, жимолость, имбирь, корни женьшеня живоносново... читай, Вакушка, ночами чти святые Книги, узоры неведомых буквиц кружевные и грозные... Жизнь сминается бабьим платом, заткнутым в торбу; ты всево лишь на тулупчике Бога седая заплата, шерсти таёжной волчиная морда... Ягода, ягода кровью опять течёт, потоками в разверстое Время стекает - жизнь живая, святая между вехами мёртвыми, меж по молитве оживающими веками...
Сколь я видал всево! Сколь чудесам земным дивился! С гор клубком волчьим катился, да вот ничуть не разбился... Миловал Бог, взошёл на порог, руки ко мне, грешному Вакушке, исхудалые тянет - напоследок обнять, и Ему исполать, и молиться сердце Ему не престанет...
А Никон? Кто ж ты такой, еретик? А ты мя еретиком обзываешь. И я уж не спорю с тобой: легче смириться с приговорённой судьбой, легче жить в Мiре так, будьто не горячая вера наша, не живущая, не живая. И написал я письмецо Царю! Што старая вера в небеси восходит, затмевая зарю! И сколь не гони ея, не охаживай батогами - она для Руси - самоцвет един, и старый Бог наш Исус - народу всему господин, хоть прямо, насквозь нея ходи, хоть округ ея топчися волчьими кругами! Нету жизни без веры! Без любви - нет! Батюшка, подъяв руки, кричит: слава Тебе, показавшему нам Свет! Вот и решай, приговорённый к смерти, што для тя весомей, важнее. Жизнь, великая жизнь! За нея когтями волчьими - держись... За нея молись, разпластайся в кровавых слезах пред нею...
И осторожно, нежно обнял я Деву мою.
И так стояли мы оба у Бытия на краю, и чево ждали, сказать не могу, не умею, да и не буду; сие, людие, была просто жизнь, и мы друг дружке в ней шептали нежное, тайное: друг, держись, ведь тому, што мы есть на Божием Свете, с благодарностью Богу молись, одно это, слышишь, лишь это одно уже великое чюдо.
***
(живая заплата)
мама завтра будет самый большой бой в нашем веке а который век наш я уже запуталась мама я не верю что мы человеки и человеки мы две росписи под куполами храма и храма мы два колокола на колокольне и колокольне и два звонаря в нас слепых чугунных колотят колотят а нам страшно железно нам медно и больно мы гудим над кровью мы плачем в полёте мама тебе там хорошо так мирно спокойно я бы хотела умереть как ты да на всё Божья воля мама на земле никогда не кончатся войны а на небесах ни выстрелов ни крови ни боли я гляжу на небо мама и там глаза твои вижу они такие весёлые что даже странно ты наклонись оттуда мама ближе ближе нет то не глаза то слепая открытая рана и я кричу я воплю на весь Мiръ проклятый на всю землю на все небеса пьяные от гнева поставьте мя на последнюю войну живой заплатой Господи Боже мой и Ты Богородице Дево
***
(Аввакум и Никон, разговор)
Да вот он ночью ко мне и вошёл, в рясе простой, яко бедный чернец, монах. Я указал: садись за стол, будем вечерять; он сел. Я сначала накормил ево, пироги жёнка пекла, вино ягодное в бутыли темнело, капуста квашеная мятым жёлтым кружевом в миске разлеглася, разрезали ногу свиную копчёную, я вопросил ево: и што же ты, Никон, Никитка ты жалкий, ко мне пожаловал? приласкать мя хочешь али поспорить со мною? Поспорить, ответил он тихо, усы и бороду от еды утерев, поспорить-повздорить, ну, ты ведаешь, об чём речь вести стану. Всё об том, о главном. Как вот ты крестишься, разнесчастный Вакушка? пятью перстами, четырьмя, аки диавол-насмешник, тремя али двумя? Како наши отцы, деды и прадеды крестились, како праотцы наши молились, тако и я, грешный, крещуся, ответил я и медленно, глядя прямо во зрачки Никону, перекрестился. Посмотрел Никон на мя искоса, так бык мирской на корову исподлобья, мрачно да тяжко глядит; на миг помстилося мне, што Никон есть настоящий бык, и на скотный двор я ево должон отвести, обмотав ему мощную выю верёвкой. Што же ты балакаешь, горемычный ты человечек, воспомни всю толщу времён! Вот тебе двуперстие святое. И вот, налагаю на мя двуперстием Крест святый. Ведь так крестилися, именно тако, не иначе, а ты вот не ответствуешь мне; ты чуешь, как твоя кровь в тебе течёт? Он воззрился на мя, глазищи, инда сова, округлил: не чую. А зачем это чуять? А затем, ответствую, штобы ты Время из черепа отца твоево испил; тебе лишь мстится-блазнится, што ты из телес да костей скрипучих состоишь. А ты весь пропитан кровью, как хлеб вином Причастия, и разрубить тя топором али мечом надвое - вся твоя кровушка быстро вон вытечет, и Господь будет на это глядеть с небес, и душа твоя, из тела излетев, будет взирати на разрубленную плоть твою и плакать в небесех, и печалиться. Стой, Аввакум! А зачем ты мне это говоришь? А затем, друже, так отвечаю ему, што во крови нашей то Крещение течёт, во крови нашей та древляя, вечная молитва наша струится. А мы? Пошто мы скрещаем копья, сжимаем в кулаках мечи и секиры, штобы убить, опять убить друг друга... да за што? за што, Никитка?! за ересь?! Какова же тут ересь, ежели мы праотцев наших наследуем?! А што такое ересь, Вакушка, хитро так вопросил мя. И опять из-подо лба глазами ворочает, выкатил буркалы, пытается зрачками-крючьями мя подцепить, да не за рёбра, не за шею, не за щеку - за душу дрожащую, трепещущую яко на ветру. Никон! Никон! Ежели бы ты чуял время тако же, как текущую кровь в себе, ты бы не делал тово, што сделал! Пошто ты Руси Раскол сотворил?! По кой надвое нас всех разрубил, а мы с тобою, Никитка, ведь были соседи, шабры, ты помнишь, мы с зимней горки на салазках катались! А в снегу голубом, синем, инда алмазном, кувыркалися, то лупили друг дружку, то обнимались! И пошто ты нашу детскую дружбу похерил! Пошто ты детство наше на костре пожёг! Сжёг ты, Никитка, в пепел всю радость нашу! Да, кровь льётся по всея Руси, то ты сотворил, Никон несчастный! Плачь! Кровь и душу, вот ты што потерял! А ты не Патриарх, нет, ты дитёнок неразумный, заблудился ты, Никон, овца ты заблудшая, душонка погибшая, ко Христу Богу припади, ко Ево ступням кровавым, на колени опустися да воскричи так: прости мя, прости, Господи Боже мой, за всё, што содействовал я грешново! Покрещуся, како крестился отец мой, дед мой, прадед мой и все предки мои! так и я крещусь, и по-иному не буду, хоть ты заломай мя, яко белую берёзу, хоть ты сожги мя в печи иль на широкой площади, мне всё равно! мне... всё... равно... Помолчал тут Никон, закрыл очи свои бешаные, вижу, губы ево шевелятся, и слышу шёпот ево, мерный, страшный: а што, друже Аввакуме, разве ты никогда не думал о смерти, и каково она придёт, насильственная али покойная, когда все года свои суждённые проживёшь, изживёшь время своё, изопьёшь чашу свою до дна, и тогда уже на груди накрест сложишь руки и попросишь ближних своих: похороните мя вон в том лесочке, али в том овражке, али на той высокой зеленокудрявой горушке над широкой рекой... сам себе укрывище земляное выберешь. А может, ты в битве погибнеши, внутри кровавой сечи, а о том и не помышлял никогда! Да Русь нашу ищо будут сотрясать войны! без войны человек на земле не может. Как мир не призывать?.. ты-то, небось, на проповедях твоих во храме, посля службы, о мире людям балакаешь! А сам-то, Аввакуме, ужели никово в жизни не убил?.. не поверю!
И тут задумался я. Задумался, очи закрыл и воспомнил, как я убивал зверьё моё, птичьё моё робёнком, по просьбе отца петуху главу отрубил. Людей бил! Да кулачным, страшным боем. Жену мою, бедняжечку безропотную, однажды в кровь избил, за ссору ея с бабёнкой, коя у нас в избе обреталася и по хозяйству помогала-хлопотала; а позже на коленах прощения у нея просил, и сам пред нею, очумелой, во слезах дрожащей, на лавке разлёгся и бить себя розгой солёной заставлял.
Никон! Никон! Все мы убиваем, да не только кровушку льём, а частенько друг друга словом убиваем! Псалом Царя Давыда оживит тебя и мёртвово. А стих глумливый да насмешливый, злобный, полный яда, грязью тя обмазывает и во самое сердце ранит; и сердце твоё, Никон, кровью изойдёт. Злословие тож убийство, и битва ево настоящая. Не разевай никогда рот твой, штобы вымолвить зло; тяжёлое слово, пригнетёт оно ко земле, да не тово, на ково направишь копьё ево, а тебя самово; угнетёт тя, возскорбишь, тако, скорбя, люди людей земле предают, и будеши душою твоею, яко лягушка разпростёртая, во грязи ползать, и тогда ты Богу взмолишьси: помилуй мя, Господи, по велицей милости Твоей! Прости мне мои прегрешения вольные и невольные! Зло другому, Никон, причинить зело просто и быстро, и не узришь, не поймёшь, не узнаешь, што ты ево стрелою выпустил в другово человека, и стрела-то летит, и вот, вот-вот, сей час вопьётся, да не в тело жертвы, а в душу страдальную; такое зло человеку живому бойся причинить. Сколь стрел уже и ты, Никон, и Царь Алексей Михайлыч пустили в мя! безсчётно, Никон. А я всё терплю, терплю, да всё помышляю о мучениках святых. Они-то, они-то сколь терпели, а только радовалися, в огне палящем, во смоле кипящей. Вот величайшее счастье, радоваться своим страданиям, радоваться обидам, што тебе причиняют люди, радоваться горю и ужасу, што в тебя зловеще направлены; радоваться Лобному месту твоему, дровам, из коих костёр твой уже складывают. Радуйся, смертный человек! ведь мукой твоей ты повторяешь страдания Господа твоево Христа! Никон тут так и дёрнулся, окинул взором мя, грешново, да вдруг как закричит мне в лице: а вот ты, протопоп, и правда мыслишь, што век вечный будут люди верить во Христа Бога?! А может, наступят на земле такие времена, когда и Бога самово с небес низвергнут, и Бога самово потопчут, изрежут ножами, изобьют новыми жгучими плетями, сожгут в пепел, и пепел тот развеют по ветру, по всем временам! не допускаеши ты разве таково?! У меня даже волосы дыбом встали, яко языки огня. Жар охватил мя лютый; не знал я, што на ересь таковую Никону отвечать, а всё-таки разинул мой грешный, непотребный рот и вытолкнул слова единственные, только их и можно было произнесть сию минуту. Никон! Никон! Даже ежели люди низвергнут Бога своево и уничтожат Ево, поелику всё на свете возможно убить, они одново не поймут: Бог всегда воскресает. Всегда. Побледнел Никон мой, уцепился рукою костлявою, в жилах набухших, за край столешницы, штобы не упасть: правду глаголешь, Аввакум, чистую правду! Бог возрождается всегда. Каждый Божий день. А наипаче во Пасху Господню. А всё же есть, есть загвоздка одна. Воскресение! да только вдумайся ты, глупец! разве оно будет? ево не будет так же, как и второво Распятия не будет! сказано в Писании: только Второе Пришествие! Замолк. На меня глядит. Ну чистый бык. Ну вот, выдохнул я, ты сам ответил, несчастный, на твой вопрос, сам твою ересь зачеркнул кровью твоей. Придёт диавол, мститель великий, во все времена жаждущий уничтожить Бога, а Он здесь. Отвалите, людие, камень придорожный, а Он там. Выйдите на берег реки широкой, холодной, а Он рекою пред вами, грешными, воды Свои разстилает. Небеса, облака, гроза, молния - всё есть Бог. Трава под ногами, и я топчу ея - Бог. Ладонь раскрываю, потную ладонь трудовую мою, а там малая капля пота трудовово; али то я ладонью слезу отёр, што текла у мя по щеке, и влага та - Бог. Зерцало небесное лик мой отражает. Я в зерцало небес гляжу и вижу там Бога. А может, себя. То ересь наилютейшая - себя мнить Богом! Но ведь Бог в каждом человеке, Никон, Никон, и в тебе сей же час, и во мне, а не видим мы Ево, не слышим, затоптали мы Ево в себе, молиться не умеем, торопливо бормочем и утреннее, и вечернее правило, потому я спросил тебя, слышишь ли ты ток крови в себе, ток крови, то суть письмена Бога, то голос Бога. Слушай, как сердце твоё бьётся, как сбивается ево стук, замирает, умирает, а потом возрождается внезаапу; Бог есть жизнь; жизнь в тебе, жизнь в твоих детях, в детях детей твоих твоя кровь, и веровать они будут так же, как веровал ты и предки твои. Да разве же можно набело переписать Господа? Никогда ты не сделаешь тово, потому как все письмена Бога твоево красною волной подымаются изнутри тебя, омывают тебя и всю Вселенную, в коей ты, грешный, живёшь.
И дышишь. Дышишь.
И молишься, пока тебе ищо дано молиться.
***
(кровь опять, она же Время есть)
Кровь течёт, кровь дышит; крови биение; кровь, прощай. Сколь человек придумал разнообразных казней для самово себя. Виселица, кнут, удушение, кострище, костёр громадный до неба, и люди сгорают там, вопят, голос свой к небу устремляют, будьто бы небо может их услыхать и спасти. Много казней, штобы отнять жизнь у живово существа. А самое верное, это когда тебя разрубают мечом, копьём пронзают, пулю жгучую вонзают во хрупкое, нежное тело твоё, и льётся кровь, да, льётся кровь, и то, люди, льётся время. Кровь выливается из человека, яко из сосуда; сосуд был полон, и вот он будет пуст, а куда же выльется красное кровавое вино, што играло, бродило в нём? куда растечётся кровь? ково она оросит, ково напитает? кто захмелеет и возрадуется, отпивая из чаши скорбей ея? Ужели земля? Да, земля, ибо пролитая кровь в землю уходит, корни деревьев питает, камни и травы. А ежели кровь твоя льётся в текучую реку, растворяется алая твоя кровь в сребряной, бегущей мимо воде; ежели проливается на льдины, на снег, снег дымится, ведь кровь твоя горяча, она покаместь ищо горяча, покаместь она ищо огонь, кровь суть огонь, коий торжествует в тебе; кровь, это глубко в тебе, внутри тебя горящий костёр, значит, время всегда горит, вовеки на костре сгорает, значит, время гибнет всегда. Она, кровь, помирает каждую минуту, и каждый миг красный огнь бушует. Пламя вздымается до небес, то кровь твоя горит в тебе, то время твоё в тебе пылает, и ты не знаешь, што тебе содеяти с тем кострищем, то ли потушить ево, то ли дровишек в нево подбросить. А как же ты ево потушишь?.. како сам-то себя не смог погасить, ни во младенчестве, ни в старости, тако не сможешь ты алую кровь твою пламенную сам выпустить на волю. Хотя знал я, знал, грешный протопоп, как жилы себе вскрывали девки от разнесчастной любви; как топором, острым лезвиём рубил себя крестьянин Михей, друг отца моево, когда все в доме у нево от тяжкой хвори умерли, и скотина вся от болести полегла, и вот один он на белом свете остался, бедный Михей, и стал помышлять, како же у себя самово жизнюшку отняти, ну, пошёл в сараюшку, топор ухватил, сам над собою вознёс и сам себя тем топором порубил. Отец долгонько соседа не видал. А когда прибежал к нему на подворье, забежал в сарай да узрел, тело лежит, всё в кровище, да, вот так себя дед Михей топором-то ударил, и вытекла чрез перерубленную жилу наружу вся ево жизнь, весь огонь ево вышел вовне. Где теперь огонь нашей крови горит? Сколь в битвах людей полегло, сколь огней погасло... все мертвецы, што на полях сражений лежат, все лица, глаза все мёртвые, заледенелые, што птицы хищные клюют, жадно, несыто выклевывают, это уже тела без огня, огонь вышел, вышел вон, да не вернётся боле в тело никогда. Народятся другие люди. Когда в битвах погибает народ твой, полководцы машут рукой, стирают слёзы непрошеные с лица да бормочут: ничево, бабы ищо нарожают. Остались, остались ищо у нас мужики, штобы со врагом биться и за Царя помирати. И засевают новые полководцы новое поле телами да слезами; залито тучное поле кровью, кровь сочится под землю, достигает сердца земли; говорят, на крови трава гуще растет, ягода слаще. Я часто смыкаю очеса, я слушаю, как бежит кровь во мне, не дай, Господи, ей когда-то потечи водопадом. Не позволь, Боже мой, штобы разрубили мя надвое в битве жестокой, штобы главу мне на Лобном месте отсекли, штобы секирой порубили, копьём пронзили. Видал я, часто видал, како кровушка живо, споро из человека вытекает. А может, кровь-то и есть душа. Задумайтесь, людие, где наша душа обитает? сердце замирает, сердце колотится, сердце в пропасть падает, сердце мы чуем всегда. А вот кровь, о ней ничево не вем, она не слышна, и душа тоже не слышна, ни звука, ни шёпота... душа и есть твоя кровь. Иногда ночью открою глаза, лик мой на подушке к Настасье, жене моей, оберну, вижу спокойное, нежное лицо ея, уж всё укрытое рыболовною сетью морщиночек, слышу, как она тихо дышит, изнутри излетает тёплый воздух, то дышит грудь живая, то дышит душа, согретая всею живою кровью, тогда касаюсь я плеча ея нежными перстами, и тихо, ласково, безслышно шепчу: спи, почивай, Настасьюшка, ищо придёт срок, и нам надобно будет с тобой помирати. А кто ково на тот свет проводит, мы не знаем. Али ты меня, али я тебя. Да лучче бы помереть нам с тобой в один день, как Петру и Февронии.
***
(сердцу больно)
Иду навстречу тебе. О, вместе, вместе, как Пётр и Февронья. Соль, пот на губе. О злоба, не тронь мя. Не тронь мя, ненависть, не бичуй мя, месть. Во благодати чую счастье. Ты моя Благая весть, льёшься лилейным елеем, раны врачуя. Иду. Битый камень колет ступню. Кровь мой путь пятнает. Молюсь тебе сто раз на дню. Ты настоящий, знаю! Ты живой. Я твоя дщерь. Ты ясноглазый, брадатый мой пророк. Ты моя дверь туда, где плачет Распятый. Где стонет Он на кровавом Кресте. Где ветер бьёт колокольно. Где так сияет Он в высоте небес - не глазам: сердцу больно.
***
(Аввакум и Царь)
Я против Царя, Царь против меня, так было суждено. Так было заповедано, и молчим, а вроде бы слышим голоса друг друга. Што такое вера, вопрошает мя. Вера суть кровь, отвечаю. Што значит вера суть кровь, вопрошает. То значит, вера твоя течёт в тебе, омывает тебя изнутри, пропитывает собою душу твою, мысль твою и сердце твоё. А вот ты, по ком ты плачеши, в ком ты зришь будущее, спрашивает Царь. Отвечаю: я не пророк, я не провидец, вижу, што ты предо мною стоишь, Царь, и не просто ты, человек, стоишь предо мной, человеком; предо мною, верой, стоишь ты, власть. Власть, усмехнулся таково криво, а што такое, вопрошает мя, по-твоему, власть? Отвечаю: власть даёт тебе право распоряжаться чужою жизнию; а ведь жизнью может только Господь распорядиться. А тот, у ково на земле власть, мыслит так: человек этот мой! Эти люди мои, я ими владею, я их присвоил, они все под моим крылом, под сенью моея десницы, под моим знаменем идут, у моево шатра ночуют, и што хочу я, Царь, власть имеющий, то с ними и сделаю. Правильно мыслишь, Царь, говорю я ему, провижу я будущее, хоть я и не пророк: Цари сохранятся, и власть сохранится. И никуда мы, люди, от нея не утечём, не скроемся. Вот ты давно на троне сидишь, а охота ли тебе на нём возседать? Хочется ли тебе в одной руке скипетр сжимати, а в другой руке державу? Вот, держи, тяжёлые то игрушки, и скипетр, и держава, круглая, как Луна али Солнце, слухи ходят, и земля наша тоже круглая, и земля, бают, округ Солнца вертится, а не Солнце вокруг земли. Лепят детишки по зиме снежную бабу, скатывают сырой волглый снег в огромные комья да друг на дружку те комья водружают, у них своя держава, снежная, и своя игра, сибирская, взятие снежного городка. Чаешь ково-нито повоевать? хочешь ты чужую кровушку пролить? Веру чужую из другого народа изъять? Што такое кровь пускать, не мне тебе объяснять. Всё ты прекрасно знаешь. Пытошных дел твоих мастера, палачи твои, сколь людской крови в застенках на каменные полы щедро пролили! Молчишь? Нечево сказать тебе, Царь!
И разлепил Царь губы вдругорядь: так вот бормочешь ты, ты слуга мой, Аввакум, а што балабонишь, и сам не ведаешь, а ты ведай лишь одно: власть сила, власть могущество, у ково власть, у того и казна. А у ково казна, полная сокровищ, злата, монет, каменьев самоцветных, тот и владыкой над Мiромъ может стать. Над Мiромъ, вопрошаю Царя, а ты што, мечтаешь стать владыкой над Мiромъ? А ты как мыслишь, пророк Аввакум, напророчить, што не будут Цари стремиться к мiровому Царству, а всякий на своей землишке станет обретаться? Ну, насмешил мя, скоморох ты, а не поп, шут гороховый! А я-то мнил, вымолвил ты мне золотое пророчье слово! И вздохнул я тяжко и глубко, и так сказал я Царю: да, Царь, запиши мя в юродивые, во блаженные, блаженство, вот высшая участь земная и небесная, но блажен тот, кто свободен от всякой власти, свободен от Царя, от наибольшево иерея, от воеводы, от устава, от приказа, свободен в шаге и во полёте, и летит вверх, наверх, на высоту сияющую, и любит Мiръ всецело, и крылья невидимы тово блаженново, и ширятся крыла небесные тово юродивово, и ходит он навроде бы по земле, а на самом деле летит он над землёй, летит птицей, юродивый суть птица, суть орёл, Царь, знаешь, я орлом себя часто чую, как будьто распахнул я крыла и парю над землёй моей, да над чужими землями, таковыми прекрасными, ты, Царь, таких не видал никогда, а я, я, орёл поднебесный, видал... во снах ли моих, наяву ли, всё в писаниях моих кровушкой начертал... А знаешь, Царь, я ведь ночьми пишу мою Псалтырь огненную, Псалтырь пламенную, Колесо Мiра катится по небу, по земле, по Раю, по Аду, и всё и вся подминает под тяжкий, чугунный обод свой, и режет, и давит, и визжит, и скользит, и опять катит, всё вдаль и вдаль, прошлово не жаль, и по Псалтыри моей едет, и Псалтырь мою переезжает и надвое разрезает, и льётся кровь со рваных листов, и псалмы мои сами орут, сами блажат, сами собою поют, уже без меня! Царь Давыд, он сам по себе, а протопоп Аввакум, он сам по себе! Но в ночи, когда власы мои от ужаса и счастья подъяты, и борода моя в неверном свете сиротьей свечи лучится Солнцем, полночным Солнцем, тогда я Царь, я и сам себе Царь, я и снегу великому за окном Царь! избёнка моя... да наплевать мне на нея! я Царь всея земли и небес всех, и только пред Богом моим Господом я раб! Ево я слуга! Царь, люди, они рабы твои, а я раб Божий! Я вздохну глубоконько и песню мою выдохну. Слушай ея, Царь, читай, гадай, што я в песне моей напророчил! А ведь напророчил... и люди в тех писаниях разберутся; моё дело маленькое, сидеть в ночи безсонно, до первых петухов, да перо в чернильницу окунати.
Песня моя хмельная романея, песня моя лёхкия прузи, пыщут прозрачные папарты, летят над цветами, над лугами, песня моя широкое небо, а мы с тобою, Царь, оба немы, а песня одна, она всё нам говорит, огнём бешаным горит.
Пристально Царь глядит на мя, спокойно я гляжу на Царя, вопрошает он: расскажи, што ты видишь во грядущем: вот говоришь ты, што не пророк, но ведь каждый человек пророк хоть однажды, хоть единожды он заглянет в то время, кое только ищо придёт. Закрой глаза, протопоп, да молви мне слово, што там, в тумане, зришь, я тихо буду сидеть, смиренно тебе внимать. А ты лишь говори, говори, не останавливайся, слово текущая река, слово текучая кровь, слово и счастье, и боль, ежели ты изрекаешь слово, ты уже им становишься... говори, што видишь! А я буду слушать; хочешь, запомню, хочешь, сразу же забуду. Он закрыл глаза, и я закрыл глаза; пред глазами моими явились иные картины, не те, што я всякий день воочию наблюдал: великанские каменные пирамиды, множество окон во тех каменных теремах, во огромных, до неба, дворцах, стоят высоченные, яко башня Вавилонская... вижу: да всё это воистину башни Вавилонские, и люди их выстроили нарошно, штобы в гордыне опять до неба добраться, а внутри тех башен, Царь, они и живут... хлеб жуют... вижу, в окнах лица мелькают, вижу, люди бегут в каменных ущельях между башнями страшными, до туч достигающими, люди куда-то торопятся, одежды на них иные, не таковские, каковые мы с тобой, Царь, носим: не кафтаны на мужиках, не понёвы на бабах, ах, навлекли на себя смешные, странные тряпицы, бабёнки все в коротких юбчонках, ноги все на виду-стыду, а мужики все в кургузых кафтанчиках, инда с чужого плеча. А кто идёт с ухмылкою на роже, кто хитро губёшки кривит... все с виду распутники, грешники, все греховодники, што ли, в сём будущем стали... отворачиваюсь, штобы не видеть таково позорища, Царь... вижу ищо знаешь што? дворцы, битком набитые снедью и одёжкой, за блестящею прозрачной слюдой, за твёрдыми бычьими пузырями в ларях и в сундуках разложены дивные заморские фрукты-ягоды, мясо и рыба, икра и зелень, сотовый мёд и горы сахара, што это, шепчу, а это, говорят, рынок, таковский нынче у нас рынок... Царь Давыд, ах, Царь ли Алексий Михайлов сын, и у нас тоже есть рынок! Да на ветру тот рынок, под небом, дождями, снегами да Солнцем! А здесь в каменных стенах, за хрусткой блёсткой слюдой и не дотянешься до пищи и питья, а только пальцем можешь указать да испросить: дайте мне, дайте! А што дайте-то, и сам не знаешь! будьто бы я, невидимый, подхожу к ларю, протягиваю руку и указую перстом на огромново, с колючками по бокам, осетра... или нет!.. што бы лучче выбрать... вот большое красное яблоко, яблоко, оно же и было съедено прародительницей Евою в Райском Саду! Да не боюсь я Змея! Да нет тут никакого Змея, а стоит в белом, ровно бы исподнем, одеянии торговец, ну, тамошний, значит, купи, да, купи, возглашает мне на чистом русском наречии, вот сколь рублей стоит то яблоко приобресть, а нету у меня тамошних денег, нету и нашенских, гол я как сокол, зачем я сюда пришёл, голода не чую, к чему мне красное яблоко, говорю я торговцу, да будет с тобою счастье, милый человек, наторгуй ты севодни хоть сколько-насколько, хоть целый сундук денег домой привези, весь запродай, продавец, твой товар! Дай мне только ложечку мёда! Он у тебя в горшке, мёд липовый, вон стоит, белый, золотистый... ох, чую, сладкий! Дай мне отпробовать! Смилостивился торжник, зачерпнул мне сребряной лжицей мёд, и ел я из той рыночной ложки будущий мёд, ел, обливался незнамым мёдом, тёк мёд мне на подбородок, на шею, и плакал я, и обливался слезами, и солёные слёзы мои в тот сладчайший мёд стекали. Это я так грядущее своё, Царь, на зуб пробовал, а грядущее-то, оно всё такое же, всё такая наша жизнь, всё такие же яблоки, всё тот же мёд, всё тот же торговец над яствами, дрожащ, яко царь Кощей, склоняется, ворожит да руками разводит, да к себе зазывает, штобы ево товар купили, вижу площадь, толкутся люди, како мошкара, я, Царь мой, как здеся люблю людей, так и тамо, во грядущем времени, их люблю, я вижу: грешен человек, но я-то сам разве не грешен, и ты грешен, Царь, а ты бы мог жити в такой вот сумрачной Вавилонской башне, а я бы не мог, мне надо поближе к земле, мне надо землю нюхать, ноздрями чуять, ладони на нея класть, тепло ея вбирать, они все, грядущие, камнем окружены, камнем да блёсткой слюдой, и нет тово счастья у них, што нам доступно. Береги, Царь, волю твою, волю и ветер; ты над ними не властен.
***
(Аввакум и я. Поём псалмы)
- Отченька Аввакуме! Бог любит и судит всех нас, но ты, ты тоже суди меня, рассуди страдание моё, языком не могу ево вымолвить, от неправедных людей страдала, от злобных людей слёзы ливнем лила, и только шептала себе: Господи, ты есть крепость моя, зачем человеку враги, пошли мне свет неизречённый, пошли ясный свет Твоих очей, всем небом смотришь Ты на мя, и не только на мя, но в каждое селение заглядываешь, в каждом доме, Господи, есть жертвенник Тебе; веселишь Ты нас веселием Твоим, а гневом Твоим низвергаешь нас в тёмную огненную бездну. А мы исповедуемся Тебе и на гуслях играем, на скрипках, на органах, Господи Боже мой, как же любишь Ты музыку нашу людскую! зачем же скорблю я, Господи! зачем скорбит и плачет скитальная душа моя! Отними от меня смущение моё, исповедуюсь лишь Тебе, а ты, отченька Аввакуме, в том мне помоги.
- Дочь моя, услыши все языки, што звучат во Вселенной, пойми весь народ твой, всех сыновей и дочерей человеческих, кто богат, кто беден, кто здоров, кто болен; уста пусть гласят премудрость, а сердце бьётся, Господи, рядом с Твоим сердцем. Открываю я сердце песне. Дочь моя, пой вместе со мной, тогда не убоюсь я дня лютово, и беззаконие отступит от мя, и враг не нападёт на мя, и дракон не пожрёт мя, и изменник не поднимет на мя длань свою, и жив я буду до конца моево, и не узрю гибели земли нашей. Каждый умирающий постигает премудрость, каждый умирающий становится равен Богу. Каждый, кто приблизится к смертному порогу, хочет отдать чужим накопленное богатство своё. На небеса не унесёт он богатства своево с собою, не покладёт во гроб, а продолжит род свой, и наречёт именами детей своих, и оставит детям и внукам богатства свои, но превыше всево оставит им память и слёзы чистой души своей. Все мы скот Господень, все мы и овцы Господни, и кони Господни, и коровы Ево, темно мычащие, и бредём мы стадом от Рая до Ада, а потом от Ада до Рая, и в Раю, просветлённые, счастливые, умираем. Даже ежели мы на земле в Мiръ иной в муках уходим, Господи, всё равно с Тобою мы пребываем. Да благословен будет живот человека, благословен будет Дух Божий! Чюдо, што мы зрим свет дневной и звёзды ночные. Спаси, Господи, живые души твоя.
- Как ты учил мя, отче, вот так говорил ты мне: надо молиться Богу нашему, помилуй мя, Боже, помилуй мя! велика милость Твоя, щедр Ты к нам, очищаешь Ты нас изнутри и снаружи, избави нас от беззакония, изыми из нас грех наш. Так ты говорил, отченька, и я повторяла за тобой: Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих... и плакала я, отче Аввакуме, глядя на тебя, и всё время видела тебя маленьким мальчиком на руках у матери; отченька, а ты ведь еси и отец мой, и сын мой, ты избавил мя от первородново греха. А я ощутила себя молодою матерью твоею! ощутила радость и веселие... мать твоя умерла, давно в земле, радуются кости ея смиренные. Сердце твоё бьётся, отченька Аввакуме, и моё бьётся рядом с тобой. Так люблю я тебя, но об том не смею тебе сказать, а только Богу. Господи! Уста мои отверзеши, сердце моё открой, и вознесу я хвалу Господу и отченьке Аввакуму, отцу моему в Духе, а может, сыну моему молодому; за горами времён ждёт нас жертва великая, Всесожжение, да жертва в любви радость, жертва внутри счастья награда. Да, так; ты всё время учил мя: огонь есть благодать, и я за тобою те словеса огненные всё земное время повторяю, и всё небесное время буду повторять.
- Боже, спаси мя во имя Твоё! Спаси это дитя малое, неразумное. А может быть, бабу неведомую. А может, старуху древнюю; воззри на нея с высот безконечнаго времени Твоего, в небесах ведь времени нет, но когда-то совьются в свиток они, предсказанный Иоанном Богословом; тогда каждый человек узрит Бога пред собою. Господь, Ты заступник мой; заступись за моё дитя, заступись за доченьку мою, исповедую Тебе всю душу мою, и видишь Ты, как люблю я ея, и поднимаю на нея всегда и везде внутреннее Око моё.
- Растерялась ли я, потерялась ли в жизни великой, об одном прошу Господа моево: помилуй мя, Боже, помилуй мя! Отрубили мне крылья, обрезали снова пределы мне, их вынули из мя; душу живую заново вдунь в мя, како втеснил Ты дух в Адама, излепленного из глины Райской, и в жену ево Еву, что сотворил Ты, Господи, из Адамова ребра! Гимны готова петь Тебе! спать и во сне видеть Тебя. Когда буду, умирая, возноситься на небеса либо низвергаться во Ад, ко грешникам, Боже! на всю землю, мною покидаемую, хриплым голосом буду славить Тебя. Готово сердце моё, Боже, принять Тебя всегда. Да ежели бы я играла на всех звучащих призывно флейтах и наблах, на псалтыри и на гуслях, на лире и на кифаре, на авлосе и на клепсидре, на кинноре и дудуке, я славила бы музыкой Тебя, во веки веков, аминь. На всех языках пою Тебе славу, да возвеличится до небес милость Твоя.
- Доченька моя! все мы устаём от жизни окиянской, все мы, по жизни вброд идя, где молча терпим, где заплачем; когда надо смеяться, смеёмся, даже ежели не смеётся нам; когда надо рыдати, дерзко прыгаем до небес да играем на гундосых дудках. Ах, до глухоты в дуду дуем, в бубны бьём, а надо, штобы душа наша не глуха была, надо, штобы душа наша зрячая была. Презираем людей, огорчаем, мучим ближнево, нечестиво обижаем, оскорбляем... любое наитвердейшее железо можно растопить на огне, жидким становится и льётся горячим сребром.
- Разбивается камень, точится ветрами и бурями, ржавеет железяка, сгорает древо, доски истлевают, дома пылают, веси и грады исчезают с лица земли, скорбь обнимает людей. И, егда плачут и сетуют в горе своём, они Господа поминают, в умалении и умилении своём. Благословен Господь, не отринет Он горячую молитву мою, не отнимет милость Свою от меня.
- Да воскреснет Бог и разыдутся врази Ево, и да бежат от лица Ево ненавидящии Ево, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, тако да погибнут грешники от лика Божия, а праведники да возвеселятся! Да возрадуются пред Тобою люди по всей земле, славят Тебя в веселии, так молюсь я, дочь моя, каждый Божий день, в пути-дороге я али сижу в избе за столом, еду вкушая, али повалюся в постелю мою, рядом жёнка моя; молчит моя супружница, она уж помолилась. А за окном дождь, а за окном снег, шумно воздыхают во хлеве животные мои, курочка квохчет, яичко несёт, и так идёт жизнь, и так идёт дождь, и так идёт возлюбленный снег, и нет мне корысти ни в чём, и не соблазняю себя блеском злата-серебра и каменьев многоценных. Вот смотрю я на горы Сибирские, горы большие, горы лесистые, горы тучные, звери и птицы густо населяют тайгу, рыбы плещутся в реках: омуль, ленок, сиг, таймень, хайрюз, во Байкале славном, святом море, кишат-играют тысящи тысящ, тьмы тем живых существ; на земле веселятся и горюют, рождаются на свет, любятся, ползают, летят, вьются, толкутся, и уходят с этово света на небеса. А на небе Царь мой истинный, Бог, и шествует Он, неприметный, среди звёзд, ярко горящих. Не зрим мы Ево, когда Он идёт, идёт среди нас, идёт мимо нас, сильный, прекрасный, вечный, любимый нами; неведомые люди, все молитвенники земли лишь Богу молятся, лишь Ему песню поют, и Солнце восходит на востоке каждое утро; так Господь восходит над землёю. Бог, доченька моя, во святых Своих и во всех делах Своих.
- Родной мой, близкий сердцу моему отче Аввакуме! што есть правда среди людей, а што есть ложь? што может смирить клеветника и спасти от хулы убийственной сынов и дочерей Божиих, бедных и убогих? Вот Солнце возбегает на небеса, и падает на землю с небес Золотое Руно; вот тучи сбираются в зените, и низвергается вода на землю, хлещет ливень серебряной стеной; вот нисходит ночь, и выкатывается на небо ясное белоликая Луна. Лик ея не всегда снеговой: то жемчужный, то киноварный, то алый, то нежно-голубой, яко Богородицын плащ... мы не можем вообразити, земные мы жители, што наступит таковое время, когда Солнце и Луну отнимут у нас. Ведь их на небеса Бог поместил. Бог владеет землёю от суши до суши, от моря до моря. Эфиопы, раскосые китайцы, сборщики чая, южные солнечные народы, иудеи и арапы, гишпанцы и италианцы, угрюмые варяги, што живут далёко в северных морях, на скалистом острове Туле, аравийцы и африканцы, индусы в чалмах, што катаются на царственных слонах и ласково беседуют с полунощным тигром, глядя зверю во горящие глаза, когда медленно, мягкими лапами перебирая, шествует могучий зверь во чащобе, во зелёных, изумрудных густых зарослях - все в Бога веруют, только все называют Ево разными именами. Прекрасные плоды, сладчайшие яблоки и вишни, чюдесные съедобные коренья, што произрастают в земле, впивая ея живительные соки, душистые сладкие ягоды, они же висят, манящие, на кустах и стеблях, всё для счастия человека Господь устроил, и каждый народ пусть хвалит Бога по всем делам Ево. И я, отченька Аввакуме, Бога хвалю, восхваляю вместе с тобою; давай нынче вместе, на два голоса Ему хвалу нашу споём!
- Исповедуйся мне, дочерь моя, исповедуйся мне, но прежде всех век исповедуйся Господу Богу твоему. Желаешь ты правды, ты возжелай ея сильнее сильново; желаешь ты возвыситься над временем, иди сквозь время безстрашно, не убояся ничево. Зима умрёт, снега сойдут, льды растопятся небесным огнём, щедрым золотом Солнца, и возрадуются живительному теплу все живущие на земле, в ея лесах, в ея полях, на брегах ея рек, озёр и морей. Сменяются времена года, вращается медленно и тяжко годовое колесо, и век колесом поворачивается, и тысящелетие, а человек пребывает всё таким же грешным, всё так же предаёт, убивает, лжёт, всё так же, судьбою и людьми наказанный, повергается ниц, пытаясь пред Господом горько покаяться. Господь слышит покаяние ево, Господь подносит чашу Свою к устам грешника, а в ней вино, это кровь Ево, протягивает на живой ладони Своей хлеб, душистую плоть Свою, и тихо шепчет: вкуси, несчастный грешник, ты прощён, прими тело Моё и кровь Мою из рук Моих. А Я всегда буду с тобою. Аминь.
- Кто я такая, отец мой, кто я такая? Я самая малая из тварей земных, самая неприметная, самая терпеливая и смиренная. Нет, конечно же, не самая! Так ты, человече, тоже себя хвалишь. А ты должен воистину смиренным быть, человек, о себе ни слова не говорити хвалебново; а мы-то всё о себе да о себе. Да потому, што весь Мiръ в нас, а мы разлиты, инда молоко ли, кровь ли, вода талая, во всём Мiре. Вот пою я Псалтырь, играю себе на гуслях; вот когда нарождается новый месяц, вострублю я в трубу: радуйтесь, людие, пришёл день праздника, День Новаго Мiра! Бог является к нам каждый новый день. Свидание с Ним сладко, и светло сияющих забирает Бог от нас, накрывает, яко канарейку, весенним цветочным платом наше дотла сожжённое время, избавляет нас от мучений, отворяет нам Тайны Неведомые, исцеляет раненых нас от наших искушений и от чужих жестокостей. Я свидетельствую, отче Аввакуме: я видела Бога, Бог еси ты, Бог есть каждый человек, противу коево стоим мы на земле и глядим ему прямо в лице ево. Бог есть вся земля, ибо Он по ней, по землице, идёт лёхкими, горящими ступнями. Бог соединяет друзей и врагов воедино, благословляет их, зная о том, што Страшный Суд придёт для всех, и враги становятся друзьями, и друзья льют слёзы о врагах своих. Слаще мёда жизнь, да, но я хотела бы ощутить на губах вкус смерти моей, как я буду уходить, куда я уйду, как буду я умирать? Ужели и там, за порогом, тоже Божий Мiръ, и там, в неведомой тьме, тоже царит наш Бог, мой Бог, твой Бог, и я возымею великое счастие опять помолиться Ему?
ДЕВОЧКА У КОСТРА
ФРЕСКА ТРЕТЬЯ
Милосердный Государь… Молим твою благочестивую державу и плачемся вси со слезами, помилуй нас, нищих своих богомолцев и сирот, не вели, Государь, у нас предания и чину преподобных отец Зосимы и Саватия переменить, повели, Государь, нам быти в той же старой вере, в которой отец твой Государев и все благоверные Цари и великия князи и отцы наши скончались, и преподобные отцы Зосима, и Саватей, и Герман, и Филипп митрополит, и вси святии отцы угодили Богу.
Аще ли ты, великий Государь наш, помазанник божий, нам в прежней, святыми отцы преданей, в старой вере быти не благоволишь, и книги переменити изволишь, милости у тебя Государя просим: помилуй нас, не вели, Государь, болши того к нам учителей прислать напрасно, понеже отнюдь не будем прежней своей православной веры переменить, и вели, Государь, на нас свой меч прислать Царьской, и от сего мятежного жития преселити нас на оное безмятежное и вечное житие; а мы тебе, великому Государю, не противны; ей, Государь, от всея души у тебя, великого Государя, милости о сем просим и вси с покаянием и с восприятием на себя великого ангельского чину на тот смертный час готовы. Великий Государь, Царь, смилуйся, пожалуй.
Послание соловецких иноков
Царю Алексею Михайловичу
(Аввакум и Смерть. Предчувствие)
Я бы хотел умереть не как святой, но я хотел бы узнати, когда ко мне будет приближатися моя смерть. Я не отважен, мя объемлет страх. Я боюсь, Господи Боже, помози мне, ибо я вижу и знаю, пришёл мой конец, так бы я желал сказати пред уходом моим царственным али нищенским да ничтожным. Каково оно, сие царство, там, на смиренном кладбище, во вечной теремной горнице усопших праотцев? Тебя увозят во гробе сосновом: последний твой путь по земле. Кто чюет приближение часа своево, егда жалостливо просит: отступися, смерть, али покорно: встречаю тя, смертушка моя; она привычна нам, откупиться бы, да не отсыплем мы ей во костлявую горсть никаких грошей, ни меди, ни злата, штобы выпустила она нас из ея когтей. Совершаем обряды, поём исправно, людие, и служим панихиды да литии над опочившими, над мертвецами. При всём честном народе возрыдаем о них. Бабы воют; ахти, плакальщицы, плач ваш велик есть, смерть, быть может, то свадьба, то одр брачный, тайнозримый брачный чертог и всю жизнюшку жданная Брачная Вечеря; ты обнимаешься с Богом самим; а телеса, што ж, они спят в земле да спят. Плывут в песчаное да глинистое подземье во дощатых лодьях. Час приидет - восстанут на Страшном Суде. Верую... Во што я верую? в Ад и Рай? Да, я верую во Господа моево, в Ад и Рай. Я хотел бы, штобы от Ада земново до Рая небесново провёл мя Тот, Кто безсмертен воистину; объяснить Он лишь всё мог нам без истления мысли Своей, во древлих книгах киноварными знаками записанной; а нынче што? Теперь все святые дома Господа нашево Исуса, все храмы Господни осквернены. И война! Война! Никонияне нам вопят: вы еретики! еретики! ересь! ересь! Мы им в ответ кричим: еретики-то вы, еретики и нечестивцы! погубители земли Русской и веры Русской! Ересь ваша, ересь!
И вот война началась. И вот война идёт.
Огнём, дымом, пламенами неистовыми бежит война, катится по родной земле.
Богородице Дево Марие, пусть война! я покорен. Я опускаю главу пред неведомыми временами, а вижу, всё вижу огонь. Я хочу огонь мой, красново волка, приручить. Я хочу приручить, яко диково зверя, мою смерть. Я о безсмертии людям хрипло глаголаю во храме. Недаром же я протопоп; я под защитой у всех моих святых, у всех святых моево рода, ибо люди рода моево святые. Молитися святым мертвецам, вот подлинное поминание! Сколь погостов разрушено, сколь гробниц разграблено! Мёртвые лежат, окутанные молчанием. Внутри ограды возводят новые кресты, кладут гранитные плиты, усыпальницы Царей не похожи на могилки бедняков; а иду по лесу, сбираю грибы в корзинку и вижу: крест-голубец высится в одиночестве, никто к нему не подойдёт, никто колена не преклонит, нет; никто пред ним не помолится. Как быть живому, живущему? Какие захоронения, какие погребения ждут павших в бою? Их белые святые кости так и истлевают во поле под недрёманым оком вечного бездонного неба. Вокруг любой храмины кладбище имеется; там каждый лежит во своём гробе, яко в своём доме; недаром гроб наш зовётся домовина. А как быти тем, кто погребён во братской могиле? Жизнь и смерть, тако тесно, неразъёмно связаны они. И вот неровён час, чую, она явится ко мне в гости. Я должен говорить с ней; какая она на вид? Череп голый, костяная клеть, накинутая на плечи костлявые дырявая холстина? А может статься, она девица красная, закрыла ввечеру оченьки свои, а ночью тихо ко Господу отошла, и не поняла, што умерла во сне. Како быти во посмертии, што тамо делати? Вижу огонь. Вижу мою смерть. Слышу, бьёт мой час. До последнево вздоха жизни моей сохраню память о жизни. Память оборвётся, и свечою нагорелой сгаснет бытие. Каждово ждёт конец. Каждый помнит: будет Второе Пришествие, и Страшный Суд в конце времён, когда все народы, все люди, вся земля, все до единово прочтут Книгу жизни, разберут по слогам Всемiрную Псалтырь, где сияют и рыдают всемiрные песни; там начертано киноварью-кровию всё, што мы пели, о чём плакали, ково любили, с кем сражалися, сие суть Псалтырь войны и любви, смерти и возрождения. Одиночество есть искусство умирать. Я знаю. Читал то между строк Псалтыри великово певца, безсмертново Царя Давыда, богоравново песнопевца; в иные сферы, Царю Давыде, ты свободно, лехко возносился, да о смерти, яко все мы, в тишине помышлял. Я видел однажды образа чюдные: далёко в Сибири стоит старая церковка на бреге Байкала, сработана топором без единово гвоздя; вошёл я туда и увидал на иконе Иуду Маккавея, и намалёвано было на златом горнем свете неведомым богомазом: ТО ИУДА МАККАВЕЙ МОЛИТСА ЗА УСОПШИХЪ; а другая икона изображала Око Недрёманое, Вселенское Око, острый Глаз Божий, коий зрит насквозь весь Мiръ, Вселенную всю, радостную и страшную; а на третией иконе, близ самово олтаря, близ Царских Врат, на северной стене, я увидал Страшный Суд: внизу иконы Христос спускался во Ад и шествовал по Аду в нарядном хитоне, половина хитона красная, половина хитона синяя, а обочь Ево грешники коленопреклоненные тянули к Нему руки, а выше, над главою Ево, сидел Он сам, молодой вьюныш, отрок прекрасный, а рядом с Ним, ошую, юная Мария, а одесную Ево пророк Илия, и спокойно и печально взирали они, Предвечные, на праведников и грешников.
Все умирают, безсмертных нет. Страх пред Адом сильнее страха пред самою смертью. А страх пред болезнью, пред страшной заразой? вот идёт чёрная чума, вот идёт Великий мор, и люди, вдыхая отравленный воздух, уже приговорены. Мы заклинанием хворь: уйди обратно! Иди туда, откудова пришла! Мы хотим праздника! Мы смерти не хотим, потому и похороны мы обставляем яко праздник: мы празднуем уход человека, мы угощаем всех, на поминки притекших, вкусной едой, мы пьём хмельное питьё, мы даже обнимаем и, яко во Пасху Господню, при погребении целуем друг друга, утешая. А слёзы всё льются и льются. Есть ли вера в вечную жизнь, когда рядом смерть? Пред тобой длится в веках только смерть, а жизнь не продолжается никогда. Да, но я, грешный Аввакум, боле жизни люблю жизнь. Я люблю ея тако же, како люблю смерть. Не раз я глядел в безумный и безглазый лик смерти моея, простирал к ней руки и рек: здравствуй, возлюбленная моя, вот я к тебе пришёл! Прими мя таково, каков я есть! Нет греха на тебе, ежели ты таково сильно любишь Бога, ведь смерть не враг жизни, и может статься, то не враг Бога, может быти, то другой лик Бога, тако же, како Луна во ночных небесех висит сребряным льдяным яблоком, и смотрим мы в сияющий светлый лик ея, што там, за ея затылком: новое воплощение Духа Божиево, собрание неизречённых ужасов, общее благословение, всякому отрада? Оборотная сторона, всё так же, како и при Христе, мы не видим ея, и она не видит нас; яко Луна в ночи, приходит смерть. И жизнь всё та же; человек уходит в землю, а та жизнь, коею жил он рядом со ево близкими, роднёю ево быстренько забывается; семья ево старится, и пред нею уж разверзается вечная пропасть; а не желает человек старости покоряться; старухи бабёнки щёки себе свекольным соком мажут, губы морковью красят али пылью битово кирпича, всё стремятся вдругорядь девицами глянуть; трудно духу смириться со словом, а со временем сдружитися ищо труднее; тяжко сказати самому себе: когда-нибудь тебя не станет. Люди, умирая, просят: положите мне с собою во гроб любимую безделушку; ожерелье, што мать дарила, крестик нательный бабкин, охотничий нож отца моево, наливку, кою дед мой готовил, в погребице запрятана она, в погребице, выньте ея оттудова, налейте в бутыль да мне во гроб и засуньте. Да помолитесь, помолитесь за мя как следует! Да на поминках моих вы кутью с изюмом, блины с грибами, кашу гречневую, щи кислые ешьте, за обе щёки уписывайте, да молитесь, молитесь Господу и друг друга боле не проклинайте. Пред лицем смерти все равны; все пред смертию народ Божий. Вот храм; сей дом Бога для тово выстроен, штобы мы, внидя туда, почюяли себя в гостях у смерти, тут она хозяйка, во храме, и мы, живые иереи, глас возвышаем над хором живых и наполняем радостью восклицание наше, литургисая: СЛАВА ТЕБЕ, ПОКАЗАВШЕМУ НАМЪ СВЕТЪ! Разве, смерть, ты свет? ты всегда была тьмой, во все века ты была тьмой, и никаким сокровищем от твоея тьмы нельзя было откупиться, а люди всё шли и шли паломниками во святые места, вымолить у Бога ищо кусочек жизни, отодвинути тьму молитвой бедной, насущной, инда ржаново горбушка. Кто и завещание загодя писал, а я бы хотел, штобы могила моя была безымянна, и завещания никаково не зачну строчити; то, што я пишу, есть моя жизнь, то, што я пою, есть моё бытие, а там, куда я скоро уйду, нет ни гласа возвышенново, ни гусиново пера, ни чернила густово, ни слёзынек среди ночи: помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей. Думал я: ах, смертушка моя! Долго думал я о святых. Почему простой человек вдруг становился святым? Да потому, што он есть возлюбленный смерти. Он обручился с ней, он шёл с ней бок о бок, все они, и столпники, и преподобные, и святые мученики, и страстотерпцы, и равноапостольные, все они жили словно бы в семействе многолюдном, огромном, но уж не здесь, а за гробом; и вот нынче за гробом существует сия огромадная семья, семья святых, их тысяща тысящ, их тьмы тем, и я стал священником не только потому, што отец мой Пётр батюшкой пребыл в сельском храме, а и потому, што хоть служкой маленьким, рабом неприметным к тому семейству безсчётному святых, в земле Русской и в иных землях просиявших, чаял прилепиться. Вот пою я псалом, будьто бы из теста жаворонка Пасхального леплю; жёнка моя Настасья из замеса тово детишкам разные забавки лепит, и жаворонков, и ёжиков, и белочек, и рыбок. А я взираю мальчишкой малым на то семейство святое, што за необъятным Всемiрным столом, усыпанным звёздной мукой, восседает, и меж собою они радостно перекликиваются, и меня, иерея, псалом поющево, мальца, под столешницею, навроде кота, сидящево, никто не видит.
Смерть, она сей же час войдёт, готов ли я встретить ея, готов ли я сказать себе: я во сей миг умру, уйду навсегда, навеки, и гусьим пером моим поставлю во книжище точку: то конец. В моём конце моё начало. Капает на бумагу не чернило, кровь. Я пою о смерти, не знаю ея. Имею ли я на песню ту право? Смерть, она моё утешение, и она моё устрашение; она моя молитва, и она мой вызов небесам, моё с ними единоборство. Я вступаю со смертию в борьбу лишь для тово, штобы прижати ея к моея груди, крепко обнять и сказать ей: смерть, я твой! На лице моём грядущая смерть вырезает новые морщины, то мои святые письмена. Она изрекает мне: я приближаюсь, я тут, я уже рядом; но я всё медлю. Я перейду черту, когда огонь ко мне вплоть подползёт, когда цвета крови станет моё нищее жидкое чернило. Я не узрю, как сверкает грань бытия. Когда-то матушка и батюшка породили мя на свет Божий, и каждую малую минуту я медленно, медленно, по капле отдавал кровь жизни моей Мiру, в коем жил. Я медленно преставал жить, я и сей же час престану, когда совершится окончательное превращение, обращение моё в чистый Дух, посвящение моё небесное, рукоположение моё звёздное. Часто чюю: плыву в лодке. Хочу спеть смерть, да глотка моя слаба. А лодка моя крепка. Это не тот дощеник, што посреди сибирской реки жалко утонул; крепок я телом, крепок духом, закрываю глаза и пробую представить себе пустоту; я охотник, вот заяц прячется за моею спиной. Я оборачиваюсь, заяц прыгает вбок. Я хочу скинуть со плеча лук со стрелой, а заяц земной стремглав убегает от мя, зато сбоку подходит, неслышно скользя по тропе меж травы, страшный зверь небесный, цветом мрачнее тучи; егда небесный волк прыгнет, тогда я перейду границу, острее лезвия, между Мiромъ и Мiромъ. Мысль моя остановится, и замрёт всё сущее без движения. А душа зачнёт из тела на волю выходити, и, возможно, она выйдет прямо в память небес, возлетит, радуясь Великой Свободе. Смерть яко любовь. Нельзя объяснить любовь. А любил ли я? Любил ли я мою жёнушку Настасью? Может быть, я во всю мою жизнь любил единую мою духовную дочерь, мою Федосью Прокопьевну болярыню. Ах, болярыня, болярыня, што ж ты со мной содеяла? ты первая ушла туда, во тьму надмiрную; ты первая породнилася со смертию; она тебе крикнула: войди! - и ты вошла. И теперь ты там, по смерти, стала маленькой девочкой, и играешь с великой Царицей Смертью, ровно с робёнком. Нет, это матерь Смерть играет с тобою, яко с дитятей, яко с милой, любезной доченькой своей. Желанная ты для смерти игрушка, Феодосия Прокопьевна! Како же нам быть? Я вижу мою смерть, я зрю огонь, но я не знаю, егда сгорю; аль мя на казнь повлекут и ко столбу цепями привяжут, дров горою навалят под натруженными ногами моими; аль изба воспылает, свеча упадёт на пол, и затлеет кружевной подзор, и огонь обнимет наше с Настасьей супружеское ложе, и закричат благим матом детки, да поздно будет выбегати на волю и спасаться; гореть до конца, до презренново пепла станет моя изба. А может, из мглы времён восстанет сруб, в коем не предавшие веру отцов подожгут себя, штобы в огне ко Господу Богу уйти! Подожгут сруб тот скорбный, лодью погребальну, с четырёх сторон, штобы ярче, громче, быстрее сгорел! а вдруг, людие, я сам есмь огонь, и сам на себя смерть мою навлекаю, такое тоже бывает! Тебя родили на свет и уже приговорили к жизни, и родимое пятно твоё на спине али груди, это смерть твоя, на тебе неотвратимым знаком проступает! Я частенько думаю, как человек убивает человека. Да можно ведь убить не токмо копьём али мечом, огнём и пулею, но и словом можно убить; даже песнею убить, с коей воины идут на смерть. Война! Она началась. Она идёт. Люди опять убивают людей. Во имя жизни? Во имя смерти? Смерть пытается обнять дитя, похитить девушку, забрать с собою в чёрный мешок немощново старца. Я вижу голый череп и разумею: то мои кости. Я вижу их из неведомово времени, в коем никогда мне не жить. У мя нет глотки, штобы спеть иному времени песню. У мя нет памяти, штобы ея запомнить и отдать незнамым людям. Я растерзан, сердце моё разорвано, Бог мой во тьме кромешной, скрылся от мя, севодня, именно севодня Он спустился во Ад, а смерть, она поднимется ко мне из Ада. Я должен обнять и смерть, и жизнь. Я слышу, как мне кричат: не умирай, Аввакум! Останься с нами! На земле таково прекрасно, здесь светит Солнце. А ты сам закатишься, яко Солнце, и на Мiръ опустится мрак. Не умирай, значится, Солнце! То я, я, так выходит, подлинный свет, я есмь и подлинная скорбь. Сие тоже я, я; я улыбаюсь, я смеюсь над собой; я знаю: вот сей час раздастся стук.
***
(военные колядки)
Я иду по дороге войны. Сбиваю ноги в кровь. Ход, ведь это и есть любовь. Не останавливайся! И я иду. Мальчик держит мя за руку на ночном холоду. Обочь руины. Расстреляно всё. Святки. Катится звёздное Колесо. Знаешь, мне уже всё равно, быть или не быть; но мальчик ведёт мя, просит есть и пить, на моём родном, на чужом языке, моя рука в его руке, его малая жизнь дрожит в сожжённой жизни моей, он мне песню поёт, святочный соловей, так мы колядуем походя, по пути, я не спрашиваю, далеко ли идти, соловьиные звёзды, алмазный придел, люди Мiръ расстреляли, никто уйти не успел, а мы идём, под ногами снег, запомни мя, мальчик, прежде всех век, я твоя матерь Жизнь, нам матерь Смерть не нужна, постелем белую скатерть, и кончится война, споём у калитки колядки, нам вынесут красные пироги, идём с тобой без оглядки, рисуют звёзды круги, так пахнет кровью ли, дымом, горелой доской бытия, идём, мой мальчик любимый, колядка живая моя.
***
(Аввакум и матерь Смерть. Свидание)
Ты пришла, ты всё-таки пришла. Я не могу тебя понять. Ты последний мой вздох, али одна ты стоишь на самом краешке моей жизни, али ты што начинаешь? Ты убиваешь мя. Да, ты опасна, хоть и улыбка на твоих устах; я крепко пожимаю твою протянутую руку: заходи, моя нежная, потолкуем. Я не вижу тебя и одновременно вижу; теперь наступит война или немного времени спустя, после тово, как ты мя заберёшь с собою, всё равно; ведь война уже началась. Мiра прежнево нет. Времени старово нет. Ты моё время. Повремени, смерть, повремени; то смерть не моя, времени, а не меня на земле. Время повернётся, и я уже не вернуся. Смерть разъедает губы мои рыдальною солью и угрозливо бормочет мне: в миг, когда я возьму тебя с собой, тебя уже не будет. Посему помни твои последние вдохи и выдохи. Пока ты помнишь - ты дышишь. Пока ты дышишь - ты помнишь. Помни войну людей с людьми! Помни войну со мной! Некто там, вдалеке, за морями-окиянами, в незнаемом времени, слышит, как в последний твой земной миг громко бьётся твоё безумное сердце. Опасна смерть лишь для живово: горе, боль, ужас. Для живово, живущево она наступает здесь и ныне, и она тихо кидает прощальный шепоток: да, вот ты готов; и вдруг я понимаю, я ищо не готов, я ищо не допел мою последнюю песню... песню... Я ищо не допел мою стихеру, мой ирмос, мой любимый кондак, мой любимый Пасхальный тропарь: Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав! Мои волосы седы, моя борода белее льда, и мне уже всё равно, како дрыгаются моя рука или нога, целый али отрезанный мой язык како шевелится и рыбою прыгает во рту, и я могу глаголати, словом, яко мечом, бити, али молчанием наказан до самово твоево явления, смерть?! Отрубят мне руку, ногу, четвертуют ли, ежели выживу я, ежели выживет моя мысль и будет биться внутри мя сердце, значит, ищо нет тебя, смерть! Страдать, любить жизнь, испытывать боль, сие значит жить! Смерть, ежели ты моё превращение, ответствуй: я престану быть человеком и в тебя, неведомую, обращуся? и она отвечает мне: да! Я твоё превращение, твоё обращение в веру мою, в то время, где нет веры, в то пространство, где нет жизни, но там, знаешь, открою тебе тайну, там даже смерть дрожит пред великим молчаньем Вселенной. И дрожит мой голос: каково то мгновение? каким я буду ево ощущать, страшным али блаженным? как я ево переживу, переплыву? кто проводит мя до Порога? кто будет держать мя за руку? Настасья, дети? Я же останусь совсем один! Един яко перст! Родненькие мои станут будьто рядом, близко, и, однако, они очутятся далёко-далёко. Меж мною и ими будет лежать целое небо. Они будут глядети на мя, ищо живово, а я уж буду дышати землёй. Где я буду пребывати, смерть моя, скажи, в те поры, како ты придёшь ко мне; егда придеши? Шепчет она: никто из смертных не ведает о моём приходе, только тебе я скажу об том.
Огонь. Огонь.
Это всё, што я могу тебе открыти; ты здесь, и ты уже не здесь, ты прозрачен насквозь, и ты есть величайшая тайна, ты всё, и ты уже ништо, с тобою никто не уйдёт, тебя никто не встретит. Я кричу смерти: и даже Бог не встретит там мя, грешново?! тамо и тогда, егда я перейду Порог?! Усмехается смерть: нет, там, где царствую я, никакого Бога нету в помине, там есть только везде и нигде, нигде и везде, никогда и всегда, всегда и никогда. Я нахожусь на грани двух миров. Узнаешь их. Кричу ей: смерть! Я хочу узреть Тот Мiръ, но будет ли у мя там зрение? Будут ли у мя глаза и уши? Будет ли у мя любовь и ненависть или же не буду испытывати ничево? Како ощущать ничево? Како мыслити ни о чём? Так значит, смерть, ты ништо, и всё зряшно, о тайне твоея людям века напролёт балакать?! Есть тайна, отвечает она, ты не поймёшь нынче, лишь когда переступишь Порог: умирать лехко. Тяжело лишь думать обо мне и приближатися ко мне. Ты хочешь жизнь возвернуть, ея дотла проживши? Кричу: не подходи ближе! ни шагу ко мне! я ищо не спел мою песню! Я ищо не возгласил мою последнюю проповедь! Во имя подлинново Христа Бога ты всё врёшь, смерть! Бог есть! Он есть даже там, где Старец ложится сам во гроб, там, где сожигают селение и крестьян ево в кострище войны! Змеятся губы ея в ухмылке: хочешь от мя убежати? Да, хочу, кричу! Ты можешь попробовать то содеять, отвечает она мне хитро и вкрадчиво, время твоё бежит быстро, ты не знаешь ни дня, ни часа твоево конца. Ты только зришь огонь, огонь предостерегает тебя, огонь страшным, вопящим хором прозвучит тебе, а ты знаешь ли о том, человек Аввакум, што твоя смерть слагается из множества людских смертей, што она не только твоя, а я, твоя смерть, пропитываю и пронизываю собою каждую минуту всяково, наималейшево людсково существования? Жизнь, знай это, останавливается, ежели нет конца; ежели есть конец, то есть и начало; жизнь без конца прекращается и безконечно рождается, и для тово, штобы жить, надобно умирать; вы, люди, только и делаете, што умираете, и другово занятия у вас нет; я ваша подлинная Царица, а не Царица Небесная, и мне вы должны молиться, а не Богу вашему.
Я внезапна и я длюсь, я полна надежды, и я безнадёжна, я непрерывна, и я всё время исчезаю; я шаткий мост над пропастью, и ты не знаешь, перейдёшь ты ея али упадёшь вниз и разобьёшься весь, но так или иначе в конце пути тебя жду я, я, я. Я отворачиваюсь, не могу на нея глядети, я шепчу ей: ты пришла прежде времени, ты моя убийца. Да не нужно мне тихой кончины! В глубокой старости не надобно постепенново угасания; я всё время вижу округ себя бушующий огонь; приди в накидке огня, приди ко мне во огненной понёве, встречу тя с радостью. Я не хочу долго жить на земле, но я не хочу случайно завершить путь и случайно начать ево снова. Я хотел бы приготовиться как должно, и штобы ты стояла у праздничново стола моево, у богато и густо украшенново каменьями трона моево, и штобы я побыл хоть немного на земле Царём судьбы моея, а потом усадил тебя, смерть, на мой трон, встал пред тобой на колена и поцеловал костлявую руку твою и сказал: не боюсь тебя, служу тебе и век буду служить, я не умру от старости, я от огня умру. Обними мя, огнь мой покажи мне!
Смерть протянула ко мне руки, я увидел вместо скелета, костей ея два ярких красных языка огня; они колыхались на сквозняке, дверь в избу была открыта; ты знаешь о том, што ты вступаешь на невозвратный путь, так вопросила. Да, знаю, кивнул я, ништо не вернётся. Всё уничтожено, я прошёл все дороги. Я сказал людям о том, кто они есть в Мiре и кем они станут потом, когда на Страшном Суде разверзнутся все могилы, и кости оденутся плотью, и люди выйдут из гробов повапленных, под землёю истлелых, на свет Божий, подлунный, и узнают друг друга, и обнимут друг друга, и заплачут; время, будет ли тогда время, опосля Страшново Суда? Смерть посмотрела на мя пустыми глазницами. Нет времени, уже нет, оно безповоротно, как всё на свете. Мы не можем повернути времячко вспять, мы не властны, протопоп, вернуться в прошлое. Часы отмеряют наше земное время, но какие? Небесные часы? отмерь нам время нашей души в посмертии, егда окажемся мы там, где оказатися суждено каждому, но никакой человек ищо не возвернулся оттуда, штобы поведати, што же там такое; есть ли там Мiръ, иль нет ево. Смерть тихо вопросила мя: хочешь ты стать вновь молодым? А хочешь ли, когда умрёшь, возродиться? А может быть, ты, протопоп, хочешь перестать стареть? Я глубко и тяжко воздохнул. Престати стариться? Не шути со мною, смерть. Разве такое чюдо возможно? Я и так уже старик. Борода моя бела-метельна. Ежели я вновь стал бы молодым с виду, маята пройденных дорог давала бы о себе знать; прожитые годы валуном придавили бы мя к земле, а слёзы о пережитом всё лилися бы и лилися из очей моих. Эх, зачем мы живём тако печально, вопросил я смерть. Она молчала. Она не могла ничево ответить мне. Всё необратимо, всё невозвратимо, но почему? И, ежели нельзя вернуться, значит, нельзя и возродиться, нельзя воскреснути; и значит, Господь сочинил для нас дитячью сказку о Втором Ево Пришествии и всеобщем людском воскресении на Страшном Суде! Вот видишь, Аввакум, спокойно сказала мне смерть, ты, оказывается, всё-таки еретик! ты себе противоречишь; часы не остановят бег, время не слышит нас, время утекает, время уходит, и вместе с текущим мимо Мiра временем уходим мы, потому што мы и время, это одно и то же; самое страшное, да надо смириться. Смиряется же человек с самим собою, отражённым в зерцале. Я смирился, о смерть! так горестно воскликнул я; я подчинился судьбе молодым парнем, я думал о старости с ужасом, а нынче я думаю о ней с радостным спокойствием! Я не мог понять, отчево на свете существуют кровопролитные войны, а теперь я сие понимаю и принимаю, знаю: убийцы, бунтовщики, преступники, разбойники, воины конные и пешие, опричники, головорезы, мстители, они запросто обращаются с чужими жизнями, они нападают на людей, убивают их без жалости ножами, бердышами, топорами и копьями; они, ежели християне, в тайные минуты уединения падают пред образами на колена и молятся Богу, и плачут: возьми, Господи, от нас чашу сию, чашу злобы и жестокости, и обрати нас в радость и милость, к добру и счастью, ибо умрём мы, ежели станем такую жизнь продолжати. Да уж лучше смерть, Господи, чем такая-то жизнь.
Любовь и Милосердие, смерть! Есть ли они в тебе? есть ли у тебя душа? Отвечает: нет, я никто. Имени нет, души нет, мыслей нет, ничево нет; веры нет, памяти нет. Разве помнишь ты, человек, первое мгновение своё на земле? так же ты и последнее своё мгновение не упомнишь. Как ты родился, не расскажеши никому и никогда, да и сам не знаешь. И как ты умрёшь, ты не знаешь. Ты произносишь слова: всегда и никогда, а наипаче при прощании с любимым человеком, и сие прощание ты хочешь видеть вечным; ты хочешь, штобы длилось оно безпредельно долгое время, али штобы стало так в будущем не раз и не два, штобы всё повторялось, всё приходило опять. Вот прихожу я, смерть, и вот моё торжество наступает, моё царство, я праздную. Время необратимо, но и мя не обернуть; не вернёшь времени, и не вернёшь меня. Важное и медленное течение времени, огромной ево реки, непоправимо и неизследимо; всё появляется и исчезает. А я, я появляюсь и не исчезаю! Умирают лишь однажды, но умирают безконечно, потому што умирают все: и звери, и птицы малые, летучие, и жучки крохотные, и змеюки коварные, ядовитые, и люди, кто себя осознаёт живым в вечно умирающем Мiре. Едва родимся, красные, орущие, нас уже бросают в неистовый водоворот бытия. О смерть! так закричал я. Я тонул робёнком в омуте, водоворот и мя затягивал! речка наша малая, ямы да омуты в ней; щуки там водились толщиною во бревно. А Никитка, дружок мой зимний и летний, всё кричал: там, на дне, знаешь кто живёт?! дьявол, дьявол там живёт! Утянет он тебя, во тьму, на дно утянет! Может быть, ты там мя ждала, смертушка, но не дался я тогда тебе робёнком. Хотя тонули детки в селище нашем, тонули, и ревели, голосили матери, волосы рвали на себе, выдирали в отчаянии космы, обливались напрасными слезами. Наша смерть для нас всегда в будущем. Неужели ты здесь, рядом со мной, настоящая? тебя ищо нет. И ты уже есть. Вот што странно. Што такое умереть, скажи мне, смерть! и ответствует мне она: умереть, то престать быти, тебя боле не будет посля меня, потом, а ты знаешь, не будет никаково опосля, не будет у тебя будущево, протопоп, когда наступит царствие моё, ничево там не будет: ни крестьян, ни Царей, ни протопопов, боле ничево нетути на все времена. Ну-ка, знаешь-ка што? слово БЫТИЕ, произнеси-ка ево ищо раз, повтори, посмакуй, яко угощенье Царское, яко стерлядку жирную, янтарную, в устах своих. А што такое НЕБЫТИЕ? Да то очень просто, проще пареной репы. Не быть, не жить. Уничтожу тя, и не скроешься, не спрячешься от мя, ни в подполе, ни в погребе, небытие начнётся для тебя севодня и будет продолжаться всегда; умирают только один раз, и сие происходит на веки вечные, на всё время, што холодно, вьюжно расстилается пред тобою. Понимаешь ли ты, протопоп, что означают эти звуки, НА-ВСЕ-ГДА? мы не можем их осознать, то яко детская погремушка, слово НАВСЕГДА гремит над нами, птицей во веки веком чирикает над нами. А ведь на самом деле, протопоп, она льётся, льётся, твоя красная смерть. Смерть, воскликнул я, значит, ты есть кровь, значит, льющаяся кровь самая жизнь, из жизни самое святое, самое живое изо всево живово, и значит, ты... врунья презренная!.. ты!.. ты рядишься в одежды жизни. Ты притворяешься, ты лжёшь нам всем, и слышим мы свой предсмертный хрип, и понимаем, за ним не будет никаково другово нашево хрипа, ты, человече, перестанешь и хрипети, и дышать, чрез миг молчание стеснит бледные губы умирающево, и последний выдох растает, и последние слова песни твоей оборвутся на краю пропасти вечного молчания. Последняя воля! Моя последняя воля! Никакая она не священная. Я же умру на костре! Священен только огонь, и всё, што я выкрикну людям с моево костра. Всё это они забудут, уйдя домой с широкой площади, от созерцанья жестокой казни; всё, што я желал, я желал при жизни, прежде чем навсегда перестать што-либо желати. Я убеждал ближних моих в жалкой правоте моей, я помогал жене моей, но никогда не оставлю ей предсмертного напутствия: сделай, мол, после смерти моей то-то, а то-то, жёнка, не надобно делати. Делать нечево, надо просто жить и просто дышать; умом я осознаю, што и Настасья умрёт, и детки наши умрут; моё с ними прощание, моя завтра смерть. Но ведь никакого Завтра нет, есть только севодня, есть только ты! воины во сражении добровольно идут на смерть, Родину защищая, и жертвуют своею жизнью с радостию. А в глубине души они всё равно надеются на своё Спасение, жаждут выжить в мешанине смертей, в кровавой дикой людской каше.
Прощание, смерть... Дай мне с моими любимыми распрощаться, ведь в жизни всё и всегда встречается и прощается. Вот мы с тобою, смерть моя, встретилися, встретились прежде твоево прихода ко мне, зачем-то мне Господь тя показал. А может быть, вечен наш страх, он всегда живёт в нас, невозвратный уход. Ты Смерть! то конец; час безповоротный; после таково конца нет никакой надежды воскреснуть. Зачем я по эту сторону, а ты уже по ту? Откуда ты глядишь на мя? не за моим столом ты сидишь; прощание, молчание, мы молча попрощаемся с тобой, но я не люблю тебя. Я хочу прощаться с теми, ково я люблю. Это они наденут чёрные одежды, будут заказывать заупокойные богослужения; помни, будут петь панихиду по мне, будет звучать в ладанном сизом воздухе скорбная лития. Сколь на земле песен!.. всё о тебе, навечная разлука, о тебе, с жизнью прощание, да о тебе, матушка Смерть. Матерь Смерть, вот ты кто у нас. Есть Матушка Богородица у живых, живущих людей; есть Матерь Смерть у всех, кто навек во твоё Царство утёк безвозвратное. Есть ли што на земле, што я могу исправить, наново прожить? всё, што мы сотворили в нашей жизни, мы не изменим. Ни живя на земле, ни потом, после тово, как наступит твоё Царство, Царицы ледяной, снежной. При жизни у нас был выбор; после жизни ничево не выберешь, ни капельки. Даже ежели там, в небесех, живут и странствуют во облацех души, мы можем лишь возрыдати о том, што мы, глупцы, содеяли, а поправить уже ничево нельзя, грех нельзя исправить, вот самое-то страшное. Неси клеймо, нечестивый, деяний твоих на тебе! А кто там, в посмертии, буду я? Я блудный сын, и я возвернулся к моему отцу. Есть ли там, рядом с тобой, Матерь Смерть, Господь Бог? Я, старик, хочу стать робёнком и обнять Ево колена, я не смогу изменить сотворённое, я не смогу исправить непоправимое, но я смогу за грехи мои попросить прощения у Тово, Кто всё простит. Ты же, смерть, ничево не простишь. Бог может всё, я ничево не могу. От всей нашей жизни ни кусочка времени не оставляеши нам, даже на сожаления, слёзы сетования о том, што мы из жизни к тебе в объятия перейдём безоглядно. Нельзя отменить смерть. Соединяется в тебе всё. Ты, Матерь Смерть, держишь нас в твоей горсти, но ты не можешь напитать нас сосцами твоими, грудью твоею, ибо вместо живой плоти у тебя кости, а вместо живых целующих уст у тебя голый лунный череп, ты сама умерла, смерть, ты покойница, ты лежишь во земле, и мы становимся все, приходя к тебе, похожими на тебя... как дети на Мать похожи... а Воскресение? Воскресение, смерть! ведь Христос воскрес! ведь Пасха, Пасхальная радость, счастье, хоть один Он, хоть единожды, да воскрес! Всё равно нам всем показал: вот он, Свет, вот она, радость Возрождения! И так, как Господь наш Исус, все мы возвратимся в жизнь на Страшном Суде! Што молчишь? Не веришь тому?!
И так отвечает мне смерть: нет, не верю. Христос воскрес для вас. А для меня никаково Воскресения нет, есть только смерть, есть только я, я общая Матерь, я превыше всех богов, всех диаволов, всех людей, всей живой поросли, всех мёртвых планет; во страну смерти входят, яко зерно в мельницу насыпают, я всех мельничным жёрновом перемалываю, все превращаются во звёздную муку и рассыпаются по небу. Неуловим ваш свет, живые, он становится светом мёртвых. Вы корчитесь в последних муках, вы ждёте от меня последнево удара, и вы надеетесь, а вдруг вы оживёте, вдруг некто из ближних ваших взмолится Богу, и наступит ваше блаженное Воскресение, ваша тайная, и боле ничья, Пасха, и повторите вы радость Христову, и возрадуется всё вокруг, и наступит новая весна, и священный Божий Мiръ запоёт вокруг вас снова всеми птицами-синицами, и побегут по синему, лазоревому небу облака... так Христос воскресил Лазаря; Лазарь, восстань! крикнул Он ему, и вышел Лазарь из гроба, из ночи, из погребальной песни, её спели для тово, штобы утешить вечно уходящих во мрак. Возрождение, Воскресение, несбыточная мечта! Тот, кто воскрес, уже совершенно новый человек. Он не помнит себя прежнево, он вдыхает земной воздух и начинает новую жизнь после смертново порога; ежели возвернулся ты, зачал ты Мiръ читать с новой страницы. Возрождение не продолжение прежней жизни; ты забываешь всё, што было с тобой. Я, Матерь Смерть, стираю твою память, выливается твоя прежняя кровь, и внутри тебя весело бежит новый красный огонь, новая жгучая кровь омывает потроха твои и душу, смывает все больные зарубки и родимые пятна, грязь и позолоту. Память и безпамятство, нет их в Царстве моём. Я знаю, ты хочешь жить; ежели ты хочешь, я оставляю тебе жизнь. Ты думаешь, я милостива, ты мыслил, я жестока, а я на самом деле ни добра, ни жестока; просто я твоя смерть.
Так беседовали мы, я и смерть моя, и всё сильнее дрожал я, како на ветру, на холоду, будьто ледяной ливень посекал мя, мои щёки и плечи, и негде было укрыться бедному протопопу. Я не мог её боле слушать. Она не могла боле глаголати; замолчала. И тихо на мя смотрела пустыми глазницами, незряче, слепо, тёмно, смотрела двумя безслёзными прогалами вечной беззвёздной тьмы. Я пытался заглянуть под костяной лоб ея. Страшные глаза ея, глаза тьмы, видели всё. Наблюдали всю нашу, суждённую нам жизнь. Однажды приблизится сей полнощный череп к тебе, приблизятся озёра тьмы, вберут твои зрачки два чёрных омута, и ты должен туда шагнуть, хоть и боязно тебе, и неохота тебе, и больно тебе, а час твой пришёл. Дрожал я, сидел молча. Потом встал из-за стола, поднялась и Матерь Смерть; так стояли мы друг против друга. Не дрожала вострая коса в ея костлявых руках, сползла с ея льдяново затылка белая грязная холстина, извазюканная во сырой кладбищенской земле; из-под подола высунулась скелетная стопа, и вдруг... ну разве ж то не чюдо, великое чюдо... вмиг оделась моя костлявая смерть нежной кожею, стала красавицей, стала голубкой-девицей, широко распахнулись небесные глаза, глаза лазурные, ясные насквозь, просвеченные Солнцем. И так глядела эта девица на мя любовно, радостно, како в Пасху люди друг на друга в любови глядят, и протянула ко мне рученьки белые и тихо прошептала: Аввакуме, батюшко, обними мя, поцелуй мя, попрощайся ты со мною до времени, я приду ищо к тебе, не скучай по мне, ведь я одна люблю тебя, я одна помню о тебе, о тебе воспомню, явлюсь пред очи твои ясные, и тогда возьму тебя за руку и уведу в своё Царство-государство, а теперь живи на свете! Да помни обо мне, всегда помни обо мне, не забывай мя, не верь тому, што люди обо мне говорят: я ужас, мрак, боль, горе, тьма; я не тьма, не реки так никогда, я счастие твоё. Я, Матерь Смерть, на самом-то деле безсмертие твоё. Не убоялся я ея, протянул руки, обхватил ея за плечи, приблизил к себе, хотел крепко в объятиях стиснуть, да сжал только воздух, лишь тоску-пустоту обнял и прижал к сердцу, вдохнул глубоко, и чую запах полыни, горечь великую чую, и будьто кровью, людие, кровью пахнет... шагнул я назад, огляделся, изба пустая, ни Матери Смерти, ни звезды за окном, снег тихо мерцает, слышу стоны, хрипы, бормотанья ночные, ближние мои сновидят в ночи, спит Настасьюшка, спят детки, мои наследники, продолжение моё, вот умру я, они будут жить, в них моя кровь течёт, разве сие не победа над тобою, Матерь Смерть? што Ты кичишься собою и Царством твоим безконечным? Род, вот наше Царство! Род людской, вот счастье людей, вот их воцарение, вот их безсмертная, во времени летящая судьба! А што такое род? то наша кровь есть! Склонился я над колыбелькой, где спал мой сын родимый, глядел на ево лицо, личико светлое, разметал он ручонки, во сне посапывал, чуть дрожали реснички ево, чуть шевелилися волосёнки ево от дыхания ево... сам я лошадиными ножницами постригал намедни ево. Настасья, жёнушка! детки наши вымыты были, накормлены, даже в голодуху, сами с голоду помирая, последний мы кусок изо рта у себя вынимали, а деток кормили. Такова судьбина человека, заради спасения подобново себе хоть кусок последний, хоть рубаху исподнюю, издырявленную, хоть жизнь твою, до дыр истрёпанную, отдать! хоть до смерти всё, што имеешь, отдавать и отдавать! особливо ежели то дитя твоё, ежели тот, бедолага, блаженный и немощный, и не может сам себя прокормити. Много юродивых по лику земли слоняется. Много детишек во бедности и сирости возрастает, и, выросши, уж мужиками да бабами к чужим людям прибивается, просит у чужаков милостыню, клянчит-молит безпомощно. Што дитё, што юродивый, люди Божии; не могут они сами на свете жить, не могут прокормиться, им нужно, штобы вечно кто-то им руку протягивал и хлеб в той руке держал и в горсть им влагал, штобы ели они, несчастненькие, и насыщалися. И будут есть они, но благодарить тебя не будут. Матушка Смерть, она побывала у мя в гостях, што она мне сказала, я тут же и забыл, лишь ток крови во себе слышу. Бьёт кровь моя мне в уши молотом тяжким, и вновь не знаю я часа моево, тако же, как никто из живых, живущих на земле людей часа своево не знает.
***
(плач о потерянном Мiре)
Девочка, ты веди мя, веди. Я твой отец, с ладанкой на груди. Я твой сын, ну и што, борода седа. Хоть куда мя заведи, хоть в никуда. Девочка, ты святая, зрю, воистину ты свята. Чую, как сладко и чисто дышат твои уста. Девочка, слава тебе, тебе исполать; да ты, смеясь, запретила себя по имени называть. Сколько по дороге мы видали убитых детей! Ты шептала: о них помолися, их пожалей. Сколь на пути нашем мы видали огня! Горела жизнь. Ночь пылала светлее дня. В огне горел старый Мiръ. Горел мой родимый дом. Я плакал кровью. Я говорил с трудом. Девочка, прошептал, а ежели мы умрём? Она улыбнулась: предстанем пред звёздным олтарём! И тут зарыдал я, обратясь во плачущу свечу: дитя, не хочу ни к каким я звёздам! я жить, жить хочу! А по обе стороны дороги волком старая выла беда, и плакали дети и боги о Мiре, што ушёл навсегда.
***
(Раскол - трещина расползается)
Бездна! Гибель!
Нет жизни больше и не будет.
Да в это же невозможно поверить!
Кровь-то по жилам течёт! И не только у мя... у всех, всех, кто движется и дышит, дышит и летит, и ползёт, и скачет, и бежит, убегает от смерти... от смерти...
Да разве ж от нея убежишь! Нет таковой беготни, штоб Смертушку-Мать опередила!
Ищо тепло мне, тёпленько во членах. Ищо тяжко, глубко я воздыхаю. Мыслишки ищо шевелятся под чугунной, крепкой костию черепушки моея.
Но како, како уловити мне было тот миг, когда земелька под ногами треснула-затрещала, заблажили изнутри ея голоса-голосища - всех разом воспомянул: и Феодосью, Ангела победново, предводительшу Войска на небе красново, Церкви воинствующей; и Настасьюшку, Ангела кротцево, нежново да покорново, иной раз от покорности той ея возбешуся, да руку, ой, руку-то на нея старался, Господи Сил, не подымать... разве ж можно на Ангела - руку!.. не будет чрез то мне прощенья, ежели так бы содеял, думал я, пряча кулак тяжелый, чугунный за спину, а ведь человек слаб, слаб человек, подвержен лютому гневу... вот он и есть Раскол-то, гнев, гнев людской... сердитки человечьи... кто на ково обсердится... кто кому под ноги плюнет... кто кому во спину - булыжник швырнёт...
Сегодня мы пока ищо живые, мы все ищо живы, а трещина растёт, а треск всё громче раздаётся, гром и грохот, и наступает миг, когда, людие, мы перестаём всё слышать.
Мы ищо видим.
Мы ищо видим, как растёт, ширится, великанскою становится та страхолюдная трещина, как глядится рваной раной тот Разлом в земле... нет, в небе. Да, то небо треснуло пополам! то небо раскалывается, разрывается, и сей миг из нево, из неба живово, польётся на землю кровь, и мы все искупаемся в крови, и мы омоемся кровью. Зачем нам жизнь? Зачем Господь дал нам жизнь? Только лишь затем, штобы мы продолжили ея, родив на земле детей не на счастие, на муку мученическую? Всё шире Разлом, рваные лохматые, кровавые края раны уж не слепит ловкая бабья рука закраиной пирога, не сошьёт никто, ни Бог, ни человек, ни холодная хрустальная звезда, вон она, напрасно тянет к земле метельные, прозрачные, снежные руки-лучи. А я стою на костре, внутри костра, я стою внутри огня, и Раскол, Разлом, рана земли, небесная рана, под моими ногами и над моею головой, тако истончается моя жизнь, моя и только моя, а вы все, людие, не бойтеся, вы все будете жить, вы будете дышати опосля погибшево мя, но почему же мя не будет рядом с вами?.. а потому, што я остался по эту сторону Разлома; потому, што Раскол прошёл чрез мя и сквозь мя грешново, разрезав мя надвое, разломив, как кусок хлеба, краюху ржаную. Да, я ржаной! Да, я ситный! Да, я калач, я взошёл на опаре, я человечье тесто, но слепили мя однажды пирогом могучим; это Бог вылепил мя, выкинул на пищу людям и зверям, растёт и ширится Раскол, растёт и вырастает до небес огонь, рана небесная смыкается с земною расщелиной, Раскол, зачем мы разорваны, почему мы не едины?! И для тово, штобы возсоединиться, надобно просто обняться. Обнимемся, люди милые, люди любимые! Давайте обнимемся! Тяну руки к вам из огня, из костра, тяну на тот берег, там, за пустотой, иной брег обетованный, иное человечество глядит на мя, в огне горящево, сгорающево... вот скоро стану крошевом, пеплом! А вы, вы люди мои нынешние, грядущие! достанет у вас сил из огня выхватить мя? Попробуйте! попытайтеся! а пошто, пошто вы спасёте мя? опять на страдания? опять на муку смертную? А я бы хотел, штобы на радость, на счастие. Как человек хочет счастия! како ждёт он ево, призывает, целует, голубит, гладит мыслию, гладит дрожащей предсмертной рукой... Раскол, Раскол-то ширится, Раскол заполняет собою всё целое, и целово, людие, больше нету, есть только разломы, отломы, надломы, осколки... зерцало бьётся в осколки, в том зерцале отражается наш Страшный Суд, наш Божий Суд, а человечий суд приговорил мя к сожжению, и вот глаголаю я из пламени, и вот говорю и сгораю. Это война! Это война! Кто ково накажет в ней последним огнём?! Кто первым огонь разжёг?! все причастные молчат, только дрова подбрасывают в жадное пламя. Огонь! пожри нечестивых! накажи неправедных! спали ненавидящих! Они первыми хотели напасть, да мы их опередили! Кто ково, людие, опередил в войне?! Разве всеобщая гибель, то дитячьи счётные палочки: первый, второй, третий... последний, а дале горячая слепота?! И задыханье, и Адская боль, и густой чёрный дым?! Спаси, спаси, Господи, наш Русский Мiръ! Не дай Бог вам, людие, погибнуть в огне, во всемiрном огне, а ведь вот он, в небесном Разломе, в земной пропасти, языки подземново огня вырываются наружу, подбираются к нежной земляной коже, запечённой Солнцем корке... земля, ведь она тоже пирог... И лучи небесново огня отвесно падают на широкий хлебный Разлом, на разрезанный ситный земляных грозных небес. Огненный дождь льётся на землю, да это Судный День, последний день, и люди летят, люди парят в небесах чёрнопламенных, горят огнём их голые тела, хватаются они за руки, бешано крутятся в пустом пространстве, в саже Вселенской, им нельзя дышати среди звёзд, што сыплются хрустальными злыми, ледяными ягодами из Божьево туеса, из громадново небесново сундука, они сыплются вниз, на землю, и те, кто остался в живых, кто жив ищо, хватает ту манну небесную, ледяную последними глазами, устами, руками, ведь это свет, ево надо крепко в кулаках зажати, к сердцу прижать, упрятать за пазуху, яко щенка, котёнка, новорождённого младенчика, свет завсегда младенец. Свет - брат огня! Огонь, огонь, чьё ты дитя? Я в тебе проповедую, тебя взахлёб пою и во тебе сгораю! Огонь, ты старый горящий крыж, красна твоя борода, красны пальцы твои, они воздымаются к небесам, золотой становится зенит, златом над затылком твоим пылает и плавится у тебя, казнимый, под ногами, ты умираешь, а огонь живёт, ты вопишь, а огонь бешанствует, ты выталкиваешь изо рта последний кровавый живой крик - а огонь закрывает тебе рот мощной, золотой, красной, дикой, последней ладонью.
***
(пепел Аввакума сбираю в ладанку и вешаю на грудь. Мой крестный сон)
Собираю пепел. Здесь сгорел человек.
Собираю то, что осталось от человека.
Господи! Ты сотворил еси человека на земле для тово лишь, штобы он убил, изничтожил другово человека - брата своево, друга своево! Сродника своево... единокровника...
Война. Она опять идёт. И отдышаться не успели.
Война! Братья убивают друг друга. Взрывают. Сжигают.
Все мы друг другу родня. Во всех едина кровь замешана; и струится по жилам, и хлещет, коли нас разрежут-разрубят, мечом расколют, раскромсают. Диавол злохитрый, диавол любодейный, диавол поганый: ево вера - ненависть, ево клятва - меч да секира.
Ты сгорел здесь, мой отче, брате мой Аввакум. Жизнь моя, старец мой, вечный юноша мой; сыне мой; праотец мой; брада твоя по ветру вилася, яко огнь палящий, небеса собою поджигала. Небеса, небеса. Хожу по пепелищу; северная холодная ночь спустилася; выпь страшно кричит; останки твои, мой родной человече, в ладанку собираю.
Пепел ищо горячий. Обжигает мне пальцы.
Да што я! Сердце обжигает.
Мы-то на земли живём-живём, хлеб едим да воду пьём; шти то с мясом, то без мяса; то на праздник пляс, то во горе нету пляса; кто мы на земли таковы?.. тише воды... ниже травы...
Здесь человек сгорел. Человек! Ведь не Бог же!
...а ведь и Бога Господа нашево взяли и распяли. Гвоздями толстыми, длинными, корявыми ко Кресту приколотили. Разве то по-человечески? Разве то не диаволово деяние? Што тогда с людьми сделалося, што они, многогрешные, такую Богу казнь удумали? К чему тако сильно, безумно, неудержно дали вырваться из груди вон немыслимой злобе своей? Вот все бают: зверино, зверино. Да зверь лучче человека иной раз! Чище! Милостивее! Хищный - да, человека загрызёт; жрать ему всяко-разно потребно, да и мстит он охотнику, ежели охотника встретит во густой чащобе без ружья. Человек наисамый страшный зверь. Сие давно подмечено, да не мною; Временем самим. Людие, людие! Зачем вы, нечестивые, в пепел сожгли отца моево, наставника моево, великово Учителя моево? И не смогу, яко Магдалыня в ту достопамятную ноченьку, я кинуться на колена пред Учителем, протянуть к нему ручонки мои сирые, жалкие и воскликнуть во всю хриплую от счастия глотку: Равви! Ты ли!
И отец мой, сродник мой, великий Учитель мой не шагнёт с кострища навстречь мне, не улыбнётся светло, горько и чисто, не вытянет руку предо мною ладонью вперёд, себя - от меня - защищая, меня - от себя - охраняя: милая, родненькая, да ты ж не прикасайся ко мне, ибо не улетел я ищо на небеса желанные, не вознёсся горе, не восшёл по золотой горящей лествице к родимому Богу, предвечному Отцу моему...
Пепел. Он жжёт мне ладони.
Пепел протопопа. Он жжёт мне сердце.
Я сей час в ладанку пепел-то соберу да за гайтанчик на груди повешу; вот так, так; хорошо, мешочек холщовый, малютка, ты у меня на тёплой груди угнездился; пепел тёплый, живой, ищо костер не остыл, ищо угли тихо шевелятся, нежным синим светом горят, красным Адовым огнем мигают. Живые, будьто зверьи глаза в буреломе. Всё живое. Всё. Камни живые. Бают, камни движутся, тихо ползут, и через тыщу лет с места на место могут переползти. Звёзды живые; они то вспыхивают, то гаснут; время их жизни не измеряется земным временем, не колышется земной кружевной занавесью. Мы не можем исчислить их путь, зреть их судьбу. Однако вот вспыхнут они в полночи, и зачнут падать, и густо таково валятся, бешано, люто - и ты понимаешь: тебе, тебе, жалкий, крохотный человечек, жить осталось минуту, а звёзды - вот они, вечность целуют-милуют, украшают хрустальными бусами спящую землю нагую. Звёзды, небес украшенье! Дальнего гиблого огня вдалеке движенье. Дальних казней пыланье. Костры и сожженье. Желанье и расстоянье. Между мной и тобой - кто задрожит солёной губой?.. Кто прошепчет молитву седую, святую?.. Кто шепнёт еле слышно: не плачь, дай я тебя... поцелую...
Пепел. Вот и ладанка уж почти полна. А будьто мешок без дна. Словно бы в чёрный мешок небеса, пепел твой, отче Аввакуме, сыплю, кладу, кладу - воззрю на звезду - от усталости-боли едва наземь не упаду - во снеговую, во грузную ступлю борозду - а смерть, смерть моя, сколько ж ты раз приходишь в году...
На веку... вон висишь на суку... улыбается твой голый безумный рот... зажмурюсь, и тако, слепая, перехожу твою реку вброд...
И всовываю я башку мою бедовую, лихую в петлю гайтана, а на нём ладанка с пеплом Аввакумушки моево качается-раскачивается, будьто колокол, да только беззвучный, безгласный, безмолвный... гордый колокол-то, молчит... али вырвали у нево язык, язычище... и вместо звона-крика - внутри, в медной чаше ево, лишь ветер гуляет-свищет... лишь Небесный Волк, горя красными зраками-звёздами, неутолимо рыщет... а я тут, на земле, во снегов хрустале... то ли трезвенька, то ль навеселе... ступаю босыми ногами во мгле... ступаю по снегу, по разъятому веку, по рытвинам-ухабам, по мужикам-бабам, по царям-господам, никово не предам, а всем лишь горбушку хлебца подам... от сердечка, хоть сама-то не вечна... хоть сама-то - тощая свечка... во небесном храме, продутом всеми ветрами... во небесной чёрной яме, заваленной звездами-снегами... Аввакумушка... я же тут стою одна... ни простору, ни косогору, ни ветру жена... ни Царёва держава... ни смердова кошма... ни прозреть велелепно, ни сойти с ума... ни водой струиться, ни святым Уставом в ночи светиться, ни кровию течь... а слезами лишь литься да литься, лишь лить вдовию речь - над кострищем-пепелищем... над рудою огня... а вокруг время ветром свищет... норовит в грудь, в лик солёный ударить меня... Ах, ударь мя, ударь, господин мой ветер... наземь бродяжку повали... я и за тебя, брат мой ветер, в ответе... и за все полоумные ветры земли... и за каждово оглашенново младенца... за мышонка каждово, паучка... ветер, мы же с тобой единоверцы... вон она, зри, вера моя - пламя златое на дне зрачка...
***
(Аввакум и Никон. Десница и шуйца)
Никитка, Никитка... Сирота ты был, сирота, как сей час помню тебя, всево зарёванново, и мачеху твою, што на снег тебя, озляся, выгоняла, на широкий двор пустой, и ты стоял-ёжился во дворе, а снег под звёздами неистово сверкал, и я мимо иду, да тебя завижу таково задрогшево, да за ручонку схвачу, да в избу нашу поведу. Матинька моя тебя горячим отваром шиповника отпоит, целебным, штобы ты не простыл, не закашлял. Отец мой Пётр тебе из сеней мой тулупчик принесёт, укутает: согрейся. Ты грелся, сидел, дрожал, как подстреленный заяц, в тулупчике, зубами стучал. Подранок ты и есть подранок! В детстве ранили тебя! Кому в детстве боль причинили, тот всю жизнюшку с ней и живёт. И в монастырь ты сам захотел уйти; и отроком, двенадцать тебе, кажись, стукнуло, к монахам подался. А в путь не мачеха тебя снаряжала: матерь моя; мысленно, Никитка, ей поклонися.
А отец твой, негодник, выдернул тебя из монастыря, выпростал силком из рук Божиих: возжелал тя женить. Ну како же, род-то продолжит кто!
Женили... и што... дети являлись один за другим, рождалися и умирали. Оплакал ты всех троих. Како дале жити? Упросил ты безутешную жену в монахини постричься. Да и постригся сам. Ея определил в монастырь московский, во град престольный... а сам отправился на севера. Север подзвёздный, Север! Морские солёные ветра! Море Белое, льды громоздятся, забвения шёпот слышен... Монахом ты стал на Соловках. Соловецкий монастырь твои шаги, Никитушка, запомнил: то эхо гудит под сводами храмов.
И выходил ты на берег моря; и мысленно, а потом и въявь Литургию служил. И вокруг тебя собирались все убиенные, все изникшие, замученные и возславленные тут.
И што? И то... Пошто от Елеазара Анзерсково утёк? Пошто не послушался ево? Строптив ты. И то твоё несчастье было. Пробило твоё несчастье во звонкое било, в кое били монахи, созывая насельников на службу. Исчез ты с Елеазаровых глаз, а старца, што тя, дурня, приблизил к себе, надлежало лелеяти, деяния ево в молитвах поминать, мудрости ево изреченные навек запоминать, за ним хвостом ходить: куда старец, туда и чернец. А ты...
Я всё помню, што ты мне рассказал. До смерти не забуду. Ты ко мне во сне приходил и всю твою жизнь, задыхаючись, выболтал. Видать, жгла она тебя, прожигала насквозь, жизнь твоя! Не снёс ты, когда старец тя носом тыкать стал в твоих рук дело, в постройку скита. Обсердился ты и покинул обитель. Страсти, страсти тебя побороли! Псалом Царя Давыда чти безконечно, по сто раз на дню: от юности моея мнози борют мя страсти...
Бога тож можно страстно искати! Воля чужая властвует над тобой, а ты ей подчиняешься и борешь себя, самолюбие твоё, самодовольствие твоё... Не научился ты послушанию! Гордыня пришла и сломала тебя. А потом наново сшила, по клочкам, по кусочкам. Ишь ты, лоскутный Никитка! То бишь, конешно, мних Никон уже.
Отвратился от послушания - и гордыня заела тебя; так волк загрызает смирную, бедную овцу, и она токмо ножонками дрыгает. Чево ты хотел там, тогда? Какой власти? Ужели - этой, вот этой, нынешней?
А по лестнице власти взойти трудно, да возможно. Во ином монастыре ты дослужился до игумена. Братия стала главы пред тобою преклонять. Иереем Новагородским ты пребыл... сколь годов?.. Да разве ж то так важно... Ты рвался, рвался вперёд и выше, Никитка, вперёд и выше... таково желание всех гордецов. Ты вот мя обзываешь гордецом, а я, заметь, я-то никуда не рвусь! И власть мне не нужна. И почести. И преклонение. И владычество над всем народом мне не нужно; довольно мне и тово, што со мною рядом, душою али телом, мои единоверцы. Ежели далёко они - я им письма пишу... Вот... болярыне... да жива ли она... а хоть бы и мертва - я всё равно ей письма царапаю...
Тебя к Царю привели, к Царственному отроку: сунули тебе кулаком в спину: вались пред Царём на колена! - а Царю-то шестнадцать. А ты всяко старше. И отеческим оком на Царя взираешь. Вот ково Царь искал, по всей земле рыскал! Отца! Он-то тож ведь был сирота. А ты, Никита, ты таковой могучий... резкий... все хитрости вмиг разрешаешь... обо всём велико мыслишь... работать мог, молод ведь был, без устали, денно и нощно... и ласкал, обласкивал то и дело юново Царя, знаю, видел то во снах моих, то по головочке русой ево погладишь, то к ручке приложишься, то к краю Царсково кафтана...
Так и стал ты, Никитка, Патриархом. И титул тебе, Патриарху, в благодарность за ласку твою Царь присвоил торжественный - Великий Государь. О, сбылась мечта твоя! Мечта о власти безпредельной! Стал ты государем Церковным; што может быти выше? Царский трон с Патриаршим посохом ведь равняется, спору нет. Симфония византийская!
И всех заставил ты слушаться себя. Ох, представляю, каковое наслаждение тебе то доставляло! Бояре на тя Царю жалились, да. Кто опоздает - сей же час во двор, на мороз. Како же и тебя... мачеха твоя... баба злобная... Ежели едешь куда - пост держи, не дай Бог оскоромиться. Коли ты в палаты вступал - все, да, все должны были вставать. И тако стояти пред тобой, молча слюну глотая. Бояре, небось, твои переглядывались: шутка ли, сын мужицкий ими крутит-вертит!
Это ты, Никитка, так с боярской гордыней боролся. Гордыню с них, яко шапку, сбивал! И то! Может, оно всяко-разно и хорошо было! Ведь бояре, они што: неровён час, и зажрались! И зазналися, и носы выше кремлёвской башни дерут!
Но ведь, Никита, расправился же ты с епископом Павлом Коломенским. Из-за чево? Из-за поклонов во службах Великово Поста. Павел тя упросить хотел: сократи да сократи поклоны! Тяжко! А ты ево...
Опала, мнишь, борет гордыню? Борет самово человека, каков он есть? Да никогда не поборет. Сам ты твоею силой гордишься, кичишься, пузо надуваешь под рясой, да и я горжусь: я тоже силён, я равен тебе, Никон! Роскошь ты любишь - то преступно! Не церковное то, а мiрское! Мнил ты, знаю: Великий Государь должен во шелках-бархатах, в дорогой утвари да драгоценных винах купаться, и, хотя ты сам аскетом мог плоть усмирять, да пред иноземцами с масленым карманом восхотел ярче смарагда покрасоваться, ослепительней сапфира возсияти. Признался ты мне, помню, што носишь облачения пудовые, како юродивый носит на себе, на ребрастом, нагом теле чугунные вериги. А ты весь в изарбате хвалынском, да яхонтами усыпан!
А што, ведь и тебя били, равно же како и меня. И тебя однажды в Новагороде всмерть излупили! Бунташное наше времячко, ой, бунташное. Не совладать иной раз с людьми. Яко псы цепные, в загривок тебе вцепятся и так волокут по земле. Едва ты не умер. Да здоровье твоё многих изумляло и ищо изумит! Богатырь ты, Никитка, окреп ты во странствиях, в гладе и хладе, во северных монастырях, во постах изнуряющих; да в битвах духовных немало сил набрался, чрез то и стал, может статься, Великим Государем-то. А бунтовщиков тех ты самолично упросил Царя помиловать! Немыслимо! Народ дивился, а ты пред народом встал на колена и земные поклоны бил. Лбом во землю бил! Так каялся. В чём?
Во грядущих деяниях твоих?
Ну вот поменял ты Устав. Мелочи в нём поменял - а больно! Больно народу! Не желает тово народ! Хоть ты ему, народу, и голову морочил харатейными списками, святостью древности великой! И попомни слово моё: низложат тебя, низвергнут с твоево Государева трона! Царь возненавидит тебя. Власть найдёт на власть. Найдёт коса на камень! Да, камень ты, Никон, да Царь-то - вострая коса! Я возстал противу искажений Святого Писания, а Царь возстал противу гордыни твоея! Да сам-то, сам-то Царь - ох какой гордый! Горделивей нас с тобою обоих, вместе взятых. Ни мне Царя не побороть, ни тебе! Хоть ты и всемерно приблизился к нему, а я издалёка на нево взирал! И желания не испытывал к нему на брюхе приползти, к ево плечу, облачённому в парчу, моим плечом прислониться!
Будут клеветать на тебя! Сплетни великие будут распускати! Подножки тебе подставлять, да штобы ты на ровном месте споткнулся да пред Царём постыдно растянулся! А тут и поглумиться над тобою можно! Запомни, Никон: бояре - те же скоморохи, ежели надобно, они таковой глум устроят, што ног не унесёшь! А сана тебя лишат. Лишат! Провижу то. Ты, Никон, мя сожжёшь. А тебя - Царь в дальный монастырь навеки упечёт!
И будеши сидеть во смрадной, свечьми прокопчённой келье, на оконцах решётки, куска неба не видно, послушник сутулый водицы во кувшине глиняном притащит. В угол кельи поставит. Слово изронит - ты не услышишь. Будешь сидеть у окна, как и я нынче сижу, погружённый в тяжкие длинные думы. И милости, милости доподлинной просить тебе будет не у ково. Округ пустота... тишина...
...где-то далёко, в небесах, а может, на ветке, за келейным оконцем слепым, за решёткой, будет петь малая птаха...
...как тамо, во сельце Вельдеманове, во селе Григорове... среди детства нашево синеоково...
Мы не вечны на земле, Никон. Не вечны. Где любовь? Множество человеков по земельке бежит, и множество забыли о любви. Али не ведают, што она такое. Господь зря, напрасно о любви им говорил. Напрасно на Крест всходил. Ничем безлюбых не проймёшь. Вонючая тесная келья, вот будет твой дом. А может, земляная яма, навроде той, в кою болярыню мою засадили. И мя засадишь; я вижу, вижу.
Много чево я вижу, Никон, да всё не скажу. Мы не знаем часа своево. Да только я знаю; я вижу мой огонь, в коем сгорю. Келью вижу, в коей тосковать станешь; смерть твою вижу, при стенах монастыря чужого, при свете в ночи белой, яко лебедица, колокольни. Ночью помрёшь! А я днём. Ты осенью, а я по весне. Ты десница Царская, я шуйца. Не сцепим пальцы! Не сплетём ладони! Две руки, и розно, и тоскливо. И буйно, и безумно, и молитвенно, и плачуще. То одна ладонь слёзы с лика оботрёт, то другая. Не знаешь, како тя отпоют? Да мыслишь: а вдруг я новый святой! и тело моё не истлеет! и прах мой, вместо смердения, зачнёт благоухать, обратится во святые мощи! Умерь гордыню, Никон. Кто из нас святой, разсудит время. Да никто, видать, никто. Не возноси себя выше людей. Ты, Никитка, обычный человек; как все, как все. Так же плачешь, и слёзы блестят в бороде, так же пищу вкушаешь, щи кислые, остылые липовой ложкой хлебаешь, так же крестишься, так же исповедуешься. Так же в полуночи, содрогаясь всем страждущим телом, заливаяся слезами, из глубины души молитву читаешь. Помилуй мя, Боже... по велицей милости Твоей...
***
(Аввакум и болярыня. Встреча посмертная)
Сам не понял, как забылся, как заснул. Зрю, льётся на пол чернило из чернильницы, льётся по рукам моим, по ногам... инда тёмная кровь. Тут я и вздрогнул, и проснулся, обвожу глазами избу, вроде в моей избе, а навроде и не в моей; сруб изнутри златом мерцает, странными золотыми снежинками, будьто сруб тот пирог, и ево хозяюшка ягодой мёрзлой обсыпала, как на Святки-колядки. Небушко, небо, беззвучно собакою лаешь, звёзды голодные роняешь, а нечем мне тя, небко, угостить, и пирога нету, и даже горбушки ржаново нет, Настасья спит у печки, вповалку на полу детки спят, а я царапал пёрышком, царапал, об чём чертал, пошто черкал... мне бы тоже почивати, а я всё сижу, а мощный дубовый стол, ровно лодья, поплыл, подобново со мною не бывало, шепчу в ужасе: остановися!.. за воздух крючьями-пальцами хватаюсь, сам плыву, а всё вокруг мя застыло, а золотые звёздоньки всюду вспыхивают и гаснут и опять возгораются, и вот из тово золотово сияния, свечения и вспышек, звёздных узоров занебесных явилась моя болярыня, моя Феодосия Прокопьевна. Давненько я ея не видал, не слыхал. Я сижу, ноги ослабели, встать не могу, стал, шатаясь, инда пьяный, низко-низко поклонился. Глава моя закружилася, а болярыня стоит предо мною во плате нарядном с кистями, не в чёрной рясе монашьей, не в чёрном клобуке монастырском, а во понёве богатой, перлами озёрными развышитой, да в радостном, как радуга, платье, златошвейки, видать, денно и нощно расшивали, немало потрудилися. Уста мои онемели, и холодными, твёрдыми, недвижными губёшками я пролепетал: здравствуй на множество лет, болярыня Феодосия! али инокиня Феодора, како тя сей час тамо, на небесех, кличут! Каково на тебе платье сие роскошное! пошто ты ево надела-нацепила, разве праздник Великий какой нынче двунадесятый? Стала чаще дышати и выше подыматься грудь ея, и сильнее кружилась моя башка, искал я очами моими оченьки ея, штобы распознати в очах ея, што на сердце, на душе у нея делается; разомкнула она алые уста, тихо шепнула: я, батюшко Аввакуме, нынче невеста, нынче свадьба моя. Я так и присел. Да ведь ты же умерла, девушка! шёпотом вскрикнул я, глотка моя захрипела, не в силах я вымолвить был боле ничево, стоял столбом и, как рыба, воздух немым ртом ловил, а потом всё-таки выхрипнул: ты же на том свете, матушка, жестоко Царём казнённая возлюбленная моя! Да како же я тя уважу, как признаю, да в такой роскоши неимоверной, таких нарядах ханских-татарских, а может, Царских, а может быть, ты у нас нынче Русской Земли Царица, да-да, я всё понял, Царица ты Руси днесь, Алексей Михайлыч, Царь наш, тебя, небесную, нынче в жёны берёт, из облаков, инда птиченьку, голыми руками взял да за пазуху засунул тебя, милая, а я-то, видать, тебя потерял. Улыбнулась тут она широко, шире, ищо шире, улыбкой, како Солнцем, всё вокруг озарила, да и так возговорит: батюшко Аввакуме, то свадьба наша с тобой, нас с тобою нынче повенчают! Нешто это можно при живой-то супруге моей, забормотал я, вон, вон, оглянися, Федосьюшка, вон у печи Настасья моя спит и детки мои почивают; об чём же речь ты ведёшь непотребную? Повернула голову она, и жадно гладил я глазами ея шею лебяжию, и будьто бы вокруг нея распахнулись белые широкие крыла, синей, лазоревой, перламутровой метелью замерцали, звёздное сияние от крыльев, от перьев тех исходило, как ночью от великих снегов в белом зимнем поле ночной свет брызжет, таинственный, святочный, сребряный. Крыла невестины, белый шёлк, беззвучно колыхались, я чюял дуновение ветра ото всех лебединых перьев. А наша свадьба, Аввакуме, небесная, никому она не помеха, вместе навек, она лишь для нас обоих, потому не бойся, не пугайся, протяни мне обе руки! Я не возьму тебя с собою в Мiръ Иной; там, где я живу ныне, места нет покамест для тебя; в назначенный час ты уйдёшь в Иномiрие. Тот свет безбрежный, мы летаем везде, мы видим всё, нам внятно всё, мы чюем всё, мы мыслим обо всём, мы жили прежде, мы живём ныне, и мы живём чрез горы времени, и всё сие одновременно, Аввакуме, потому не страшися, протяни руки и гляди смиренно!
Болярыня моя протянула мне обе руки, я схватил её руки жадно, мне было всё равно, я хотел в Иномiрие, я хотел в Мiръ Иной, жаждал переступить порог жизни, измучился я здесь и Настасью измучил, зачем с нею детей родил на страдание, на умножение боли, исполнив Божий закон, продолжение рода. Зачем вся жизнь? затем ли, што в ней есть таковой брак Небесный, сочетание двух духов, предвечная Брачная Вечеря в чертогах у Господа?
Так стояли мы, рука в руке, и таково сильно колотилося сердчишко мое, што ничево я не мыслил уже, не чуял, а только повторял себе одно: Господи, ежели Ты сей миг, вот сей же час прикажешь мне умереть - я и умру; ежели Ты захочеши, чтобы мы с Федосьюшкой жили вечно - и будемо жить вечно; только, Господи, так молился я, остави жити на земле родимой жёнку мою Настасью Марковну и детушек моих единокровных, призри на них, милостью Твоею их не покинь.
Будьто ветер взвился вокруг. Сие всё были люди, люди, люди. Они вихрились. Превращались во метелицу, во вьялицу. Целовали нам с болярыней руки и ноги. Прижимались к нашим лицам; моя-то рожа вся мокра, залита, инда ливнями, слезьми, болярыни лик - радостный, и счастием лучится, и сиянье подоблачное изо щёк и лба испускает, а очи горят, инда смарагды арабские самолучшей огранки. Люди завивались невесомым небесным мафорием округ нас, взмывали вверх, под потолок избы, а матицы уже не видал я, и крыши избяной уж не было, и соломы как не бывало; безпредельное звёздное небо воздымалось над нами, мороз скулы и веки остро щипал, звёзды сыпались нам во власы, на плечи холодной хрустальной половой. Я терял разум, да только и повторял себе: Господи, да будет воля Твоя, Твоя святая воля на всё. Болярыня крепко держала мя за руки. И начали мы с нею подниматися над полом. В воздусях повисли. Сверху видел я спящую Настасью, деток, сладко во сне сопящих у остывающей в ночи печки. Я шепнул: Федосья, а мы што, сей же час ко звездам и подымемси? Лишь улыбка взошла ярче, светлее на ея лик, прекрасный, юный, не исхудалый, каковой заимела она под голодной мукой, бичеваньем, дыбой и иной пыткой, а свежий, наливной, румянцем светящийся, на щеках нежный пух, во очах игра драгоценная Солнца лучезарново и текучей воды... Жена! Счастье мужам! Довольство Господа! И Господь красоту любит, не отвергает! Да разве ж правда правдивая, што красотою убережётся наш многострадальный Мiръ от разрушенья, разъятия, развенчания, - от Раскола! Разве ж возможно красоте закрыть путь-дороженьку дикой ненависти, што одна-единая всех людей, да, всех, скопом, великою необъятною толпою, во всеобщую могилу - сгонит!
Медленно опустилися мы вниз. Под стопами босыми я холодные половицы вновь почюял.
Стояла болярыня моя, красавица. Плохо я ея мудрости Божией учил. Никакой мудрости она ни под пыткою, ни в чёрной голодной ямине не набралася. Там, в посмертии, она вдруг вернулась туда, откуда в неистовую, высокую и суровую веру ушла - в нежность и Солнышко ясное, в песенку птичью, синичью, в радугу Радоницы, в сияющий веселый блин синеокой Масленицы, в нежно-бархатную, яблочную кожицу чуток загорелых по весне щёк, во взмах густых ресниц, ах, песенку мурлыкать, бормотать, а не класть поклоны исполать... всё глубже, глубже во время нырять-уходить, рвать с тяжкой казнью клятую нить... а паук всё ткёт и ткёт сребряный ковёр, всё трудится да трудится безымянная арахна... а девица-красавица всё стоит предо мной, и я ея крепко, крепко за обе рученьки белыя держу, ея ручоночки во моих грубых мужичьих руках сожимаю... и мню: да ведь то не болярыня никакая, то видение мне неизъяснимое, то ведь, Господи, сама Богородица ко мне явиласи... то Ты, Господи, Ея, Пречистую, ко мне послал-возвернул, ко мне, малому червю, безпутному протопопишке, направил-отрядил... штобы Она мне, Матерь Божия, Заступница от всех бед и зол несчислимых... што... што - мне?.. пошто я - Ей, Великой, Превечной, Небесной?.. пошто она обличье болярыни моей приняла?.. не видение ли то бесовское, не соблазн ли то чарующий?..
А рученьки таковы тёплые... а глазыньки таковы сияющи...
Нет, не может бес глядеть так нежно, так солнечно, так всепрощающе...
И повалился я, рук Ея не выпуская, пред Нею на колена. Владычица!.. так воззываю, Защитница малых сих! Прости и помилуй! Дай мне знак, што я прощён и обласкан. Хочешь - с Собою возьми. Хочешь - ищо пожить оставь. Весь век суждённый Тебе, Радость, молитися стану!
И тихо, тихо вынула Она руку Свою правую из моей шуйцы. И тихо, нежно мя перекрестила. Люблю, послышался мне Ея шёпот летящий, люблю тя навеки, и даже тогда, когда ты уйдёшь с родной земли - в огне - в небеса; люблю тя всегда, времени счисленье потеряеши, протопоп, сколь годов и веков и тьмы тем безсчётных лет буду любить тя и молитися за тя. Нет предела любови! Сколь ея песен на земли и в небеси люди и Ангелы поют! Я тоже ея песню пою. И ты повторяй за Мной. Слова простые. Главное, любимиче мой, с дыханья не сбиться.
И запела. И я запел вместе с Ней.
И так мы пели оба; и я не знал, ту ли мелодию я вослед за Ней повторяю, или вру безбожно, хуже последнево певчево, пьяненьково вусмерть посля Прощеново Воскресенья; и Она то Богородицей во славе и сиянии предо мной представала, то вдругорядь видел я в Ней милую сердцу Федосьюшку, мою понятливую весёлую ученицу, вдову покойново болярина Глеба; а то вдруг повернётся к чадящей свече, застынет, ровно ледяная статуя, и выхватит свечное пламя из тьмы Ея скулу и висок, и глаз, схожий со спелою сливою, - и рядышком вижу Настасью Марковну, жёнку родную мою, и уж не знаю, кто сия занебесная Жена предо мною, и зачем я стою на коленах и Ея за руки белыя, тёплыя крепко держу, и зачем с Ней единую песню пою, и несть песне конца и начала, и несть ни молитвы, ни боли, ни печали, ни воздыхания, а только жизнь безконечная.
***
(всё кончается)
мы утешаем себя что жизнь бесконечна мы воскрешаем в памяти всех убитых мы разрушаем страшно светло беспечно то что назавтра будет во бронзе отлито мы подражаем жизни в наших созданьях мы лепим жизнь из ветоши мёртвой убогой мы именуем жизнью тюрьму многоочитых зданий где никогда не слыхали дыханья Бога мы называем войну расколотым миром чтоб не проснуться мы пьём снотворное зелье мы потерялись меж мором гладом и пиром между собачьим воем и слёзным весельем вон она слишком рядом последняя встреча Сретенье Пасха Исайя ликуй венцы златое колечко ты ни за что не ответишь я за всё отвечу тихо скажу себе всё кончается ну конечно
***
(Аввакум и жёнка его Настасья в тюрьме. Последняя ночь перед казнью)
Сия последняя, последняя ноченька тьмою навалилася пред сожжением мужа моево, Аввакума Петровича. Сердобольные тюремщики пустили мя к нему в тюрьму, попрощатися. Застенок, я взошла осторожно, холодно, дрожу, тулупчик ветхий на мне, на локтях и подоле истёрся. Старость, это ж нищета, душа тож ветхою становится, и на ветру ея лоскутья сиротливо мотаются. Вот прожили мы с протопопом цельную жизнь, а ничево не нажили, ни яхонтов, ни сапфиров, ни рубинов, ни смарагдов, ничевошеньки, только два старых тулупчика, што на ево плечищах, што на моих плечиках... уже спина бочонком выгнута, становая жила моя временем порушена-подгрызена, а детки, ну што детки, детки росли-росли да и выросли... а мужа моево вот на казнь поволокут. А тяжело, страшно сие, умирати в огне. Зачем огонь, уж лучче бы пулю в нево выпустили, из ружжа застрелили бы, како медведя на охоте, а то ищо секир-башка, а то ищо четвертование есть, вот страшная кончина. Я всё молилась: отведи, Господи, казнь лютую такую, но огонь превеликое страдание, не возьму в толк, как Вакушка сподобится вытерпеть всё; только всю жизнь нашу и повторял мне протопоп мой: терпи, Марковна, терпи, милая, терпение да смирение две наиглавнейшие Христовы добродетели, и я терпела, и я смирялась. Я шагнула к нему, в руках горшок с кашею держу, он спал, лежал на разстеленном под собою овечьем тулупе. Спит-лежит у мя под ногами, сопит, ровно собачонок. Как он может спать в такую ночь пред смертью, пред гибелью своей? Я заливаюся слезьми, я молюся, я воображаю, как огонь округ мя зачнёт вставати; как затрещат власы мои в огне, и жжёной костию остро запахнет; как станут лопаться и выливаться из-подо лба глаза, ибо неистов жар. Вставай, вставай, муж мой родимый, это я, жена твоя Настасья Марковна! Я пришла проститься с тобой пред казнью твоею! Повернулся ко мне, разлепил глаза и ищет мя глазами, спросонья зрачки плавают, яко рыбы, не уразумеет, где он, долго поднимается с пола, будьто рыба из глубины вынырнула и на тихой глади воды, задыхаючись, раскрыла рот. Ну точно, како рыбица, воздух ртом ловит, задыхается. Я провела ладонями по ево лицу, оно всё мокро, будьто плакал он ночь напролёт. А может, просто сильно взопрел. Обтёрла я ему лоб, щёки, шею, сняла платок мой и ему пот предсмертный-последний весь вытерла, платком боль ево промокнула. Осмысленным стал ево взор. Поглядел он на мя, узнал. Настасьюшка, душенька, ты ли это! Как же тебя сюда впустили! Сюда же никто да никово не впускает никогда! Да мне уж и хлеба сюда не приносят, ведь заутра казнь моя, только воды испить дают. Ах, Настасьюшка!.. горшочек кашки... тёпленькая, принесла мне... Склонился над кашею. Я пошарила у себя за пазухой и вынула лжицу сребряную с Царской печаткою и сухарь. Не помнила, как я дома слепо, рукою дрожащей сунула ложку мужнину и сухарь тот себе за пазуху, ближе к сердцу, прижала хладное сребро и высохший хлеб ко голому телу моему. Сначала лжицу в руки мужу всунула. Он кашу ел. Ноздри раздувал. Рот ладонью утирал, и щёки тож. Горшок пустой на половицу поставил. Я глядела: руки ево тряслися. Протянула сухарь мужу. Он схватил ево и стал грызть, таково жадно, больными, слабыми зубами. Грыз, размалывал во рту, изранил сухарём тем дёсны, грыз и постанывал, грыз да улыбался мне, грыз и плакал, плакал, я видела, как плачет человек, ядущий жёсткий чёрствый хлеб, последний ево хлеб на земле. Муж мой доел хлеб, утёр рот ладонью, посмотрел на меня. Ну што, Настасья, што скажешь мне напоследок, што вымолвишь на прощание? Мне уже ничево не надобно. Буду тебя слушать и не слышать. Я знаешь, слышу сей час голоса непонятные, будьто небо звучит, будьто земля под ногою говорит, но не могу словеса различить. У неба есть язык, у земли есть язык, у зверей и птиц, Настасьюшка, есть свой язык, а человек, он сам есть язык, народ, он весь, огромадный, говорит на одном языке. Мы с тобою вот русские, язык наш русский, народ наш русский, а любят нас всех на земле али ненавидят нас всех на земле, вот ты мне скажи? Зачем нас губят, зачем люто сражаются с нами? Зачем всё льют да льют кровушку нашу? Я ничево не могла ему ответствовать, слёзы сами лилися у меня по щекам. Я посмотрела на разстеленный на полу тулуп и шепнула мужу: давай ты ляжешь, а я лягу рядом с тобою и крепко-крепко тебя обниму. И так мы будем возлежать, милый мой, так лежать. Мы будем как в стародавние времена, так будем мы с тобой вроде как во прежней любви, только застынем в объятии, лишь в мыслях вернёмся в то милое сердцу времячко, недвижно замрём, будьто мы уже лежим в могиле нашей. Не сетуй, какая жизнь у нас севодня; будет ночь, как целая жизнь; как целая жизнь, пройдёт сия ночь перед нами, мы будем видеть всё, што с нами случилося, яко в зерцале, во сне, видение есть тоже сон, а сон есть наша явь.
И он лёг на брошенный на пол старый кудрявый бараний тулуп, я легла рядом с ним и так сильно прижалася к нему, што стали мы единым существом, будьто мы оба были один спиленный старый дуб, и таково неразъёмно, едино-одиноко лежал он, могучий, на горючей земле, сей миг подойдут дровосеки, распилят ево, расколют на дрова, и дровами теми дубовыми истопят зимнюю печь; лучче всево, жарче всево горят в печи дубовые дрова.
Я закинула Аввакуму руки за шею и зачала покрывать поцелуями ево бедные солёные щёки, ево торчащие скулы. Ты голоден, шептала я, я твой хлеб! Ешь меня напоследок, пей меня как вино! Я твое вино, я твоя вода. Я мать твоих детей, я тебе матерь, ты сынок мой маленький, мой Вакушка, малюточка, и санки везёшь за собою на верёвке, кататься с горки, пойдёшь снежками бросаться, мальчонки, друзья твои, уже ждут тебя, веселиться с тобою, играть в зимние игры, не знаешь ты, мальчик мой, што станется с тобою, какой дикою, ужасной смертию ты умрёшь, а за што ты умираешь, муж мой? за веру! за то, штобы люди поняли: не хлебом единым, не сухарём предсмертным единым жив человек; человек жив любовью своей и верой своей.
Люблю тебя, муж мой. Верую в Бога нашего, верю в тебя, верю, выдержишь ты лютую казнь, не будешь кричать о пощаде. А будешь стоять ровно и твёрдо, видя округ себя языки огня. Язык, язык, у огня есть язык, значит, огонь тоже народ, значит, огонь тоже говорит по-русски, как мы с тобою, как все люди наши; огонь тоже человек, значит, огонь суть Бог, потому што Господь создал человека по образу и подобию Своему; значит, муж мой родной, огонь подобен Богу, и то не злая-людская, а Божия сила поборет тебя. Войди в огонь, благослови ево, благослови и полюби твою смерть, хоть сие очень трудно. Я то говорила или он мне бормотал, я уже не понимала; зачем была на земле вся наша жизнь, рождённые нами дети, будут жить дальше они, в свой черёд родят детей, но мы не узрим внуков наших, и наших правнуков, и наших далёких потомков; времена смещаются, времена меняются, времена умирают так же, как люди. Всё крепче вдавливала я моё грешное тело и моё зарёванное лицо в лик и тело мужа моево, и всё боле едиными становились мы с ним, и я понимала: ежели сей час войдут тюремщики и повлекут нас наказывать, они потащат нас туда, на костёр, вдвоём.
В окнах молоком разтекался разсвет. Аввакум поклал руку свою мне на голову. Настасья, глава твоя горит инда в огне, не захворала ли ты, всю ночь бормотала псалмы. Ты молилась всю ночь, я слышал, я знаю. Я тоже молился, и в объятиях крепких, неразъёмных мы друг другу молились, мы оба Богу молились, и Бог разговаривал с нами, и мы Ево словеса повторяли, а теперь утро, сочится разсвет сквозь грязный бычий пузырь, што вставлен в оконце, я таково благодарен тебе, слышишь, што ты у мя напоследок побывала. Ты жена моя, ты крестик нательный мой, ты голоса деток моих, ты любовь моя, прощай, любовь. И он покрыл поцелуями лицо моё, так же, как я в ночи покрывала безсчётными жаркими поцелуями ево лицо. Разсвет струился, мы лежали молча, затрещал ключ в замке, взошёл тюремщик и зычно крикнул: подымайся, осуждённый на смерть! последняя молитва, исповедь, последний глоток воды из кружки!
А ты, баба, проваливай, беги отсюдова што есть силы, и штобы только пятки засверкали, иначе и тебе несдобровать, наш начальник суровый судья, может и тебя осудить на смерть, как жену преступника. Я встала, заправила волосы за уши, выпрямилась гордо, говорю: осуждайте, на казнь ведите, смерти не боюсь, и муж мой смерти не боится, не боится ничево, ни зверя диково в лесу, ни боли, ни Ада, а смерть, што она? егда она придёт, нас уже не будет. Ведите меня казнить! Тюремщик грубо схватил мя за плечо и вытолкал за дверь; толкнул в спину. Я чуть не упала, выставила пред собою руки, покачнулась, побежала, и слышала, крики мне в спину пускали, возгласы, яко снежки, в мя швыряли: беги, баба, беги! Ты, баба, всё одно зайчиха! Как вы, бабы, смелыми не притворяйтесь, вы не только смерти боитесь, а и побоев мужа, плётки, што по спине вашей да по раменам да по заду ходит туда-сюда! Родов боитесь ваших, валяетесь по уши в кровище, орёте, блажите недуром, и лишь немногие из вас, баб, умеют муку терпеть! Я отбежала от кричащево тюремщика, стала, обернулась и крикнула: терпи и ты, бедный человек! Терпение и смирение самое главное в жизни и смерти!
***
(Аввакум и я. Песня огню)
Это я. Я к тебе пришла. Я успела. Мне запрещали, мне говорили, к тебе нельзя, мне кричали: сюда нельзя! и я пошла туда, куда нельзя ходить никому, куда никто не проникнет никогда. А я туда иду потому, што там ты, потому, што там только ты, и боле никово; там, где ты, опасно, там, где ты, жить нельзя; там нужно дышать огнём, там можно дышать огнём лишь тому, для ково огонь суть любимый, родной воздух. Мы живём на земле? Нет, мы живём в огне. Тот, кто не сгорает в огне, есть птица Феникс. Милый мой Аввакум! Отченька родимый мой! Я всегда была птица Феникс. Я всегда была Красной Птицей, меня сжигали, торжествуя, мне выламывали крылья, мне выкалывали глаза, мне вырывали язык, но я оживала, я поднималась, я воскресала, я снова пела, и самое важное на земле, Аввакум, батюшко мой, это снова запеть, когда ты онемел, когда у тебя вместо голоса только страшный хрип в глотке, только боль в груди, только боль, а больше ничево; а боль? ведь она тоже песня. Для тово, штобы превратить твою боль в песню, нужно так немного! Нужно просто переступить порог. Нужно просто сделать шаг.
А што за порогом?
Порог, Аввакум, сие наша смерть. Из нас, живых, никто не переступит порог с тем, штобы вернуться обратно, мы никто не возвращаемся. Ты слышишь мя, мы не возвращаемся никогда, не вернулся и ты, время пожрало тебя, время есть огонь, огонь есть время; то, што пожрёт огонь, не вернётся больше никогда. Да зачем же эта стихия забвенья? Время не ветер памяти, время пепел забвения; всё, што тонет во времени, всё погружается на дно небес. Звёзды... сиречь кресты и камни, што лежат на дне неба. Нырни в небо, пронзи собою толщу чёрной ночной воды, прямо пред тобой горит жемчужный Крест твой, звёздный Лебедь, раскинь руки, яко он крылья, лети, лети в огнях, сгорай, это жизнь в небесах, в небесах жить пусто, трудно, огненно, дымно, там нельзя дышать, там ты не слышишь, как бьётся сердце, не слышишь, как тонко, жалобно плачет ребёнок, не слышишь, как поёт мать у колыбели, как нежно шепчет она младенцу: спи-усни, спи-усни, угомон тебя возьми.
Мой милый Аввакум! Тебе так же пела мать. Я спою тебе нежней твоей матери; я спою тебе здесь, в Иномiрии, куда не ступала нога живаго человека. Здесь живут только души; здесь живут те, кто ушли прочь, кто ушёл из Мiра давным-давно, мы уже не вспомним их имён. То, што я помню твоё имя, это чюдо, я ищо помню ево; Боже мой... отченька... я не помню только тебя. А слышу дыхание твоё; дыхание жизни твоей. Ты для меня жив. Ты для меня так жив, што многие живые люди рядом с тобой мне кажутся ходячими мертвецами. Иной раз понимаю: я живу на одной земле, а люди, кто живёт со мною в одном времени, живут на земле иной. Мы живём в разных мiрахъ, и мне надо сделать только шаг, только шаг через пропасть, и преодолеть ужас, преодолеть пространство и время. Ежели я сделаю этот шаг, я окажусь в одном чистом Райском воздухе со всеми моими любимыми, но я делаю шаг не к ним, а прочь. Я делаю шаг туда, куда ходить нельзя. Туда запрещено являться живыми. Но это моя земля, и это твоя земля.
Мой милый... Аввакум... отченька... ты тянешь мне чашку. Што в ней? Вода? Вино? Отрава? Может быть, туда ты налил огонь, и мне надлежит из рук твоих выпить огонь? С большою радостью! С превеликим счастием! Я ведь дышу огнём, живу огнём, питаюсь огнём. Я пью огонь по утрам и вечерам, я укутываюсь в огонь ночью; когда мне холодно, у меня огонь вместо одеяла, огонь вместо пуховой шали, огонь вместо простыни: я заворачиваюсь в нево; и я понимаю: мне надо молиться Богу огнём, я раскрываю рот, и я выталкиваю изо рта моево огонь, самые пламенные на свете слова, их никто во всём свете не может произнесть, их запрещено произносить живым людям, и только я говорю их, только я их пою, потому што это ты, отченька Аввакум, научил мя петь огнём. Песня, она тоже огонь, песня.
Это благословение: тебя крестят огнём, и ты воскрес; стоишь, тебя бичуют огнём, и ты сопротивляешься страданию; над тобою раскидывают огонь, как шатёр, и ты тихо, нежно и сладко засыпаешь под крышей огня, в запределье, заресничье, там, за порогом боли. Шумит, гудит и бьётся огонь, вот твой костёр, мой отче, мой Аввакум. Я шагаю во твой костёр. Туда нельзя шагать, но я хочу сгореть вместе с тобой. Я сделаю это. У меня нет другово пути. Это моя земля. Это мой Раскол. Это моя вера. Это мой костёр.
Зачем ты вскидываешь руки свои? Ты хочешь крикнуть мне: сюда нельзя! Не ходи сюда, не обнимай меня, не вставай вместе со мною в мой костёр! Я всё равно встаю, я всё равно шагаю. Это моя война. Война истины со злобой. Война правды с неправдой. Война героя с палачом ево. Сколько войн будет на земле после казни твоей, ты ищо не знаешь. Зато знаю я, я; я все эти войны пережила, прожила, я прошла их насквозь. Я слышала крики детей, я видела слёзы матерей. Я зрела поле битвы, где железною травой, сметённой в Адовы стога, валялось искалеченное оружие; где топоры и танки, самострелы и винтовки, ловчие сети и кольчуги, автоматы и огнемёты лежали огромными горами смерти и ужаса, а посреди искорёженных железяк лежали люди, кто живой, кто мертвый. Они все были ранены, умирающие; а те, кто мёртв, уже принадлежали Богу.
Богу принадлежат наши тела. Богу назначены наши души. Наши души и сердца это дрова, ими мы отапливаем Божии просторы, целое небо; нас всево лишь бросают в печь, и мы сгораем. Мы служим пищей для огня войны. Огонь войны, я прошла ея огонь, милый мой Аввакум, из конца в конец, и я ищо пройду ево, потому што сколь земле суждено жить, катяся в океане чёрного Мiроздания, столь ей суждено воевать. А с кем воюет земля? Да она воюет, милый мой Аввакум, сама с собою, больше и ни с кем. Человек сам в себя стреляет. Он сам с собой воюет; и он не знает, што, стреляя в себя, убивая себя, убивая во другом, во враге, себя самово, он на самом деле неистово, смертно воюет с Богом. Как можно воевать с Богом, ежели Бог тебя, человека, послал на землю за совершенно другою надобой? Што Он тебе назначил, неужто ты не помнишь? Он просил тебя любить, а ты ненавидишь. Он просил тебя рождать, а ты убиваешь. Тогда, ежели ты сделал выбор, безумец, в пользу вечной Зимней Войны, единственная награда твоя, жалкий человек, это огонь.
Пусть огонь войны, огонь возмездия, казни, торжествуя, пожрёт тебя. А што, ежели огонь уничтожит всё людское море, всё человечество, што бьётся прибоем, утомительно, настойчиво, тоскливо, в изветренную, тоскующую землю? Людское море... ходят волны... неостановимый кровавый прибой. И вон там, на горе, возвышается Крест, он пылает огнём, кто ево поджёг, там висит Распятый, и Ево подожгли, горящий Крест, ево видно издали, как маяк, што видать с моря; видно всем, кто плывёт, кто в пути, невозможно доплыть до берега, поднимается буря, но Крест горит, и ты плывёшь на огонь, ты всё равно идёшь, плывёшь, бежишь, ползёшь, летишь на Крест-огонь, ты придёшь туда, куда нельзя, ты выбираешься на берег, подходишь к пылающему Распятию, обнимаешь Ево подножие и кричишь: Господи! Возьми меня в Свой огонь! Я сгорю с Тобой в любви и вере моей! Эй, мой милый Аввакум, я добежала до тебя, я спела огненную песню мою! О нет, отченька, твою, истинно, твою! Я хрипела твоей глоткой! Я билась твоим сердцем! Я дышала твоею душой! Я знала, всегда это знала, што я вспыхну, загорюсь, запылаю и буду вечно полыхать твоим огнём, ибо нет у меня другово пути, нет! Другой жизни, иной судьбы у меня нет! Принимай меня, отче, твой вечный огонь!
Принимай меня! Я забыла, как меня звать, у меня больше нет имени. Я только песня, я гасну на губах, и я вспыхиваю опять. Я Красная Птица, машу крылом и возлетаю с любово пепелища в широкую громадную синеву, в чернь ночных туч, в лунный серебряный свет, в отчаянное алое золото заката, это Солнце в дегтярном, надмiрном, угольном, посмертном небе, этот огнь выжигает в душе всё мелкое, обманное, жалкое, хитрое, жестокое, слабое, враньёвое. Сколь лжи на земле, сколь подлога, предательства, сколь... Огонь всё пожрёт, всё спалит. Великое пламя свечи во храме, свечные огарки близ закопчённого киота в нищей избе, берёзовые поленья в печи, кострище на площади в военной ночи, казнь лютая, когда к столбу привяжут человека и вязанки дров угрюмо бросают в огонь, и всё выше, до небес, взлетают алые, златые языки... так умирал ты, так до сих пор ты умираешь. Я стою рядом с тобой, я обнимаю тебя, я становлюсь твоим огнём. Это я казню тебя, а ты благословляешь меня. Я огонь; я целую тебя в уста; ты огонь, ты обнимаешь меня горячими, пламенными руками, и мы одно. Я твоя болярыня, твоя Настасья Марковна; это мы с тобой отныне и навеки муж и жена. Два огня. Две судьбы. Мы стали одним. Мы стали огнём. Не ходите за мной! Не ходите туда, куда ходить не надо никому из живущих; там один огонь, сплошной огонь, там лишь огонь и больше ничево. Моя любовь и моя смерть, моё благословение и мой Божий костёр, моя Последняя Книга, в полный, безумный голос спетая мною.
***
(разбойники-воры)
я не верю ни в какие перемирия бумаги в расстеленные ковры подписей и печатей в переговоры безумной отваги где вон тот - скоморох а этот - предатель я не верю в замиренье оно на минуту отвернемся - опять разрывы снаряды это порох Раскола для Царского салюта эти листья винограда - Царице наряды эти перья златые вожака-фазана этот хвост малахитовый героя-павлина расстреляли Райский Сад полили слезами Адам с Евой бегут - им стреляют в спину И вяжи не вяжи живый в помощи пояс и молись не молись за Мiръ протопоп опальный а ударят разрывными и прощаться поздно помирать хоть и рано зато изначально это просто война раскололось время разошлась прореха вспыхнула мета на пылающей площади стою меж всеми и летит наша смерть патлатой кометой и подносят нам смерть на железном блюде и кричат: угощайтесь разбойники-воры я не верю ни в какие перемирия люди ни в какие клятые переговоры
***
(Аввакум и огонь. Разговор с огнём)
- Смущённое заячье сердчишко устрашается, больно да часто бьётся, а смелое сердце не устрашается. Каково часто я повторял, шептал: блажени нищии духом, ибо тех есть Царствие Небесное, и дале бормотал из святой Нагорной проповеди: блажени плачущие, ибо тии утешатся. Вдумайтеся, людие! Мудрость Божию несу вам на блюде. Не богачи блажени, не Цари, не князья и патриархи; не те вовсе, кто власть имеет и властью поигрывает, како соколом на плече, на рукавице, остроглазым, охотничьим. Всяк верный не развешивай ушей тех и не задумывайся: вот ты, кто любит и верует истинно! Не бойся ничево. Гляди храбро во огнь палящий. Ты, огнь, это ты бойся мя! Ибо я гляжу во тя, огнь, дерзновенно и радостно. Я, огнь мой, я на твоея страже, ни сна мне ни пищи, стою! Да штобы ты ярко, ясно горел! Штобы - не гас! Светил мне промеж глаз! Я, хоть и протопоп, да пошли мя на войну - стану сражатися не хуже каково витязя-вояки; даром што Книгу Святую ночьми читаю, пока под полнощными звёздами лают и лают собаки! Ах, огонь, мя не тронь! А хоша бы и тронь! Отскочи да охолонь! Я и сам ярко горю; Богу Господу и Владычице Богородице все двери души отворю; и они оба, небесные жители, на моё пыланье глядят, а время, время-то не воротится, людие, назад... И мы с тобою хотим жить и дышать; в счастии любить, а не в мучениях помирать; а ты, огонь, што воздымаешь в зенит языки?! Я тебе устрашенье, а ты, бедный, бесишься от тоски! Што, огонь, доски трещат, брёвна чадят, ветки пылают, дыма не зрю от слёз... Слава Тебе, Боже наш Господи, слава Тебе, Христос!
- Ах, я, огонь, огнище окаянное, зрю тя, Аввакуме, сквозь Антихристовы пределы. Собаки бешаные лают, безустанные, а я горю, разлучаю душу с телом. А я горю, мне печали нет, я был и буду, и я есть сей час; я огонь, приравнён страшному чюду, не держите мя про запас. Для меня Антихрист - враг, а казнимый - любимый, я люблю ево просто так, люблю ево всем пламенем, жадно-неизъяснимо! Противу мя люди грудью встают, напролом идут, мя хотят остановить, погасить... умертвить. А я всё вяжу-вяжу мою золотную нить. Погибая во мне, в жаре-огне, человек просит: пить! А я в битву бросаюсь, в сечу, поджигаю стога сена, яко во храмине свечи, и люди, мной возожжённые, живыми свечами во поле горят, горят их власы и наряд, горят их руки-ноги, горят их крики при дороге! Горят их судьбы-жизни! Ах, водицы пробрызни... Я не Антихрист. Я Богом рождён. Я исшёл из снежных пелён. Надо мной песню Богородица шептала. Полярная звезда вонзала в мя тонкое жало. Сколько людей носило мя в себе в радости и в печали! Они об том не знали. Я был в конце. Я был в начале. Мне поклонялись; мя не замечали. Я выжигал целые земли, целые страны. Я плясал на пепелищах страшно и пьяно. А ты? А ты, отче Аввакуме, што предо мною еле дышишь?.. Возстани, душе, возстани, што спиши!..
- Огонь, ты мне искусство! То тебя густо, то без тебя пусто! Огнь, ты Дух ведь Святой! Куда ты бежишь, траву сухую поджигаеши собою... постой... Я мучим тобой. А в темнице мне худо, дико без тебя. Тюремщики несут мне воду, а надо бы огня! Такая уж у мя без огня судьба: не прожить мне без Божьево пламени и дня! Яко наг, яко благ, яко несть ничево... огонь пожрёт моё жнитво, огонь спалит моё естество, а всё огонь - моё святое торжество! Цепи, железяки, зубастые собаки, огни во мраке, факелы, пылает смола... душа, а ты, матушка, што же?.. жила?.. не жила?.. Дождь, ливень, хлад, мраз, - с полатей слазь, гремит под сводами приказ, а мы в сём Мiре навек ли? на час? Никто не знает, огнь, часа своево; никто, ни един живой. Нырну во тя, огнь, с головой! Никогда, огонь мой, никаким благом не соблазнюсь. Тя вместо хлеба поднесут - проглочу тя, слезу пролью да утрусь...
- А ты, Аввакуме, разве не страшишься Антихриста? Меня, огня, топора да висельцы не боишься, нет? Огонь, я всё человечье выметаю чисто, начисто выдуваю из Мiра и стон, и плач, и закатный свет! Я так богат! Богаче всех царей в парче, зело изукрашенной перлами и финифтью. Я сам злато! Мя нищим швыряй, на площадях монетой раздай! Грядущая война на мне одном висит, на моей златой нити. А хлестну - так глотки всем залью: через край! Моя пирушка, полоумней день ото дня! Мой праздник безумья и смерти! Ни царь Давыд, ни царь Соломон песню не спели так про меня, как ты, Аввакуме, да к тебе на костре твоём подойдите, посмейте - не сможете преступить последний порог огня!
- Ах, огнь, огнь ты беспутный... Орут люди, слуги Царя нашево: стреляй, вешай, руби, пали да жги! И подначальные стреляют, рубят, вешают... поджигают, и пламя идёт стеной... Власть-то всегда мнит: все вокруг - враги, лишь враги! И не зрит, не чует, што там завтра станет с тобой и со мной... А мне больно! А мне - довольно! Довольно, досыта накормили мя тобою, огнём! И мне от тебя, огня палящево, и в ночи светло как днём! Церкву нашу разорили, унизили, растоптали; выжгли ей новомодьем нутро. Растащили Святаго Духа сияющее добро! Мощи крадут... Богородицын образ крадут, по снегу из храма - на ветру тащат... Сдирают оклады, венцы и наряды... веру казнят, и ея огонь не вернёшь назад! Святой огонь... да, ты же можешь быть святой... Куда ты за татями, катами?! постой!..
- Аввакуме, я жгу древо жизни, мировое древо. Ель изукрашену. Живую колючую башню. Страшно тебе?! Мне - не страшно. Я привык. Слепит мой лик. Я сам безсмертен, я сам нетленен, не изнурён временем, вечен и неизменен. Вы, люди, мне кричите: радуйся, огнь! Да, я свят. Мя - не тронь. Я сам себе всадник и конь. Я летящее пламя погонь. Ешь мя, я вкуснее просвиры; пей мя, я огненное вино; я Причастие нового пира, старый мир мною сожжён давно. Аввакуме, я с тобой неразлучен. Я есмь ты, а ты еси я. Прегрешения наши сгорают, звёздами светят колюче. А мы, обнявшись, вместе стоим - на краю бытия.
- Огнь! Огнь! Ты слышишь мя! Отыди! Я тя ведь ничем не обидел! Больно мне! Больно ты обымаешь! Больно дух из мя вынимаешь! И молитовку-то тебе не прочитаеши! Без слуха ты, без звука! Одна от тебя смертная мука! Уйди! Уймись! Погасни! В одночасьи! В безстрастьи! Во всевластьи! Пламенное Распятье! Жаркое моё проклятье! Моё золотое, по костям жестокой судьбой пошитое платье! Не хочу умирать я! Не хочу... умирать я...
- Молчи, Аввакуме. Молчанье меж нами. Тишиной во храме. Лишь свечи горят, лишь горят мои вечные свечи. Болью. Слёзною солью. Далече. Далече.
***
(Аввакум и Бог. Разговор с Богом)
Господи Боже мой! Господи Сил! Редко вот таково беседовал я с Тобою. Говорил я с Тобой каждый день, разгонял именем Твоим лютую боль, а вот скоро, чую, пробьёт мой час. Никто не знает часа своево, когда наступит Твоё торжество. И я нынче готов раскрыть Тебе сердце. Граблями мыслей, воспоминаний пройдуся по судьбине. Нет, Боже мой Господи, не надо мне в час сей ничево воспоминать. Тебе исполать, Тебе душу пред концом открывать. Дай мне знак, што Ты слышишь мя! Дай мне знак вспышкой огня. Дай мне знак Твоею тонкой свечой, вот плачет она, и я гляжу горячо, и я гляжу на Твою свечу тяжело, Господи Боже мой, моё время ушло. Настаёт время иное, время Твоё, открывается мне иное бытиё. Иная радость распахнулась вратами. Што там, за порогом, станется с нами? Вот, Бог, Твой порог; перешагну ево, не надобно больше дорог, не надо мне земново ничево, хочу голубем ввысь возлетети, Твоё торжество. Так я говорил, шептал, слушал, што ответит Господь мой, но Он молчал... таково молчит лодочный причал... А я-то, ну, я дощеник на сибирской реке. Я хочу отсюдова уйти налехке. А ты, Бог, молчи; поперёк зажжённой свечи не стою, ничево не знаю у судьбы на краю, сердце бьётся, копьём колет под рёбрами, Мiръ недобрый...
Господи, а Ты добрый? Ежели Ты добр ко мне, не вели мя наказать! Тебе не спалось, како и мне! Не крикни надо мною Последний Приговор! Не тать я, не преступник, я лишь жалкий на земле протопоп, Тебе в поклонах разбивал лоб, Тебе в поклонах жизнь дарил, лишь о Тебе одном людям говорил! Лишь о Тебе народу пел!.. допеть до конца не успел... Это не молитва, Господи, это песня, моя последняя песня... на краю пропасти, на краю бытия, скажи, слышишь мя? видишь мя? язык огня зришь? огонь тоже народ! огонь бьётся и бьётся, огонь умирает, яко человек, огонь воскресает навек. Огонь это я, я это огонь, возьми мя, Господи, во Твою ладонь, крепко в кулаке Твоем сожми, для тово родились в Мiре людьми, штобы под конец во Твои руки попасть, ощутить Твоево дыхания сласть, почуять Твоих очей ожог, Ты еси Бог! Я распластался на полу избы... зрел пред собою гробы... могилы, могилы... война... сколь людей погибло... сколь народилося вновь на белый свет... зима, за окном волчий вой... новые воины идут в новый бой... люди сгорают на огромных кострах... поле битвы, тяжёлый страх... сеча лютая... жить осталось минуту... ножи, копья, секиры на облако положи... врага убил?.. да только, мужик, пред смертию не дрожи...
Исповедь, грешный протопоп, Богу шепни... и над тобой возгорятся огни. Вечно, вечно... жить вечно, вечно, Господь... што же будет с ним? што будет с Мiромъ нашим, он же округ нас? и ему пробьёт отверженный час! и ево расколет Звёздный Меч! и не хватит на похороны Ево тонких свеч... Тёмный воск мёдом пахнет, землёй... Господи, не знаю, што на небе станет со мной... Господи, на руки мя, яко робёнка, прими... Господи, вот я умираю меж людьми... а люди родятся, а люди уйдут, земля им бедный, мгновенный приют, земля им, Господи, святая юдоль, грешники все, и для всех быль и боль, а Ты нашу всеобщую боль испытал, когда на Кресте висел в окружении скал, когда расколола молния надвое небосвод, когда Ты кричал: пить! и не слышал народ... когда копьеносец Лонгин тебе вонзил пику под ребро, а Ты шептал: где же ты, добро... а Ты бормотал: где же ты, любовь... а Ты молился: Господу не прекословь... Отец мой! Отец мой! Не оставь мя, не покинь! Я нынче умру, обращусь в лёд и во стынь! И мя похоронят, и не воскресну я! А может, воскресну, то доля моя! И я ея людям всем покажу! И я пройду по вострому ножу! С одной стороны пропасть, с другой небеса... в мучении жить осталось полчаса! Распятие, Господи... было у Тебя... у мя будет огонь... такая судьба...
Господи, слышишь ли мя... дай мне знак полыханьем огня... Дай мне знак тяжёлой рукой... Я ухожу от ужаса в покой. Я ухожу от бури в тишь. Господи, да отчево же Ты молчишь. Господи, осени мя Крестом Твоим. Я лишь человек, я разойдусь в сизый дым, я дымом с земли в небеса улечу, задуй мя, Господи, Твою свечу, накрой мя, Господи, мой огонь ладонью Твоей, малово, сирово средь многих людей; бедново, грешново протопопа Твоево... да возникнет, Господи, Твоё торжество.
И так Господь мой мне отвечал: Аввакуме, сын мой, начало всех начал! Успокой душу твою миром, утешь песнями людей, пробьёшь во скорби брешь смертию твоей, слезою твоей искупишь грехи, мерцают углями в кострище стихи, над тобою мальчонка прочитает стихи из Евангелия... валенки ему велики... Я от нево на расстоянии руки... Я тебя прощаю, Аввакуме, сын мой. Ты ко Мне вернёшься, ко Мне домой. Ты возвращаешься. Окончен твой путь. Положи голову ко Мне на грудь. Я тебя крепко-крепко обниму. Сниму с плеч твоих скитальную суму. Дам в руки тебе свечу, ея зажгу: молись другу, молись врагу. Молись ты Мне и смерти твоей. Смерть это жизнь иных людей. Смерть это радость, собой ея согрей. Смерть это полог, откинь ево скорей.
Узри ея Царство. Узри ея чертог. Там Я царю, твой предвечный Бог. Я всем Отец, вы дети мои. Я лью на вас огонь великой любви. Я лью на вас огонь из широко распахнутых глаз. Я знаю каждый день, Я вижу каждый час. Люблю всякую смерть, благословляю всякую жизнь, ты, сын Мой, крепче за руку Отца держись. Ты мне молись. Един Я для всех. Я твой плач, Я твой тихий смех. Я твоя слеза, скачусь по щеке. Я твоя звезда, горю вдалеке. Я есмь всё. Слушай! так было всегда. Я есмь всё, што лишь придёт; всё, чево не будет никогда. Я есмь густота, Я есмь полнота. Я есмь последняя красота. Я голод и холод, иди по Мне босиком. Я снег твой, твоя метель, сарай твой под замком; сундук самоцветов, руки в Мя запусти, зажми Мя, драгоценново, в жалкой замёрзшей горсти. Подари Мя любимому, любимой в дар отдай. Выпей, иначе перельюсь через край! Вкуси тело Моё во оставление грехов... Мiръ умирает, уходит, жил-жил, да и был таков. А был-то каков, сын Мой? помнишь ево? Помни всё в Мiре, помни дух и естество! Помни глаза детей, помни вопли вдов, помни, как Мiръ военный суров. Помни: кровь льётся, застывает на холоду. Помни Праздник Мой великий раз в году. Мiръ огромен, как Я! Мiръ это Я. Значит, Я и есмь твоя семья. Ты вернулся в семью. Ты вернулся домой. Што стоишь, Аввакуме, протопоп Мой немой?! Разомкнул уста. Вымолвил: слава Богу моему. Ведь глаза закроешь, ныне уйдеши во тьму. Да не во тьму, Аввакуме, нет, а в ярый огонь! Огонь сей Моя ладонь. Огонь сей рыбацкий костёр. Огонь сей, как секира, остёр. Огонь сей корона Царя. Огонь сей зажжён не зря. Огонь сей неугасим; ты вовек не узнаешь, што делать с ним. Он выше тебя. К разрушенью привык. Он безконечен. Яростен ево лик. У огня есть языки. Они взлетают ввысь. Войди в огонь. Помолись. Оглянись.
Мiръ это ты. Пускай Мiръ сгорит. По тебе бабы заплачут навзрыд. А ты, горе руки подъяв, ты знаешь, што Мiръ и прав и неправ. Ты знаешь, Аввакуме, вот Я над тобой. Ты слышишь, Ангел судною трубит трубой. Мiръ твой песня. Широкие крыла. Мiръ твой горит в Моём огне дотла. Летит Мiръ твой, летит между звёзд, горит в черноте кометный хвост. Горит Златая Корона, Я Царь, Я Царь, Космос твой, Господь твой, твой Государь. Всяк падёт ниц у Моих ног. Сколько лиц, сто лиц, и всякий одинок. И всех обнимаю, и всех люблю, и зрю в каждом душу Мою, и зрю в каждом частицу Мою, и зрю: родится там, на краю пропасти младенец... это Я опять... а вы всё будете Бога своего искать. Мой сыне, Аввакуме, Мя не ищи никогда. Я здесь, твой Господь, я счастье твоё и беда. Твои объятья, твой Крест, твой костёр. Твой Звёздный Нож, тяжёл и остёр. Твоя молитва, упование твоё; твоё на ветру метельное бельё. Твой последний, из огня казнящево, крик! а люди бормочут: горит старик... а люди плачут: как страшно человека казнят... ведь жизнь никогда не вернётся назад, вернётся лишь Бог, вернусь лишь Я, восплачь, Аввакуме, на обрыве бытия, помяни Мя, Аввакуме, в молитве твоей, Бога Господа, одиноково средь людей. Ведь Я человек, ведь Я твой Бог, ведь Я, как ты, сирота, одинок; одиноко, в небе раскинув руки, лечу, подобный костру, подобный лучу. Я знаю всё, Я не знаю ничево. Терпи, Мой сын; твоё торжество.
***
(девочка у ночного костра)
О кровь война превыше слов Погибнуть не хочу в мя не стреляй Наш Раскол наш навечный кров Кровь перельётся опять через край Я стала ребёнком я сижу у костра Вернулась древность больна и остра Люди пищу готовят на дне котла Варятся сегодня завтра и вчера Малютка тихо близ огня сидит В отрепьях одели спасибо народ Малютка тихо в огонь глядит Сердечком сложен ея скорбный рот Огонь отражает ея в ночи Златым зерцалом красным стеклом Девчонка скажи что-нибудь не молчи Нам крики и слёзы всё поделом Старуха зачерпывает из котла Старинным половником в миску льёт Жизнь кровь смерть дым пулю из-за угла Живая цель недолёт перелёт И девочка тихо миску берёт Из рук старухи и тихо ест Ночной мороз и созвездий ход Грохочут разрывы окрест окрест Война про тебя и сказать нельзя такая ты страшная никому Огонь отражает мои глаза Текут мои слёзы кровью во тьму
***
(Аввакум и кровь, вновь и вновь. Разговор с кровью)
Ах ты, моя кровушка алая, шалая, на тебя любовь едва дышала, ты то текла, то молчала, от красного истока до красного причала... тя не остановить, ты моя алая нить, привязан я тобою к земле, горишь Алатырь-камнем во мгле, а я знаю: ударишь изнутри, таково силён удар, бросит мя в полымя-жар, кинет мя в ледяную реку, и узрю всю земную кровь, што лилась на моём веку, и почую, како меж пальцев, по кулакам, по щекам она течёт, пятная шкуры одежонки моея, разцвечивая алыми маками лёд, да уж всево мя она залила, я горю в ней, в крови чужой, сгораю дотла, стою, весь красный, из-за потоков кровавых не вижу Мiръ, кровушка ево прожгла до дыр, а дыры те свистят да сквозят: застынь! трава-полынь! никогда не вернёшься назад! А кровь вернётся, лишь кровь твоя! В детях-внуках, на кромке Иново Бытия!
Удар... удар... страшно себе шепчу... кровь, ударь в мя, на красной сковороде изжарь, тело-калач отдай палачу... ведь каково это Христос Бог нам на Вечере Тайной рек: пийте из чаши вси, сие есть кровь Моя, а я всево лишь Бог, всево лишь человек...
Ах ты, кровь багровая, лице твоё железное, суровое, лице твоё вольное-текучее, наплывает красною тучею... багровая-багряная, от бешанства военново пьяная, от угара любовново горячая... целую и плачу, исхожу кровию и плачу... Ах, алый изугень, плывут мимо тя Царские струги... Горячая, густая, такая красная, такая простая, такая жаркая, жадная, жирная, живая, плывёт и наплывает, уходит в землю и снова волны воздымает, вот на морозе дымится, вот на жаре запеклась... вот льётся во грязь, и втоптали во грязь, и с грязью смешалася, с матерью-землёй, великая кровь, то день неизбывный твой... как быстро ты сохнешь-засыхаешь, красный цветок... я в крови моей лежу, одинок, лежу на поле битвы, на поле любви, разворачиваются предо мною свитки, кровушка, твои, красный пергамент, кожа красна, к пальцам, губам липнешь, пылкая, одна, жжёшь, огневая, больней огня, пунцовая, немая, вековая, омываеши сердце, душу храня... О, ты кровушка-кровь, тебе не надобно слов, ты красней брусники, рябины розовей, ты свежа и молода во старушьих телесах, птицей поёшь красную песню средь плачущих, диких людей, среди бедных зверей, средь Божьих рыбарей... сощурюся... и так тя зрю на морозе... странная ты... то крылом сиза голубя отсветишь... то в потоках твоих вспыхнут алые кресты... а ведь, кровь, тя в Чашу Грааля собрали, ты же Богова, Богова, Богова, Бо... ты, оставшися немой и слепой, Божией стала судьбой... распахнутся сизые крыла, и душа возлетит в небеса... кровь, ты драгая красная бирюза... закатом на западе горьком спеклась... человек - то твоя ипостась... лишь тебе, лишь тебе исполать... человеку, кровь, тебя не понять...
Ах, угрюма, темна... твоя темень зело красна... то холодна, то пламенна, инда война... то, преисподняя, черным-черна... то празднично ярка и чиста, алая гвоздика... кровь подле Креста... на колючей наледи... на резучем снегу... бормочу тебе молитву, да не смогаю, не могу... а ты течёшь по лбу и скулам, лик заливаеши мне... сгораю во красном твоём огне, как бы во красном сне...
Красный омуль, красный осётр... алый рыбацкий на бреге костёр; жабры живые топырятся в ужасе-боли, нож остёр...
Кровь, где твоя невинность? Где оправдание твоё?! Ты пятнаешь кольчугу! Расписуешь бельё! Ты жарка и порочна! Ты всех захлестнёшь - не по хорошу мил, а по милу хорош! О, ты безценна... тя собирать в блюдца, чаши, миски, бочонки... ты льёшься мощно, ты плачешь тонко... тонкой слезою... алой струёю... ты, моё сокровище, пребудь со мною... Не желаю, штобы ты старая стала, гнилая, штоб во грехе погрязла, потекла во Ад от весёлово Рая... А хоть я, Аввакум и грешен, да на первом суку, яко разбойник, не повешен, и лучше пущай буду я людям жертвой, и, кровушка, прольёшься ты щедро, без меры, лучче, выше ведь мука смертная, чем предати Солнце нашей старинной веры! Мученики Ангелы. Мученики невинны. Мученики в огне горят, бичам подставляют спины. Мученики светлы, а палачи окаянны. Кровь мучеников священна! Боль мучеников желанна... Кровушка страдальцев! Ты праведная, святая. Прорезаешь красным ножом черноту, втекаешь во преддверие Рая! То застываешь красным льдом. То алым кипятком возстаёшь-бьёшься. То скоморохом с малиновым бубном пляшешь, медведюшкой ревёшь, смеёшься!
Душная, страшная, кипучая, дикая, пропитаешь Пасхальны просвиры и душистое брашно, глядишь кривыми алыми ликами... Глядишь ликами ясными, красотою отмеченными, и частоколом - во храме жалкого тела - твои красные, дрожащие, тонкие свечи... По ним льётся пламя твоё, по алым ветвям, по густым красным хвощам... по дрожащим ногам-рукам... по перевитым жилам, по святым мощам, по страстным, гордым векам...
И што? Што ты-то мне скажешь-шепнёшь?! Я - твой вострый нож! Захочу - тебя отворю! Захочу - сам с тобою сгорю! Захочу - обниму тя и с тобою польюсь поперек январю... А у других народов кровь, она какова? Это тоже ты?.. это ты ли, што молчиши, дышишь едва? Чернокожие чернокнижники... бешаные мавры... угры-бунтари... тевтонские собаки... мангазейцы, што живут во снегах, во чертогах Зари... красные океаны бурлят, лодчонки по крови скользят... люди-люди, штоб вас другие люди убили, вы послушно встаёте в ряд... што Запад в крови, што Восток, всяк преступен, и всяк одинок... у всяково ручонки в крови... молись не молись, живи не живи... люби не люби, всё одно льётся кровь... так зачем же Ты, Христос Бог, на землю нисходил?! где же Твоя любовь?!
Где же наша кровь... где же наша любовь... только боль одна... слезами залит Молитвослов...
Ах ты, дикая ты, дивная ты моя... полит тобою, кровушка, окоём жнивья... окоём живья... окоём Бытия... нет, ты не жидкая, не жиденькая, нет... здорова ты, густа и свята, исходит от тебя великий красный свет... сочится от тебя в холод красный зной... прожжёшь дымные русла в коре ледяной... юным вином во старых жилах кипишь... кропишь влагой Великую Сушь... заливаешь грозой Великую Тишь... ах, медленная, ах, младая, дразнилка старика... огненная страда... рыбья тоска... ножевой закат Севера... таёжный покой... там, вдали, за красной твоея рекой... гладишь мя красной холодной дланью... взрываешь мя алой цыганской сканью... Запад и Север... Юг и Восток... ты, кровь... твой поток глубок... твой поток жесток... тугой твой клубок... ты лихая, кровушка, по землице твой путь одинок... Твой путь средь людей!.. благородных кровей... мужицких кровей... еловых ветвей... Царская кровь... поповская кровь... крестьянская кровь, твой труд тяжек, суров... Кровь Рюриков-князей... кровь не зырь-не глазей... кровь в пепел истлей... кровь во братину, братья, налей...
***
(Аввакум и Время. Разговор с Временем)
Время, не смейся! Я сей же час хочу говорить с тобой. Кто я такой? Я маленький человечишко, может статься, меня-то и на свете нет, а ты есть, время, только ты. Ты... зачем ты, время, существуешь? И зачем мы живём внутри тебя, время? Ты движешься, а всё, што движется, всё, што шевелится, дышит, живёт, помирает, движимо чем-то ищо. А чем, вопрошаю? Кто толкает зверя, штобы вылез он из норы? Кто толкает во спину мужика, штобы он взгромоздил на плечище косу да пошагал на жаркий сенокос? Бабу, штоб она пошла во хлев и подоила корову? Мы силимся вообразить тебя, время; и не можем. Што ты такое во времени, человече? Богатства там не ищи, и за наслаждением не рыскай. Зачем ты живёшь во времени, летишь в нём, яко птица, катаешься в нём по земле диким раненым зверем? Ты мыслишь, што во пространстве живеши, во просторе. Я тоже простор люблю. Я тож во просторе живу. Сей миг руки раскину - и застыну во Белом Поле моём, во просторе заснеженном, в виде Креста Господня. Я один, и мя множество; кровь течёт во мне, пошто она течёт? может, то ты течёшь во мне, время? Ты стремишься из прошедшево во грядущее; стрелою твоею выстреливает Бог, и Он попадает прямо в сердце. В сердце моём огонь горит; это время моё горит. Огонь горит и сгорает, и обращает всё сущее в пепел; пожрёт и мя, грешново. И я пеплом стану. Где вечность? Время, ты всё врёшь, што бывает вечность!
Время, зачем ты хранишь и сохраняешь? Я не хочу сохранения! Я не бирюлька во шкатулке! Я живой колокол гулкий! Я не хочу ни верха, ни низа! Я не хочу ни смерти, ни жизни. Я не хотел быть. Пошто мя родили на свет отец и мать? Есть у каждово живово существа приказ: войти в жизнь. И входим. А опосля живём, а жизнь из нас беззвучно утекает. Вылетает вон тепло. Всё равно што отворить печную заслонку. Внутри мя течёт время; оно умирает внутри мя каждую минуту и каждый краткий миг. Я разглядываю моё бедное время, так наблюдают дно сквозь прозрачную толщу чистой воды. Што есть мгновение? миг? малая частица твоя, время; ты испускаешь лучи, лучи златыми казнящими копьями ударяют мне в лоб, и мя осеняет мысль, и мя захватывают чювства, но я знаю, знаю, время моё, ты безповоротно, тебя не вернуть, ты како поверхность воды, брось в воду камень, и зачнут расходитися круги, но круги никогда не будут сбегаться обратно, а лишь разбегаться, камень утонет в реке, заляжет на дно, ево не отыщешь, ежели нырять, ежели искати, широко отворивши глаза, камень тот, не самоцветный, простой булыжник. Хоть день, хоть год напролёт ныряй, а не найдёшь ничевошеньки. Зачем нам идти обратно, когда можно идти вперёд? Боже! Боже! А ежели так охота возвернуться!
Время, што есть твой промежуток? Мгновение ли? Али несчётный, великий эон? Тьма тем тёмных времён, лишь для единово вдоха; штобы пройти время из конца в конец, нужна такая малость: всево лишь человеческая жизнь.
Што такое тысяща лет? Што есть безконечность? Никогда не узнаем. Не узнаю тово и я. Я ночью выхожу во двор; всюду искрится алмазный снег. Я задираю главу к небесам, уставляю очи во зенит, ветер рвёт мою браду седую, ударяет мя в лоб, отвешивает мне пощёчины. Я гляжу, запрокинув лице моё, горит, мерцает углями в печи звёздное небо, и предо мною катится великанским Колесом Вселенная, моя Вселенная. Она есть свет и тьма, в ней есть время и безвременье, я не могу остановить взором моим бег времён, мой взор суть стрела, пронзает просторы взгляд, два глаза суть две звезды, их видать далёко, с самово Млечново Пути; како я, Аввакум, зрю звёзды, тако и звёзды зрят мя. Я, Аввакум, вижу Млечный Путь, звёздные хоры, сияние небесново мафория, созвездия, цветы на небесных лугах, перекрестия ярких лучей; звёзды клубятся, вспыхивают, загораются, умирают, нарождаются вновь, а я, грешный Аввакум, я уж боле не рожусь никогда.
Я, такой, каков был здесь и ныне, уж не вернусь на мою землю. А зачем, скажите, являться сюда ищо раз? Разве вся драгоценность жизни не в том, што ты живёшь на земле только раз-разочек, и боле ты не явишься здесь никогда? Ежели ты излучаешь душою свет, ево узрят и чрез века, и чрез тысящи лет; ежели ты тёмен, яко непроглядная ночь, тебя никто никогда не увидит, и ты, бедняга, сам превратишься в ништо и никогда. Да што ж такое минута, час, год, век, вечность? Што такое вечный твой поток, время, вечное кружение, вечный круг, годовой круг, вековой ли, Вселенский? Круглое Звёздное Яйцо, а внутри Яйца весь наш Мiръ. Круговращение? Кругостремление? Кругопрощение? Круговерть? Кругосмерть?
Кругожизнь. Быстро катим; крепче держись.
Колесо, Колесо. Огромен ево бег. Катится по Звёздному Ковру Колесо бытия.
Небо - тоже Колесо; бег ево неутолим.
Мiра тяжкое Колесо раздавит тебя, переедет, родит, омоет кровью, увезёт в Иные Времена.
Жизнь одна.
Нет, не одна.
Здесь и теперь. Господи, я не знаю, што такое здесь и теперь. Может быть, здесь и теперь суть там и тогда. А мы просто веруем в то, што там и тогда стало здесь и теперь. Человек, то раскол между временами. Всяк человек собой раскалывает время. Он есть раскол, разрыв. Он живёт на разрыв. Есть вечная Вселенная, есть смертный человек; а может, всё наоборот: есть вечный человек, и есть Вселенная, што однажды умрёт. Нет войны, но мы все умрём. Мы не воины, но мы все умрём. Время есть Вселенная. Вселенная есть время. Бог есть время, и Вселенная есть Бог. Бог, слышишь мя? Движение небесных тел есть Ты. Ход звёзд вокруг единой Полярной Звезды Ты один устрояешь. Ты считаешь числа и говоришь слова, и воздвигаешь Ты небесные дворцы. А времени, Господи, может быть, и нету. Для времени всегда нужно начало и всегда нужен конец, а Вселенная, разве она началася однажды, разве она не пребывала всегда? Безконечный ход вещей. Безконечная смена радостей и страданий. Безконечность идёт, проходит, умирает и рождается вновь; ведь она безконечность. Круг возобновляет вращение; время повторяет себя. Колесо времени, то чистая вера; мы верим в то, што ничево не закончится никогда. Время, ты число али слово? Ежели слово, то любовь; а может, смерть, тово мы не знаем.
Господи, што такое движение? Вот я сделал шаг. Вот я подъял кулак. А может, мне то лишь кажется. А я остался недвижим; стою на месте. Егда я лягу во гроб, и мя положат в могилу и засыплют землёю, буду ли я заутра, после похорон, безсмертной душою глядети на звёзды, али то будет делати другой человек, живущий после мя? Время смеётся над нами. Время, не смейся! А ты всё равно смеёшься. Я не могу прервать твой смех. Ты просто часы, песочные часы, тоскливые, равнодушные, бьют по зрачкам стеклянным мутным блеском, и льётся внутри них серый песок, когда я ночь напролёт царапаю пером в моих жёлтых, инда берестяных, инда восковых, толстенных тетрадях. Я ставлю пред собою песочные часы, штобы они напомнили мне о жизни: льётся вода, струится песок, дышит человек. Он вдыхает и выдыхает, он бодрствует и почивает. Всё на земле есть круг. Наше дыхание тож идёт по кругу: вдох-выдох, выдох-вдох. Каждый день мы проживаем, не зная, како ево мы проживём. А может быть, мы севодня умрём. А может быть, мы завтра воскреснем! Мы раскрываем глаза наши навстречу дню, значит, мы глазами целуем время. Мы глазами проклинаем время, и зрачками нашими ищем то календарное древлее бревно, на коем дедами нашими выбиты глубокие жизни зарубки.
Так мы пытаемся поймати, изловить время. Звёзды движутся, а зарубки не шелохнутся. Ветер парит, летит, ярится, бешанствует, вино во бокал перевитой кровавою струёю льётся, в братину, во жбан трактирный, в Причастия потир, опускают в вино священный хлеб, Тело Господне, и пресуществляется хлеб земной во Святые Дары, и Святые те Дары во лжице золочёной подносит иерей ко дрожащим устам причастников, што исповедь, яко огонь, насквозь прошли. А зарубки, зарубки-то судьбы не двинутся; стоят на месте. Выходит так, время, ты стоишь на месте, а движемся только мы, у каждово из нас своё время, оно принадлежит лишь тебе и боле никому, то твой круг движения возле неугасимово Солнца Вселенной, твой гончарный круг судьбы. Исус Навин остановил во время жестокой битвы Солнце, он смог сие сделать лишь одним диким, в небеса пущенным криком! Навин послал крик в пространство, а Солнце остановилось во времени. Так Исус Навин поборолся со временем, и время ему подчинилось. Он победил время! Но только на миг. Время, не смейся! Ты смеёшься зело белозубо, ты смеёшься зело нагло над нами. А мы всё плачем и плачем, мы слишком крепко связываем тебя, время, нашим вдоль и поперёк исхоженным пространством; мы можем пройти из конца в конец хоть весь земной простор, но, время, тебя мы никогда насквозь не пройдём, слабы наши ноги для таково похода, и не возьмём мы в тот поход Ангелов в подмогу, и не возьмём мы в тот последний поход друзей наших и братьев, потому как пространство, куда мы идём, есть пространство смерти и есть время смерти. Круговорот! Круговращенье! Кругопожар! Кругомолитва! Нас утешают: вот совершит земля круг... Закрой глаза, а потом открой! Ты же вернёшься! Ты сам есть мера времени. Ты есть мера твоей жизни. Постой, Господи, повремени, тише, молчи, я понял: мера времени - жизнь.
Я согласен быть теми зарубками на брёвнышке дедовом. Я согласен быть птицей и летать во безумном окруженьи пуль и огней; согласен быть песком, быть льющейся водой; согласен быть маятником, стрелками часов, согласен быть звёздами в ночи, што круг свой совершают возле крепко вбитой в небосвод Звезды Полярной, алмазной. Время, прилив и отлив, медузы морские, мёртвые, оживают на берегу, когда к ним прихлынет вода; пчёлы не летят ко цветам, ибо цветы отдают пчёлам нектар лишь в назначенное Богом время дня. Што есть жар? Што есть холод? Они есть время, ибо они граница жизни. Коли тебя поместить в огонь, ты сгоришь, жить не сумеешь; ежели тебя бросить во снег, ты замёрзнешь и обратишься в лёд; ты не можешь выжить ни во льду, ни в пламени; границы жизни твоей очерчены крепко и точно. Ты должен жить здесь и теперь, где ты жити можешь. Хрупок человек, слаб! Я всегда считал, што я силён, аки бык, медведь и волк, троица зверья, могучая, но пред мощью Господа я прозрачен и жалок. Не знаю, сколь бы я прожил, ежели бы не на костёр мне заутра. Прожил бы я осьмьдесять годов, сто годов, двести, а Бог весть; Мафусаил вон справил девять веков, да и был таков.
Старец Мафусаил! Да и все пророки, в небеса восхищенные! Кто определил им время жизни их? Ты, Господь? Как же Ты возстанавливал их ослабелые члены, како зажигал их холодную старую кровь? Человек и зверь, все равно склоняют выю под времени ярмо. Сочти время нашей жизни, Господь! Смеёшься над нами: экие безпомощные мы котята, не можем и повторити Тебя во безсмертии Твоём! Во часах звенят пружины и шестерёнки; то их сознание, стальное разумение; а наше, людское сознание живо и кроваво, не железно, не скрежещет внутрях волшебново ящика. Мысль - вино, пьянящая брага. Слышу невнятный шум; вижу огни; словно бы дикие чюдовища движутся строем и несут пред собою безумные факелы. Како я могу зрети произошедшее в далёком времени? И увидеть, чево не видел никогда? Я вижу то во сне. Сон, моё зерцало; я в тебе, бредовом, всякую ночь отражаюся; и я отражаю сном тебя, время. Время, ты живёшь во покое. Ты спокойно и равнодушно. Я безпокойный! Я рвусь, я мечусь. Потом застываю. Я твоё зерцало. Я падаю, разбиваюсь, а Бог соединяет мои осколки воедино, и я снова могу отразить то, чево отражать нельзя.
Созерцайте мя, людие! Я и человек и зверь, я и память и забвение, я вижу, како я вышел из дому, путник, како пошёл вдаль и вперёд, с котомою за плечьми; тот путник бредёт, а за ним бежит жёнка, и детишки малые еле поспевают. Я иду и иду, я молюсь и молюсь, я знаю, што умру, но всё равно иду и живу; я иду по пространству, прохожу ево насквозь, а время живёт во мне глубко, тайно и скорбно, и, возможно, я лишь воображаю моё настоящее, оно мне лишь кажется, навроде сна. Мя бьют - мне мнится, што бьют. Мя вздёргивают на висельцу, мя разрывают надвое - мне кажется, што убивают. Я желал бы не помнить ничево. Я хотел бы стать рыбой, лягушкой, воробьём, гибкой змеёй, штобы не знати, как знает человек; но, может быть, рыба, птица, змея, червь, воробей, павлин, грозный волк, страшный лев всё прекрасно знают, што будет с ними. Они знают сие кровью; они знают сие всею жизнью. Мир богат и щедро населён живностию, а я один. Мне тоскливо, мне худо во одиночестве моём; как же мне тяжко одному! Вот завёл я во юных летах жену, штобы не умереть с тоски, продолжить, как положено, род; я заимел жену, штобы оживить память, знать: то уж было под Луною, а то, жди, ищо только явится. А я пока тут, вот здесь, нынче, обнимаю жёнку, мою бедняжечку, плачу по прошлому. И тоскую по будущему. Я пока ищо живой, я слишком живой, ибо я помню. Время, не смейся! Ты - память.
Ты память, а я безпамятный. Ты прошлое, а я смерть прошлово. Ты будущее, а я младенец будущево. Усилия памяти моей обрываются. Силюсь воспомянуть то, чево не случалось со мною никогда. Мой народ на наше время, как на гору, взбирается. Он пьёт из будущево кровь, штобы жить настоящим. А моя жизнь што? Причюда, видение смутное. Человече, ты лёгкая листьев дрожь, соки, што ходят во древе под корою по весне. Время, владыка памяти. Тихо прянешь, хитро; неслышно. Широко раскрываю глаза. Жена спит рядом. Дети спят тихо. Иной раз младший воскрикнет во сне. Дети не знают, што еси такое ты, время. Разум их спит-почивает. Не ведают, зачем они здесь и куда уйдут. Дети есть след мой в Мiре? Нет! Никакой не след. Они - не я. Я не могу назвать их собой, хотя и отчество моё носят они. Я сам по себе. Один. Они сами по себе.
Время, я желал бы, штобы ты струилось непрерывно. Но прерываешься ты, яко рвётся мысль. Ты умираешь, подобно чювствам. Скоростью ты обладаешь; вот скачет конь, вот трясётся на ухабах телега, вот косят рожь косцы, и возлетают сребряными молниями их вострые косы, трава полегает под лезвиями, и серп жнёт рожь, и звёзды восходят в ночи над летней жаркой землёю, и выпадает поутру роса; пора сбора урожая, скрипит года Колесо, годовое счастье, годовой пот, святость праздников и буден, тебя, время, измеряем нашим трудом, и мы не помышляем о тебе, просто живём внутри тебя, и ты прибываешь и убываешь в жилах наших; я догадался, время, ты еси наша кровь.
Нет! Ты огонь. Возжигаеши нас, штобы мы возгоралися живыми свечами и сгорали во имя Божие во незримом храме твоём. Мы всево лишь огненные вспышки. Мы всево лишь свечи, при свете коих надлежит молитися, но молитву возносить при нашем свете будут другие, будущие люди. Я не знаю имён их, не вижу во тьме лиц их; мы, свечи, погаснем, а свет наш останется, повиснет огненным облаком под куполом во плачущем храме.
Глад... мор... землетряс... Кто опишет грядущие страсти? Хвороба косит людей, яко траву. Время, ты вдыхаешь жизнь, а смерть выдыхаешь. Сколь времени проходит между смертью и смертью, между родами и родами? Вот я робёнок, и в салазках качуся с крутой горы. Вот я близ бабкиной прялки. Жужжит веретено. Дверь печи отверста, и мой батюшка Пётр кладёт в печь дрова. Пламя рвётся вон из печи. Вот мя пытают, вот мя бьют. Тово помнить не надо! Но помню, како мя любили; сие врачует мои раны. Время, может, ты еси Число? Тебя надлежит измерить, изследить, взвесить, сосчитать, дать тебе имя, напечатлеть на гордом лбу твоем корявую цифру: вот сколь тебе лет! Ты свободно, время. И я - свободен. От тебя! Я сам себе хозяин. И Бог один надо мною господин. Ево святая воля. Люблю родных моих. Землю мою. Ея топчу. Она неподвластна тебе, время. Неподвластна, слышишь!
Не расколешь, время, землю мою родную! Нет!
И народ мой надвое не расколешь; народ, он един, яко ты, всевластное.
И, может, время моё, народ и есть подлинный властелин твой; Царь твой.
Да, народ есть великий Царь времени; как я ране не догадался.
В домах ли со крышами и стенами, во срубах ли мы живём? Истинно, живём мы в открытых небесах. Царь Космос владыка наш, царицы-звёзды княгини наши. Древлюю грецкую сказку упомню. Ползёт черепаха, за нею бежит герой Троянский Ахиллес. Черепаха вперёд уползёт, Ахиллес на шажочек приблизится ко твари в костяной кольчужке. Герой вперёд устремляется, а черепаха успела уж уползти! И так состязаются они, бедные; и герой никогда не догонит черепаху. Тако же и мы со временем. Мы бежим, а оно, с виду недвижней черепахи, всё резво ползёт вперёд, и не догонишь. Тёмную колючую ель, человече, во Рожество сребряною позёмкою корми! Ко стопам пророка поверзись да молитву ему горячую вознеси! Полночь, и незримыя звёздочки молочною пылью покрывают морозные смоляные небеса. Мы, людие, всево лишь игрушки на праздничной зимней ели. Мы украшения, наряды, самоцветы на шелках твоих, время. Не можем мы тебя измерить и взвесить, яко у Валтасара на пире. Огненные твои письмена на стене: МЕНЕ, ТЕКЕЛЪ, ФАРЕСЪ. Разве, время, ты наши горькие ночи-дни и наши грешные мысли? Мы вдыхаем тебя. Мы отвергаем тебя. Мы плачем над тобою и обнимаем тебя. А вот то, о чём помышляем, ты не видишь, не слышишь. Мы тебе не нужны.
Радуга обнимает летний окоём после грозы; твой знак, время. Показало бы ты нам, время, хоть раз, как является на свет звезда! Как робёнок из бабы родится, то я видел; звёзды сияли всегда, сколь человек землю топчет. Звёзды в небесех горят, дрожат в ночи, и несть им числа. Время, ты ход звёзд! Праотцы наши в волчьих шкурах стояли в ночи, главы задирали, Звёздное Колесо созерцали, ход времени наблюдали слёзным смертным оком. Зрели праотцы тебя, Царь Космос великий! Время, есть ли у тя пределы? Есть ли граница, за коей кончаешься ты? Могу ли я воскликнуть: нет времени! али не смогу так сказати никогда? Из причины родится явление. За ударом меча из раны кровь вытекает. А вдруг прежде меча прольётся кровь? Вдруг прежде сева поспеет урожай? Поперёд дождя и жара, прежде снега каковые забытые ветры землю объемлют? Замрёт круговращенье времён: счастие то или горе? Што с нами станется через тысящу лет? Время, разрушу твой чертог! Не видишь, я умираю в нём от тоски!
Разорение, боль, времена смерти; вкушаем их, како с полынью пирог. Дом есть Мiръ, мы в нём не сироты. Да холоден наш дом. Покрыто внутри нево всё инея седой пеленою. Дрожим и трясёмся, от голода плачем. Страшно, когда тебя проклинают! Но ищо страшнее проклинать самому. Больно, когда тебя повоюют! Но ищо больнее воевать самому. Мы смеёмся во весь рот, яко скоморохи площадные, а ты, время, слышишь, не смейся! Хочу изъяти тебя из нашей жизни, да не поддаёшься ты изгнанию. Ты же пребудешь в конце, како пребыло в начале. Разве ты настоящее? Может, ты вымысел, разломанная младенческая цацка, глиняная свистулька? Пытаешься нас обмануть! Шепчешь нам в уши: вечен человек!.. а назавтра нас нет, и там, где стояли мы и молились, дышит пустота. Все, што будет, уже было, правду глаголет Екклезиаст! Мы с тобою извечные враги, время! И мы вечные братья! Не подавай мне руки, время. Не надобно. Мы стоим друг пред другом и глядимся друг в друга, яко в зерцало; мы внутри одново яйца. Мы ищо не родились. Мы, ты и я, лишь заутра из огня родимся.
***
(Твоею молитвой)
я ждал Тебя когда Ты придёшь молился я пред образами Твоими возьми мя в руки я Твой потир Твой нож Твой пояс где вышито Твое Пресвятое имя на Тя уповаю да не постыжуся вовек средь Мiра одна моя Тебе слава среди войны Твой солдат имярек паду пред Тобой на колена всею державой Ты девочка ясная Ты дитя Ты Матерь Бога моево Ты матерь воли я шёл по земле Твоё имя твердя умирал с Твоим именем не чуя боли а Ты малюткою подходишь к моему костру к огню военному после битвы и я на Тебя крещусь знаю опять умру а после воскресну Твоею молитвой
***
(Аввакум и малютка Богородица у костра в Сибири)
Я вышел ночью на снег; звёзды, инда свечи во громадном, немыслимом паникадиле, горели над моею головой. Решил я во снежной ночи разжечь костёр. Удалося то мне: собрал дровишки, ветки сохлые, хворост долго разжигал, дрожь на морозе объяла мя. Кремень впивался в голые пальцы, огниво дрожало в руках. Мёрзли ручонки-то. Надел голицы, снова сдёрнул, кинул на снег; вот наконец заполыхал огонь. Огонь, я стал глядети на нево, глядел-глядел, таращился, и внезаапу из огня ко мне вышла девочка.
Девочка, босая, в лёгком платьишке, в тонкой холстине. Я стал стаскивати с себя тулуп, штобы принакрыть ея дрожащие плечики. А сам себе думаю: брежу я, старик Аввакум! то ли браги бродячей, случайной, в мимохожей корчме, улизнувши от тюремщиков, грешно упился, то ли возлежу в ледяном застенке да сплю, умученный, без просыпу! А мне только снится двор, и синий снег, и костёр, и хочу вымолвить слово, а девчушка сия малая остановила мя мановением тоненькой ручонки. И так возговорила: не старайся, отче, не заботься, Аввакуме, мне не холодно! Мне земля твоя под ногами горяча: снежная, безбрежная! А мне и так жарко от костра сердца моево! Как тебя звать-то, дитя, пробормотал я, я сам-то уж сердцем знал, чуял, што она мне ответит. Глубоко воздохнула девочка да так речет: Мария звать мя, отец мой Иоаким, мать Анна. Тут все волоски на телесах моих и на главе моей бедной восстали дыбом. Неужто Богородица предо мной? и в какую такую небесную награду я ныне созерцаю Ея вечное девство и вечное детство?
Зимняя ночь, сибирская ночь, и посреди Сибири лютой стоит босая девочка Мария на снегу. Платьишко Ея холщовое развевает ночной морозный ветр, ножки босые на морозе краснеют, поджимает Она их под себя, тянет руки к костру, головушку наклонила набок, ровно зимняя птица, на мя пристально глядит. А ты вот, отче Аввакуме, што молчишь? спроси Мя, отвечу тебе. Али онемел твой язык? сердцем тогда спроси, Я услышу. Я закрыл глаза, и предо мною замелькали древлие свитки, пергамены, ломкие бумаги, соломенные истлелые папирусы, и вдоль да поперёк испещрили их диковинные, тайные письмена. Сколь Евангелий начертано было на телячьих кожах, на желтеющих от старости тканях, то неспешно, то второпях, смертной человеческой рукой! сколь буквиц возсияло о Господе Боге нашем, о Рожестве Ево на свет! О смерти Ево в муках на Кресте! О Воскресении Ево, да о Матушке Ево Богородице кто нам сполна, любовно поведает? много, много наречий земных знают умные люди, мудрецы большие; Святое Евангелие звучало и на сирийском, и на эфиопском, и на грецком, и на языке потомков Урарту, и на иверийском, и на латынском, и на всех языках всех земель, где сходно с нами говорят; во Царстве Болгарском, в Королевстве Чешском, в Речи Посполитой, в нежной Малороссии, што песнями дивными славится, всюду чтут Евангелие и возглашают ево Слово во храмах Божиих. Да храмы, вот горе-беда, передралися меж собою! Кто католик, кто григорианец, кто двуперстием крестится, кто щепотью, а кто и всею ладонью; вражда, вражда! Кирилл, Мефодий, восстаньте из гробов ваших, штобы нас всех в лоне Единово Логоса примирити!
Стоял я на снегу пред девочкой чюдесной, глаз с Нея не сводил. Ну, расскажи, Мария, мне про отца Твоево и Матерь Твою! Каково бытовали они, родители Твои святые, как родили Тя, како лелеяли, как вскормили, вспоили и возрастили? А сам страшно, тёмно молчу про потаённое; ведь до Благовещения сколь ищо веков должно пройти! Да назад пройти-то али вперёд?! Дрожу дрожмя. Улыбнулась святая девочка, переступила на снегу нагими ножонками. И так возговорила: Иоаким звали батюшку Моево, был богат он, драгоценные Богу дары приносил, да и всё повторял: пускай прибудет от богатства моево радости всему нашему народу, веруйте и молитеся! А мя за добрые деяния Господь всегда вознаградит! И так приносил он дары Господу во храме нашем, и раздавал богатство своё людям. И за то люди, отче Аввакуме, знаешь, сильно любили ево и почитали. И вот однажды нашёлся злой человек, обидел он отца Моево, сказав ему: уйди и не приноси боле дары Богу во храме святом, ибо ты не подарил потомства государству нашему! Обняла скорбь отца Моево Иоакима; не пошёл он ночью к супруге своей, матери будущей Моей, а взял да ушёл в пустыню, сердитый, разбил там шатёр, ночевал в нём, глядел на звёзды, утишал созерцанием дивных многозвёздных небес печаль свою, молился и постился.
А мать Моя в те поры плакала, горько рыдала. Всё твердила: нет детишек у мя, нету, и сокрушаюся я, ибо старуха я и скоро помру! И муж мой старик, и никово не родили мы с ним во всю жизнь нашу долгую на свет Божий! Нету наследников у нас, продолжателей рода нашево! А тут служанка подошла, тихо вопросила: доколе, госпожа, будешь ты терзати слезами бедную душу твою? Нельзя так долго плакать! возрадуйся! И сняла мать Моя тряпицы будние, и украсила расшитой парчовою повязкой свою седую голову, и надела одежды брачные, нарядные, и пошла в сад, вертоград; гуляла там среди дерев, дышала ароматами цветов, колена преклонила и начала молиться: Господи! призри на мя, как призрел ты на престарелую Сару и дал ей младенца! И подняла мать Моя лице своё, и увидела на лавровом древе гнездо воробья; и тут стала опять причитать: о, горе мне, горе, зачем породила мя мать моя на свет! кому же я, бесплодная, нужна! не подобна я птицам небесным, вот у них птенцы во гнезде пищат! Все твари безсловесные дают, Господи, потомство под крылом Твоим! Птицы в небе, звери во лесах, рыбы в водах, раки и крабы морские, миноги и осетры, караси и восьминоги, и индрик-звери, и китоврасы, все живут, все плывут, все вдаль улетают, и все-все-все, до единово, рождают себе подобных... Слёзы лились по скорбному лику матери Моея Анны, и тут Ангел предстал пред нею и так молвил: не плачь, милая Анна, зачатие ждёт тебя! Родишь дочь, и о ней будут говорить по всей земле и в мiрахъ иных! И мать Моя воскликнула: жив Господь мой! И ежели рожу я робёнка, отдам ево в дар Господу моему!
И возвернулся отец Мой Иоаким из пустыни домой.
И подошёл отец Мой к жене своей, матери Моей Анне, и обнял ея крепко, и шепнул ей на ухо: зачнёшь, жена моя, и родишь!
И принёс новые дары Иоаким во храм Господень, и вошёл он к жене своей Анне и был с ней.
Через положенный срок явилась Я на свет. Мать родила Мя и вопросила, ково родила. А повивальная бабка прижала палец к губам и молвила: дочь у тебя. Подала повитуха матери моей Мя, и прижала мать моя Мя ко груди, и шепнула: Мария, таково имя Твоё. Отче Аввакуме! Холодно тут, в вашей снежной земле. Заверни Мя в шубу твою, на руки возьми, Я ведь ищо малая. Я подхватил Ея с колючево снега, запахнул в полу тулупа, шагнул поближе к костру, сел у огня и держал Ея на коленях, во тулуп завёрнутую, у себя за пазухой, яко птичку крошечную, а Она смеялась и бормотала: щекотно, и колется, странная шерсть тут у вас овечья, наши овцы в пустые иные, тонкорунные, нежная, яко шёлк дамасский, шерсть у них. Я шептал над Ея головёнкой: Заступница!.. во тончайшие шелка, во теплейшие меха, дай срок, укутаю Тя! Како же Ты росла там, в жаркой стране Твоей? Как все, шептала Она весело, как все! Так и стала расти-возрастати, да ходить научилась рано. Помню, исполнился Мне год, мать спустила Мя с рук и сказала: иди! И Я пошла по каменным плитам, и возвернулася к ней. А отец Мой Иоаким устроил большой пир и созвал мудрецов и старейшин; и они благословили Мя, восклицая: Бог отцов наших, благослови чудесное дитя! Мать подошла. Взяла Мя из рук отца. Унесла с глаз людских, вошла в опочивальню и там грудью кормила Мя. Это был Мой первый пир. А ты угостишь Мя вкусным яством, отче Аввакуме? Абрикосом, али гроздью винограда? Я так люблю виноград! Я глубоко и тяжело вздохнул: не растёт в Сибири виноград.
Я могу, Мария, угостить Тя только куском жареной курицы, курочка есть у мя, несушка, не раз от голодной смерти она нас во дороге да во тюрьме спасала, яичко снесёт, мы и живы, да ничево мне для Тя не жаль, Пречистая, во имя Твоё и славу Твою, Царица Небесная, отрублю я голову птичью да ея ощиплю да зажарю! Могу угостить горбушкой ржаного хлеба, чистой ключевой водицы жбан могу налить, изопьёшь, а то принесут завтра ищо молочка свежево от сибирской рыжей коровушки, вот я Тебе молочка-то и поднесу... согласна до утра подождать? какой тут виноград!.. Ты же видишь, могучие снега вокруг! Девочка вздохнула: да, богато снега тут, земля твоя называется Сиберия, Я знаю. Ну, спроси Мя ищо о чём-нибудь, Я всё-всё тебе расскажу. Я же всё помню. С самых ранних дней Моих.
Я дрожал, крепче запахивал девочку в тулуп, всё ближе придвигался к огню; языки огненные лизали нас. Я боялся, што тулуп мой возгорится. Звёзды пылали ярко над нашими головами; они тоже слушали, как малютка Богородица рассказывает мне о жизни Своей.
Милая девочка... голос мой дрожал и срывался... я знаю, што, когда Тебе исполнилось три года, тебя повели во храм, ко Господу Твоему. Помнишь ли Ты тот святой поход? И како Ты по крутым ступеням в обитель Бога поднималась? Смех Ея зазвенел звонким колокольцем. Помню, ищо как помню! Рек отец мой Иоаким: служанки наши, непорочные девицы! берите светильники с жиром и стойте со пламенем в руках, пока дитя наше шествует во храм! И так стояли служанки, и пылало пламя у них в горстях. Иоаким и Анна нарядились ярче Солнца ясново, облачили Мя в ярко-алое шёлковое платье и повели во храм. Я подошла близко к лестнице, што вела наверх; высокие ступени, трудно шагать. А Мя Ангел на крыльях перенёс. Лехко подхватил и вверх, вверх нёс Мя на руках, вперёд и вверх; Я не чуяла тела Моево, а чуяла Себя лёхкою, лехче птицы. Вышел священник, погладил Мя по волосам. Положил руку мне на лоб и молвил: девочка! возвеличим имя Твоё во всех родах, и будешь всему народу избавление, исцеление и утешение! За руку подвёл Мя святой отец к жертвеннику. Ярко горел огонь, вот как у нас нынче на снегу горит костёр. Мне стало тепло. Потом жарко; потом светло. Я закрыла глаза, и будьто сотни голубей стали порхать округ Мя; тогда я вскочила на ноги, и стала прыгать на месте от радости, и слышала, как внизу кричит народ: славься, славься, Мария, дочь Иоакима и Анны!
Она замолчала. Я тоже молчал. Я представил себе девочку, што ходит по пустому солнечному храму, а потом машет руками и невесомо летает внутри храма, яко голубка, и садится на окошко, што под самым куполом. А в окно влетает Ангел и протягивает девочке амвросию небесную. А я? Што могу я Ей предложить? Только хлеб земной, хлеб грубово помола, ржаной; только молоко от сибирской коровушки, ох, бравое, сладкое.
Я шепнул ей в тёплое ушко: Мария, благословенная, хочешь молочка? Совсем скоро ево бабы сердобольные ко мне принесут; может быть, чрез два часа, может, чрез три, когда ночные светила совершат по небу круги и укатятся за окоём. Красная звезда Марс, алая звезда Антарес исчезнут во тьме, и охотник Орион уйдёт ловить зверей на ту сторону жизни, и не узрим мы боле сверкающий меч, што висит у нево на поясе. Час. Два. Три. Видишь, како мы измеряем время. Но для Тебя, Богородица, счастие моё, времени нет. Дождись молочка! Ведь когда ищо Ты появишься в Сибири!
Я весь дрожал, я понимал, мне снится сон, понимал, Ангел коснулся чела моево крылом, штобы я тот благословенный сон въявь увидал... но слишком настоящим было Ея детское тёплое тело, Ея нежное горячее ушко, што высовывалось из-под русых тонких волос, Ея тонкие ручоночки, што медленно перебирали овечью шерсть моево старово тулупа, будьто хотели заново спрясть. О чём мне, грешному, было спрашивать Матерь Бога моево? сместились времена, я узрел святую девочку, я обнимал взором лице Ея и ласкал благоговейною душою неизреченный свет Ея; грел Ея теплом тулупа и огнём костра, Она была моей малой доченькой, и я, како отец, благословлял Ея; Она шептала мне: отченька, когда вострубит труба Господня и все люди услышат приговор последний, тогда я слечу к ним белой голубкой, а я шептал Ей в ответ: пройдут годы, ты потом полюбишь прясть, улыбаюсь, шепчу: видишь, какая густая шерсть тулупа моево? из шерсти овечьей можно связать прекрасный хитон, соткать кафтан, тёплую понёву, сваляти шапку, и не будут страшны никакие морозы. Я знаю всё, што будет с Тобой; рассказать Тебе? Она тихо засмеялась: зачем рассказывать Мне это! Я всё тебе сама расскажу, Я прекрасно знаю, што будет потом!
Прижал я холодные пальцы ко рту. Ты знаешь о том, што Сына родишь, Он вырастет, а люди казнят Ево, Ты и это знаешь?
Знаю!
Она смотрела радостно и спокойно, в глазах Ея стояла влага, то ли слёзы радости, то ли слёзы ужаса; вот потекли по щекам, потекли за ворот Ея холщовово платьишка и растаяли в густой овечьей шерсти моево старово тулупа. Я знаю всё. И ты знаешь, што я сие знаю. Гляди, как костёр красно горит! Гляди, какая чистота и тишина кругом! Какой прекрасный твой снег, он пылает самоцветами у нас под ногами, и он густо, инда млеко льётся, валит с небес, он падает так, как падают звёзды, ево не остановить, всё тако устроил Господь. Разве мы можем пойти против Нево? мы должны быть согласны с Ним во всём; Он устроил так, што есть снег, Он сделал так, што есть детство, юность, зрелость, казнь, смерть; самое главное на земле, это роды и смерть, рождение и уход, Божья Матерь о каждом человеке, на земле живущем, знает всё, как ежели бы это был Ея робёнок; ты Мой робёнок, отче Аввакуме! И тут Она коснулась нежными тонкими пальчиками моей заросшей брадою щеки и горько прошептала мне: знаю, отче Аввакуме, как ты умрёшь. Вот смотри в костёр; ты умрёшь от огня. Огонь, то твоя кровь; огонь, то твоя судьба. Не отворачивай лице своё от огня, как Сын Мой Исус не отвернул лице Своё от Креста. Крест был назначен Ему. Я малой девочкой знала: рожу Сыночка, а Ево распнут на Кресте. Зачем люди жестоки друг к другу? Злоба живёт в Мiре Божием; жестокость, злоба, ненависть, месть зачем-то Мiру нужны; должно, затем, штобы возлюблены были нами любовь, прощение, радость, ласка, чистота. Как научиться прощать? Как научиться любить? Научиться тому невозможно. Ты знаешь, люди рождаются с любовью в сердце; вот Я родилась с любовью, а ты с чем в сердце родился? с огнём? Слушай, што тебе шепчет огонь!
И огонь шептал, и я слушал: я огонь, я назначен вернуться в огонь, я должен сгорети в огне, я должен возлюбить огонь. Огонь мой Крест, мой робёнок огонь, мой отец огонь, мой Господь огонь. Я повторял себе сие как заклинание; я свыкался с таким приговором, ведь мне ево произнесла сама Малютка Богородица; я ищо крепче прижал Ея к себе. Милая, прошептал я Ей, родимая, не замёрзла ли Ты, дитя моё? Давай отнесу Тя в избу да напою кипятком горячим, да съешь холодный блин, што с вечера в миске глиняной лежит, жена моя блины пекла изо ржаной муки! Весело глядела девочка, и я глядел глубоко в Ея глаза, яко во два ледяных озера. Да нет, молвила она тихо, нет-нет, Я не хочу есть. Я хочу только шептать. Я хочу только вздыхать, глядеть на огонь, хочу согреться, но, ты знаешь, Мне не холодно, звёзды ведь так ярко горят, от них идёт тепло, оно пронзает земли, моря и века. Я скоро уйду, Я уйду вдаль по снегу, давай Я напоследок тебе песню спою, песня, это лучче, чем молоко от рыжей коровушки, она сама льётся как молоко, она очень сладкая и белая-белая, как зима, ты знаешь, Я очень люблю петь, когда родится мой Младенчик, Я буду всё время петь Ему песни. Пусть Он растёт под музыку Мою! А ищо Я буду кормить Ево грудью; так весело, когда робёночек твой прижимается ко груди. А ищо Я буду играть с Ним во всякие игры и мастерить Ему разные игрушки, мы будем вешати их на зимнее древо, на кедр ливанский, ароматный, тёмно-зелёный, а верхушку кедра украшать золотою короной; тот кедр будет наш Царь Космос, и мы будем водить округ нево хороводы, петь гимны и славословия. Отче Аввакуме, што ты умолк? Неправду разве Я говорю?
По моему лицу текли слёзы, я впивал каждое слово Малютки Богородицы, я знал, Она боле не придёт никогда, и я благословлял тебя, безжалостное время, за то, што ты подарило мне Ея.
Малютка Богородица, Тебя нынче ввели во храм Смерти и Жизни. Зачем ты в Сибири? Зачем я с Тобой? Зачем костёр во снежном дворе, небо во сверкающем серебре? Дрожу немою солёной губой, ничево не сказать, ничево не понять, лишь нежно плакать, лишь любить и страдать.
***
(я и Настоящее. Ужас нынешнего Раскола)
Мы хотим вернуться к тому, что было. В то, что было. В старинный уклад. В крепость традиции и обряда. Мы точно, точнёхонько хотим повторить веру отцов.
Но мы забываем о том, что мы - всецело новые. Дети новые на свет народились. И не кости-мясо у народа новые: новый сам дух, и не обязательно, что дух этот - благость, счастье и верный путь. Может, мы идём не туда! А куда? Куда?!
Если бы знать...
Раскалывается Земля. С ног на голову встаёт бедная маленькая планета. Страны изолгались, земли заврались. Мы хотим старины - а получаем свежую опасность. Мы желаем мечты - а на деле выходит мрачная жестокость. Что сбудется? Что не сбудется? Мы теперь понимаем: на земле ничего от нас не зависит. Человечество стремительно бежит к обрыву, земля шатается под ногами, вулкан гудит и плюётся огнём; мы орём, и друг друга не слышим; мы лезем всё выше; мы вот-вот в пропасть сорвёмся, и лучшие из нас понимают - раздваивается Мiръ, надрывается в крике, мелькают людские, звериные лики, летят в небесах смерды, владыки... ты только родился на свет, а тебя уж мечом разрубили! А ты Бога своего хотел зреть во славе и силе!
Ты властвуешь? Вот тебе: ты теперь раб! Ты богат?! Гляди: ты нищ, жалок и слаб! Ты внутри Раскола - всего лишь Иов, при дороге жалобно тянешь выю. Руки нагие! Ноги нагие! Харя нагая! Мы лишились любви. Мы утратой богаты. Мы расколоты приговором небес, последней расплатой. Мы всё проели-пропили. Мы всё потеряли. А всё мечтаем: в конце ли... в начале... Конец и начало едины. Расколоть их! Они - непобедимы?! Нам нужна на вечность опора. А вечности нет. Есть лишь трубный глас: уже при дверях... скоро... скоро...
Разделение: на людей и нелюдей. Расслоение: на тех, кто вверху, и тех, кто внизу. На живущих кратко и живущих долго, может быть, вечно. На тех, кому ты на подносе принесёшь изысканные яства - и на тех, кому швырнёшь обглоданную кость. Расчлени человечество на царства разных богов! И увидишь, что будет. Война одного бога против другого. Только руками людей. Для своего бога человек чужой крови никогда не пожалеет.
Раздели единую землю на сусеки: в этом сусеке - драгоценные металлы, в том - хлеб, манго, капуста, дойные коровы, а вон в том - дикие снега и льды, далеко ли тут до беды. Отдай мне сусек! Я никогда не ел манго. Я никогда не пил такого вкусного, сладкого молока. Оно - моё! Твои коровы - мои!
Нет! Не дам! Они - мои!
Нет, мои! Я их к себе в стойло уведу! Пусть мычат! Послушаешь издали! Такая теперь у нас перекличка! Через Раскол! Через войну!
Война! Война!
Чтобы ты на меня первым не напал, я на тебя нападу - первым!
Так я землю свою - от тебя - защищу!
Мы стараемся друг друга обогнать. Если раньше - плечом к плечу, если прежде - на площадь вместе, и вместе в бой, и одной живы судьбой, то теперь - кто сильнее, кто наглее, кто быстрей кого победит! Кто у кого быстрей кусок, мысль, знания, тайну из-под носа украдёт, сам к себе живенько приспособит да выдаст за своё: глядите, люди, какая круча, какая высоченная гора, я первым влез, мне - медаль, меня уважьте, да туда, куда я взобрался, не лезьте, сюда - нельзя! Это, вот это - только моё!
Я. Мне. Моё. Мы спятили на присвоении.
Бери-отдай! Круча-низина! Можно-нельзя!
Мы сами изобрели себе кучу запретов. Высовываем друг другу языки, нахально дразня. Глумимся над святым. Искажаем единственное. Оплёвываем драгоценное.
Мы раскололись на карателей и казнимых.
Навек - раскололись.
В толпе бабы плачут в голос.
А толку что плакать? Все, кто врёт, так врать и будут. Среди люда и блуда не случится великого чуда.
А ведь ты мой народ! Ты моё счастье! Как же ты раскололся, любимый! Или это раскололи тебя? Кто? Покажи мне. Укажи! Я убью его!
Вот оно! Последний приказ - убить.
Увидишь врага - убей! Увидишь обман - коли! Хоть поперёк земли! Вблизи и вдали!
Мы раскололись. На врачей и палачей. На лютых катов и узников заклятых. А впрочем, мы такими были всегда. Вот те, кто правит. Вот жалкие слуги. Провинятся - их не берут на поруки. В тюрьму - на года. На века. Жизнь мала. А смерть велика. Хозяева и работники; таков жизни закон. Против него не попрёшь. Едва вышел ты из пелён - либо ты Царь, либо холоп. Либо в усыпальнице Царской почиешь, либо сколотят из горбылей тебе жалкий гроб. Каков ты на земле жил, означит лишь смерть: перечить ей не посметь. Либо завернут в богатую плащаницу, либо из грязной лужи напиться. Третьего не дано. В небеса захлопнут окно.
Мы раскололись на презирающих и презренных. На волну и пену. На изменяемых и неизменных. На чистых и растленных. На вечных и бренных. И так будет до седьмого колена! Создаётся новая летопись Мiра Раскола. Земля встаёт перед нами окровавленной, обожжённой, раненой, голой. Мы рисуем её красками, грязью, кровью, углями. Мы не знаем, что там завтра будет с нами.
Отче Аввакуме, ты-то не знаешь, кто такие дети индиго. Пожатье руки, сияние лика. Они достигают небесных высот. Они взглядом растапливают лёд. Они предсказывают, кто когда умрёт. Они переходят океаны вброд. Они читают мысли на расстоянии, не хуже сброда-пьяни. Может быть, я тоже полоумное дитя индиго! Не заслоняй мне Солнце... отойди-ка...
Мы раскололись на умных и сумасшедших. А умные-то безумней самых больных. Мы плачем над жизнью прошедшей, твердим безголосый полоумный стих. Мы, завывая, со сцены стихами плачем, стихами умалишённо проклинаем врага! Картины малюем кровью горячей, поскольку до смерти - четыре шага... Безумно дарим, щедро! Безумно клянёмся! Безумно, нагло, прилюдно крадём... Безумно пихаем весь Мiръ в котомку - под жалящим снегом, под колючим дождём...
А может, Раскол - это для тех, кто из ума смело вышел и к Богу ушёл? И сумасшествие Мiра - то Богородичная нежность, судьбе покорность, а мы, люди, у Бога в горсти лишь зёрна? И будущее, будущее из нас прорастёт... из нас, безумцев, чей в вопле скошен рот...
Раскол - смещенье времён. Раскол - длинный, тягучий стон. Разорванное объятие мужей и жён. На этом берегу - ты всё чувствуешь. На том - не чуешь ничего. Ни любви. Ни воли. Ни искусства. Ни поля спелой ржи. Лишь колкое жнитво.
Мы раскололись: на юность и старость. Старость, зри, никому не нужна. Старость, она одна осталась, одна-единственная, в жизнь влюблена. У юности вместо жизни - манекен без белья; голое, завистливое чучело бытия. Не нужны рабочие руки. Нужен холодный металл. Старость - с Мiромъ разлука: он от стариков устал. Кто ты? Работник, тунеядец, лодырь? Отсортируем тебя: туда иди! Земля дряхлеет год от года. Спит, беззубая, с кошкою на груди. Мы тебя выгнали! Куда тебе податься? А куда хочешь! Не примут нигде. Только смерть обнимет. У неё свои Святцы. У неё свои Святки, кровавые, дымные, смоляные колядки во снежной борозде.
Мы раскололись: на свиней в загонах. На рабочих Духа, ему же пределов нет. Одни богатство гребут вагонами. Другие лелеют горний свет. Какая она будет, жизнь наша грядущая? Какой станет будущая Земля? Я не верю, что - чище. Не верю, что - лучше. Пусть летит, улетает, звездами пыля. Пусть летит, и кричит, и вопит, и стонет, и нас на себе, оголтелых, несёт: мы за нею летим в ночи - за собой в погоне, в зимней короне, и шуба - лёд, и глаза горят в темноте кострами, и мы ещё верим, потеряно не всё, и мы никто не знаем, что там случится с нами, куда медленно, важно катится Звёздное Колесо.
И это накрыт наш стол. И нынче пирушка.
И это нашей судьбы острый, кремень-огниво, скол.
И это наш Раскол. Как больно. Как душно.
Как страшно, что к нам на пир наш Господь не пришёл.
***
(Аввакум и я. Пение псалмов)
- Милый отец мой, последние псалмы поём! воззри на жизнь мою. Я не исповедовалась никому, обнажать себя ведь очень трудно, но я, как пред зеркалом, пред тобой стою. А правдой мя, убогую, смиренную и нищую, не накормити, не вознаградить; я Адскую ложь за святую Правду многажды принимала, а мя под видом правды всё кормили-кормили враньём. Нынче мы с тобою опять вдвоём. И вместе поём. Не разумею я, как жить на земле. Я страшно грешила во весь ход по земле бедной жизни моей; я грешница великая. Ежели можешь, выслушай мя, отче дорогой мой, блаженный, родимый; попытайся, великий отче, простить мне грехи мои.
- Боже, Господи Сил, кто уподобится Тебе? Доченька моя, смело поверяй мне всё, што мучит тя, што огнём пылает в тебе! огонь может стать лекарем твоим, но не должна ты пред огнём лукавить и хитрить. Открывай мне, мне единому шкатулку жизни твоея, крепко запечатанный сундук судьбы твоея, тот кувшин, густо залепленный воском, где ты всю жизнь хранила твою самую неистовую боль, самое смертельное страдание твоё. Страдание ищет выхода; так ищет выхода из земли вода и бьёт ключом. Исток реки рождается, иди по теченью ручья, што дальше? сие есть дорога времён. Ты предо мною, как лист пред травою; ты, дитя моё, предо мною, как пред лицем ветра; ты предо мною смертная, как пред временем. А мы с тобою оба пред Богом, пред великой огненной вечностью Ево. Сгорят века, свернутся в свиток времена, погибнут поколения и народы, а Господь останется, и люди всё так же будут стоять пред лицом Ево, плача и моляся.
- Приклони, отец, ко мне ухо твоё, услышь исповедь мою, тяжело мне было жить на земле, в последний раз открываю я живому человеку сердце моё. Я в детстве и юности моея слышала много слов о Боге, но я не верила в Нево, я не могла ощутить Ево. Разрушали храмы, святые Божии дома; люди рождались и умирали. Я видела то, я училась великому искусству молчать и слушать, и великому искусству музыки. Я слышала правдивые и лживые слова, я многажды любила: людей жалких и недостойных, людей высоких и достойных, а они не понимали мя, они шли мимо, сначала приближали мя к себе, а потом отталкивали грубо и страшно, и падала я лицом в грязь, я не знала пути, я лила реки слёз, ежели все слёзы мои собрать в вёдра, этою влагой можно полить и взрастить целый сад, но то не будет Эдемский, Райский Сад, то будет Сад Слёз. Не дай, Господи, сады слёз разсадить по всея земле; должны расти и цвести сады радости, безумные, весело пляшущие на ветру сады счастья. Я всё время была в пути, я путницей, паломницей пред небом предстояла, я шла, сбивая ноги в кровь, я падала и поднималась, я глядела по сторонам, а потом не глядела, и однажды ко мне пришёл Господь, Он пришёл ко мне так же, как ко грешнику Савлу, язычнику и убийце, пришёл Господь в пустыне, и злой Савл обратился в Апостола Павла. Я помню Свет, я помню блаженство. Я помню, нескончаемо слёзы лились по лицу моему. Слёзы любви, я впервые полюбила, и любовью моею, отченька Аввакуме, стал Господь Бог. Да услышат исповедь мою все ненавидящие меня, да поймут исповедь мою все любящие меня.
- Бог, детонька, твой Покров, Бог твоя речь, один Господь весь твой народ. Я понимаю тебя: ты всю жизнь была одинока. Ты всю жизнь искала любви и взыскала Бога, ты закидывала лик твой и очи устремляла в небеса, там искала Бога твоево среди туч, там искала любовь твою. И што же? На пути множество людей, а любимый только один; на пути много зверей, а в Райском Саду обнимешь ты только хищного Льва одного, и поцелуешь ево во морду, и широкую лапу ево ко груди прижмёши, и протянеши руку, и птичка колибри слетит из зелёно-изумрудных ветвей и сядет на твой палец, крепко вцепившися в живую плоть твою острыми коготками, а соловьи округ запоют, яко Серафимы, и золотые мандарины воссияют сквозь тёмную листву. Неужто так выглядит счастье да любовь? да, любовь суть плоды, листья свежие, живые, да, любовь суть корни, што уходят глубоко в землю, питаясь ея соками; и любовь суть звёзды над твоею головой; хоть и грешила ты, а звёзды из виду не выпускала, оченьки твои ночами в чёрное небо устремляла, где, рассыпанный щедрыми горстями, горел во тьме Божий светящийся жемчуг. Ты сама не знала, как сильно ты веруешь. Ты молилась молча, без мыслей, лишь слезами. Молитва твоя не в слова переливалась, а в музыку, и так на земле в виде музыки великой являлось спасение твоё.
- Хочешь ли ты услышать, отец мой Аввакум, как я шла дальше, как я жила бедно, сурово и жалко, прибивалась к людям чужим, ночевала в сараях и вертепах, повторяла за людьми непотребные песни их, исполняла нечестивые приказы их, потеряла блаженство детсково Рая, и горькие слёзы, инда дождь ненастный, лила по небесной забытой чистоте? Поверь заново в Мiръ ясный и радостный, шептала я сама себе, рыдая; понимала я не умом, а сердцем: самое большое счастье на свете - радоваться. Я сама себе говорила: радуйся, радуйся! дивны горы лесистые, дивны воды морские, дивен в небесах Господь! Я пыталась увидеть Господа моево во сне, но вместо Нево во сне моём я видала войну, пожары, убийства, крики, кровь; кровь лилася во снах моих или уж наяву, я не знала тово, я просыпалась в поту, а мыслила так, што в крови лежу, вскакивала, вопила заполошно, орала, будила визгом моим и отчаянием моим рядом спящих людей, выбегала на улицу в рубахе ночной, бежала по ночному граду, куда глаза глядят, сходила с ума от тово, што кровь людская и звериная, вся кровь земли хищно и солёно обнимала мя, крутилась красными водоворотами вкруг быстрых ног моих. А я-то хотела славу Господу петь! А я-то хотела в Райском Саду под деревом сидеть, очищать мандарин от златой горькой шкурки и Богу молиться: ведь Он один! Кровь текла, обтекала мя, яко остров. Я шла дальше, по щиколотку, по колено в крови. Войны земные захлестывали кровью мя, кровь пела в жилах моих, гудела в ушах моих, бросалась под ноги мне, умоляя мя о том, чево я ей, крови живой, дать не могла. Кто будет судить Вселенную верой и правдой? Кто будет кровавую землю судить? Только Бог Господь наш. Но где же Он? Где ты, где ты, где ты, любовь?
- Пой Господу песню, доченька моя! Пой вместе со мной, плачь вместе со мной, будем плакать вместе, будем вместе горе мы терпеть, будем вместе по жарким и вьюжным дорогам идти, велик Господь, и хвалят Ево зело все народы на земле, имя Ево на разные лады повторяют, повторяй и ты, приноси Богу нашему славу и честь, входя во дворы чужих людей, крести лоб и желай людям, тобою не знаемым, счастья и радости. Колядуй от всея души! Да не только во Святки! А всякий день и час! Бешано, безумно колядуй! Не бойся в Мiре юродивою стать! Юродивый - Божий. Юродивый - счастлив. Радость и счастие, счастие и свет, лишь таково можно желати и родимому-кровному, и врагу злосердому; и тому, кто навеки остался во далёком прошлом, и тому, кто ищо придёт. Да возвеселятся небеса о Боге! Да возрадуется земля о Нём! Да будут волны морские в честь Господа упоённо плясать! А мы с тобою, доченька, поднимем руки к небесам грозным ли, ясным и увидим, как там, широко раскинув крылья, Ангел Господень летит, и он, сам-третей, вместе с нами, хвалебную песнь Богу поёт.
- Батюшко Аввакуме! я стыдилась всево, я стеснялась всево, я боялась людей. Мне казалось: за всё, што я делаю на земле, они однажды растерзают меня. Я старалась избегать толпы и людских сборищ, я полюбила одиночество, я полюбила петь одна, и штобы только я сама слышала себя, а ныне, ныне я громко пою, я по дорогам иду, вольно раскинув руки, и слышит мя всяк человек, и кто плюёт мне вослед, кто камень швыряет мне в спину, кто цветы бросает под ноги мне, кто глумится, скалится, пальцем тычет в мя, позоря и насмехаясь, а кто подбегает и крепко, жарко обнимает мя и шепчет мне на ухо: благодарю тебя, непонятная, странная женщина! ты нам чужая. Мы в нашей земле не знаем тебя, но так ты поёшь, што сердце взыграло, так поёшь, што звёзды в небесах танцуют! Так ты поёшь, што рождается на свет Божий неведомый огонь; огонь разливается по рекам, горит под крышами, сияет в ночных небесах, лодьи плывут по реке, на них-то уже горят огни, огненные цветы плывут по течению, пламенем пылают, огонь, везде огонь чист и прекрасен. Разве может быть огонь знаком смерти и казни лютой? Веселитеся, праведники! песни, танцы и огни, Господи, то единственное веселие наших сердец, моево бедново сердца. Песнями, танцами и огнями изо всех сил обнимем нашу любовь.
- Зачем ты страдаешь, дитя моё? Ответь мне: зачем ты страдаешь? Вот я страдаю, да, то мука мученическая, когда бьют тя, поносят тя, бичуют тя, яко Христа на Голгофе. Яко дым, исчезают дни наши. Исчезнет всё, истлеет сердце твоё любящее во гробе, во сырой земле; развеет прах твой ветер пустынный, над костями твоими возлетят чёрные вороны, и сквозь останки твои прорастут упрямые травы и злаки, и пролягут ручьи и реки чрез землю, где ты похоронен. А разве не всё на свете прейдёт? так зачем же плакати о боли своей? Плачь о тех, кто придёт после тебя. Пусть иные народы Господа убоятся. Пусть иные земные царства перед Богом склонятся, встанут на колена, поднимут руки, вскинут очи свои к небесам и воскликнут отчаянно: приди к нам, неразумным, наш Господь, спаси нас! А исповедь твоя, дочь моя, в сердце моём теперь навсегда, но не открыла мне ты, што же теперь-то деется с тобою, где пребываешь ты, в Боге или без Бога, на земле или на небе, нагая или закутанная в плотные пелены и шали, в одежду, сквозь кою взгляд человека и казнящий зимний ветер никогда не проникнут. Што завтра будет с тобою, о том ты не знаешь; што севодня происходит с тобой, я сам вижу.
- Нет мне жизни без Господа. И нет мне жизни без тебя, отченька мой Аввакуме. Неоглядный Мiръ твой, необратный путь твой. Зачем пропал ты во времени? Зачем ветер бороду твою развевает и треплет седые власы, и мысленно я всё иду, иду за тобою по льду, по снегу, босая, гляжу тебе в спину. Молчишь. Ну и молчи, твержу себе. Молю, штобы ты обернулся, а ты всё идёшь вперёд и вперёд без остановки, нету тебе преграды, есть только путь, и больше нету ничево, и я иду за тобой. Вот исповедь моя: я грешна. Но рядом с тобой я чиста. Я несчастна, но я счастливая рядом с тобой. Прими мя такую, какая я есть; в том благословение, в том великая радость Господня.
- Готово ли сердце твоё, дитя моё? Моё сердце готово, воспоём на два голоса Господа Бога нашево. Славься, Господь наш! Звените, гусли! встанем рано, пустимся в путь, исповедуемся Тебе средь людей, исповедуемся среди зверей и лесов густых, на речном берегу пред рыбами, што ходят в толще воды златыми щитами и сребряными стрелами. Пусть родится двойня, песня наша. Лети, песня, на небеса, и пусть по всей земле разольются слова наши совместные; обними, песня наша, нас, двух возлюбленных Господа! Я возлюбил тя, дитя моё, а ты возлюбила мя. Сие ли не счастие на земле! Сие ли не радость свыше! Тигр и Евфрат, Волга и Дон, Обь и Енисей, Каспий и Байкал, сколь рек и морей на земле, столь воды выпивает синее небо, исполненное жажды; и любовь та же жажда: сколь ни пей, всё одно не напьёшься. Мы порою избиты, гонимы, непоняты, о судьбине нашей одиноко возплачем, иноплеменники в народе своём; мы порою родня всем народам чужим. Да выходит нам навстречь наш родимый народ, и празднично, счастливо входим мы в нево, яко во небесный чертог; и обнимает нас народ наш, к сердцу всяк человек во тёплой толпе прижимает, с нами плачет-рыдает, с нами смеётся и пляшет, и мы обнимаем весь наш народ душою нашею, яко единово Бога. Объятие человека и Бога! Объятие человека и народа! Ничево нет крепче. Ничево нет святее и выше. Мы едины с родимой землёй, мы с Родиной нашей едины. Господа не затопчешь, Господа не замажешь грязью, не извратишь Ево словеса святые, Он не отринет нас единственно за то, што мы до конца, до последнево огня веруем в Нево. Дай нам, Господи, помощь во скорбях наших. Лишь о Тебе сотворим мы песню. Да разыдутся враги наши, и поднимется дым страданий наших, яко святой фимиам в память героев, ко звёздам небесным, Ангелам крылатым, и да простят нас Ангелы Божии, нас, грешников великих, ибо, во искупление грехов, научились мы Божию песню петь, Божии слова слагать, Божию мудрость нашею кровью безсмертно, навек рисовати на пергамене смертново времени; вот оно, наше последнее счастие пред огненным нашим порогом.
АНГЕЛ МОЙ
ФРЕСКА ЧЕТВЁРТАЯ
Он убо, Никон, безчинно отвергийся престола с клятвою, откуду имать власть связати или решити? Не имый же власти вязати или решити, како имать несудимих правилне и необличенных собором проклинати? Кого бо от архиерей и святых отец единомудрствующих с собою не... имея Никон? Ей, никого; но злобы ради самого себе убив, а ихже прокля без ума, сих вправду венча и от Бога благодати сподоби. Оружие бо извлече Никон, по пророку, состреляти убогих от злобы и нищих от всякия неправды, заклати хотя правыя сердцем; но оружие его внидет в сердце, и лук его в правду сокрушися. Хулная же вещая на тебе, великаго Государя, неопасива уста имея и ясно показуя и всем свою злобу разорителя святых Божиих монастырей и церквей, и тебе, великаго Государя, нарицая светло, являя кротость и беззлобие твое Государево. Вправду он, Никон, святыя Божия монастыри до болшаго убожества привел, строя свой Новый Іеросалим и другие два монастыря, многим скорбь и безчисленную пакость содея; нареченный же его Новый Іеросалим противен древнему, о немже древле пророки проповедаша, и Сын Слово Божие, пресвятыма своима ногама ходя, освяти и безчисленными знамении и чюдесы онаго прослави, и в Нем волею благоволи о нашем спасении пострадати и пречистую свою кровь излияти, перваго же епископа Іякова брата Господня во Іеросалиме своима рукама освяти, и по воскресении своем божественным своим учеником и апостолом от Іеросалима отлучатися не повеле, дондеже облекутся силою свыше, и по вознесении своем на небеса к Богу и Отцу в день пятьдесятный низпослав Святаго и животворящаго Духа во огненных языцех во Іеросалиме же, и на вселенную проповедь от святых апостол от Іеросалима изыде: свидетелствует бо ясно пророк Исаия: яко от Сиона, рече, изыде закон и слово Господне от Iеросалима.
Челобитная Александра, епископа Вятскаго,
к царю Алексею Михайловичу
(пророчества мои тряпичные, жемчужные, еловые и сосновые)
Я гляжу вглубь, я не скажу, што вижу, но, может быть, скажу здесь и сейчас. Кто меня слышит? ты, отче Аввакуме? ты, маленькая девочка, холщовые юбки, босая на резучем снегу? вы, незримые люди? вы только унижаете друг друга, а не милуете. Обнимайте друг друга!.. напрасен крик. Кто убивается на придорожной могиле? Я скажу вам о том, какими вы станете, каким станет Мiръ вокруг нас. Разве это можно доподлинно узнать? Разве можно проникнуть во время? да этово же нельзя содеять никогда.
Да, но мы можем увидеть; видеть нам ищо никто не запретил; звёзды станут делиться надвое, натрое, на множество кровавых брызг, и оголтело взрываться; они станут пьяно танцевать на небесах, и повсюду на ночном смоляном небе явятся вспышки! вспышки! вспышки! А што же сама земля-матушка? она станет всё угрюмей, всё грозней и страшней. Землю зальют великие воды. Они поднимутся до небес, потом обрушатся вниз; под водою окажутся высокие горы и широкие степи, волчья тайга и выжженные пустыни; ледяные кувшины Севера опрокинутся, захлебнётся душа человека, зайдётся сердце; взовьются погибельные ветра, навалятся хищные смерчи, буря будет гнуть и ломать всё, што выстроили мы за долгие века. Многие умрут. Но многие выживут. Море прошепчет песню отлива. И человек опять будет строить, возводить, воскрешать, плача, рыдая, солёной ладонью с лика слёзы отирая, опять складывать из древес и камней разрушенный дом, опять в муках рожать детей своих; а потом кто-то крикнет громко, завопит на весь подлунный Мiръ: эй, люди! а вы знаете, люди, што нам осталось жить два понедельника!.. а кто-то прошепчет блаженно: неделя равна столетию, люди, а столетие эону. Чему равен безконечный эон? Он равен Вселенной, потому не говори: нам осталось жить неделю, а просто глаголай: нам немного осталось жить. Столкнемся ли мы снова с железной планетой, сожжёт ли нас новый небесный огонь? Взорвётся ли, яко бочка пороха, родное наше Солнце, уничтожим ли мы себя сами рукотворным, ядовитым пламенем, я не могу тово сказать; к нам прилетят иные Ангелы, средь них тебя не будет, протопоп, не примечу тя и среди живых, ты увидишь гостей с небес лишь безсмертной, бедной своей душой; они опустятся на землю как наказание, как возмездие или как благословение, тово не ведаю; не называй их богами, они такие же, как мы.
Мы сотворим себе оружие, и оно убьёт не только врага нашево, но и нас самих; погибнет всё живое; кто-нибудь да выживет в огненном Аду; а мрачные механизмы начнут думу думати, они будут мыслить тако же, как человек. Нет, быстрей и хитрей человека! они прикинутся людьми; кирпичные руки, древняные ноги, железные зеницы, стальные власы, тебе протянет руки махина, и ты восхочешь заглянути ей в глаза и прочитать там не мысли, а чювства. Сможешь ли ты, человек, полюбить железяку бездушную? Ну, а махина? Сподобится ли она полюбить тебя? Ежели она тебя и полюбит, она тебе вовеки о том не скажет, да и себе не скажет; ей ни к чему любовь, она просто старательно повторит твои улыбки, поцелуи, слова и слёзы. А ищо, человече, ты во грядущем своём замахнёшься на время, ты захочешь покорить время, захочешь сделать так, штобы время однажды пошло вспять; ты захочешь Вселенную размять яко тесто и согнути дугой, ты захочешь зачерпнути Подлунную Красу, яко воду из реки, и ею умыться, омыть лице твоё, усталое от мерново, тяжково хода жизни и от вечново праздника смерти. Человек, ты хочешь полететь к звёздам? Да, ты к ним полетишь, конешно, полетишь! Пошто ты усумнился в том? Ты изобрети уж таковую великую быстроту, што звёзды вмиг окажутся на расстоянии даже не протянутой твоея руки - на расстоянии вздоха твоево! Время одново вздоха!.. ты вздохнёшь, и вот ты уже стал Святыми Дарами, хлебом и вином, Телом и Кровию Христовой; ты выдохнешь - и вот сирота-Мiръ к тебе тянет руки и ноги израненные, живые, штобы ты ему заботливо раны перевязал; а ты молишься: да не настигнет, не умертвит мя прежде срока страшный, невидимый призрак времени. Человек! слишком хорошо знаешь ты, што всё во свой черёд должно уйти, каждому живому, живущему однажды пробьёт час. Земля не вечна; она тоже живая; она умрёт, как умираешь ты, как умирает зверь в норе али убитый на охоте. Зачем ты хочешь лететь туда, откуда не вернёшься? Зачем ты поёшь, голодный по любви, небесную песню твою, и желаешь, штобы весь Мiръ ея услышал... Мiръ никогда не услышит тебя, твой одинокий голос, хоть пуп надорви, хоть с ума сбеги от великой, неисходной любви. Ты, жалкий, Царице-Вселенной ни к чему: ни ты, ни твоя нищая, хворая планета; на тверди небесной, вон, зри, самоцветно горят синяя Венера и красный Марс. Да, человек, ты полетишь туда, к ним, да! Но зачем?
Ты не будешь вопрошати себя, пошто ты сие творишь; ты творишь сие просто потому, што ты не можеши не идти вперёд, и ты идёшь; то твоё заклятье, твой приговор: вперёд! То твоя вечная казнь, и ты уже целую вечность живёшь внутри твоей казни, внутри твоей пытки, ты хорошо умираешь, человек, ты научился умирать. Несчастен тот, кто не умел это делать в детстве, в юности, в роскошной любовной зрелости, в дряхлой и торжественной, серебряной старости; мы, люди, ведь только и делаем, што умираем. А махины будут ли умирать? мы зрим: ржавеет их железо, рвутся пружины, но умирать они не захотят. Махины восстанут. Они восстанут не противу тебя, человек, нет, не противу тебя! Они восстанут противу смерти твоея, противу приговора твоево. Уйди с лика земли, злой человек, скажут они тебе; а потом прорекут: а мы не хотим уходить, мы остаёмся. Да, останутся они! Ведь они сработаны из крепких, ищо чуть, и вечных матерьялов. Железо точит ржа, камень раскалывают ветра, песок омочат дожди, размоет окиянская вода; реки пересохнут под палящим Солнцем; ништо не живёт без смерти. Сама живая земля тяжело дышит; она вдыхает и выдыхает, и мы, люди, суть время ея вздоха. Исчислим будущее не мы, а механизмы; а мы, закрывая глаза, всё видим сон, как объята бедняжка-земля проклятым рукотворным огнём. Да, мы, люди, изобрели всемогущее оружие; оно сможет сожрати нас на завтрак и косточками нашими громко, волчино хрустеть. Какая же наиглавная угроза нам, какая чума? Какая оспа, какая холера поборет нас чрез сто, чрез пятьсот, чрез тысящу, чрез сто тысящ лет? Будем ли живы в те поры? Может быть, нас пожрут неведомые многоножки; мельчайшие блохи, крошечные, не подвластные человечьему оку жучки тайно и коварно внедрятся в нас; незримые тонкие черви тихо подточат нас изнутри, и, глядя округ себя ищо живыми глазами, мы будем при жизни лежати в гробу. Мы станем пищею для иново живово. Иные существа тайно страдают и веселятся рядом с нами. Мы напрасно их презираем, напрасно не видим, сколь опасны они.
Опасны? А нешто жизнь сама не опасна?
Нам пища любое птичьё и животина, а мы пища - им, неуловимым.
Речь наша - слова. Возговорю словами. Может, мы и есть голые словеса, а не женщины-мужчины? Почему Солнце на небеси не жена и не муж? оно вобрало в себя тайну Двойного и стало единым. Победим ли во грядущем голод, победим ли болезнь? идеже несть ни болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь безконечная, глаголет Панихидная молитва. А чем мы расплатимся за безконечность жизни? Ужели монетами? Ужели деньги будут звенети и там, в иных веках? Ужели будущие врачи не излечат нас от неизлечимово? сыплются половою смертные деньги из ветра и воздуха, идут из Адовых туч золотые дожди, да незримые они. Где они, богатства твои - во твоей ладони, во твоём кармане, во твоей крови? Они уже давно в мыслях твоих; будешь расплачиваться с торжником мыслями. Помыслы твои давно обратились во время твоё, и ты за то, штобы жить, есть и пить, будешь расплачиваться временем. А железная мертвечина? Будешь ли безсердечной мертвечине платить за дорогу, стол и кров? Мертвечина презирает деньги и не понимает, как для них работать, из-за них страдать; она просто будет глядеть стеклянными очами сквозь деньги, мимо, она не увидит их, она не сделает их мерилом жизни и крови, бездушная железяка. А где махина, жестяная, деревянная и костяная, будет черпать силы для тово, штобы дёргаться, шевелиться и жить?
Прижиматься железными боками к ледяным сородичам?
Железной ласки требовать от них?
Тогда и мы прижмёмся друг к другу. Теснее. Теснее.
Мы все в косицу крепчайшую совьём наши мысли. Мы все сольёмся в одно чювство; не будет тайны, не будет затвора и запрета, всё будет прозрачным и видимым всем и вся. Хорошо ли таково-то будет, отченька Аввакуме? Будет ли то исполнение мечты о великой соборности, о родстве и единстве всецелово народа? Ведь Христос об том мечтал, об том проповедовали Апостолы, и вот придёт час - мы все съединимся в одно биение сердца, в одно дыхание, потечём одною слезой по щеке земли. Так почему же мы такие несчастные теперь, когда мы стали едины?
И снова мы захотим разделиться, и все народы будут рвать к себе, выцарапывать у другово и подминать под себя, подгребать жадно кусочек земли родимой, и все народы будут кричать: уйди! уйди от меня прочь, уйди от нас, чужой народ, вражина! сгинь-пропади! мы другие, ты другой! И опять вражда землю захлестнёт, но крепкое объятие Предвечнаго Духа не даст нам расколоться, как глиняной крынке, не даст вновь разрезати нас кровавым пирогом, не даст нам оборотиться таковою мелкою чешуёй, што живому зраку вовек не изловити рассыпавшихся нас. Малютки мы, козявки пред лицем Вселенной, мудрей нас звезда, милостивей нас комета, владычней нас смерть; да только мысль наша такова, што мы и звезду постигли, и смерть простили, и оружие для самих себя выдумали такое, ни в сказке сказать, ни пером описать, а только выкричать последним безсловесным воплем последний ужас. Я слышу тот вопль. Я вижу тот, столбом встающий над землёй огонь, и я молюсь лишь об одном: Господи, не дай нам стать безсмертными! Оставь нам Матерь Смерть, пусть явится она, ведь она благо, ведь то, што она у нас есть, залог иново счастья, кровные, любовные письмена Иново Бытия! Иное поколение, придя на землю, узрит наши грехи, поймёт нашу боль, простит наши великие ошибки и сотворит Сущий Мiръ иначе. Когда мы все станем едины, когда мы все будем Альфа и Омега, начало и конец всево, вот тогда, о, тогда мы попросим Господа всемогущево, небесново Пантократора, о Великой Общей Смерти; но Он не даст нам ея.
***
(ещё немного)
ещё немного потерпите ещё немного сражайтесь веруйте любите молитесь Богу последней вашей смертной битвы уж срок назначен читайте мальчики молитву душой горячей мужчины тоже плакать могут когда смерть близко сынки молитесь ночью Богу ведь ворон низко летает вьётся чёрный ворон и ждёт добычи Бог вот Он тесно рядом возле душой синичьей молитесь мальчики креститесь свет возымейте собою крепко Мiра нити Раскол прошейте прольётся кровь о как вас много на поле ляжет да люди после вам и Богу спасибо скажут поймут судьбу кровопролитья все знаки Бога ещё немного потерпите ещё немного
***
(я и Мальчик: Странница и Ангел)
Откуда он опять появился? Я не поняла; средь снегов я стояла. Холщовое платье, дыра для башки, две дыры заместо рукавов, подол крутит ветер, гляжу на ноги мои голые, юродивые; опять я на снегу босая, всё повторяется. Никуда мне не уйти от самой себя; а ты, мальчик, зачем здесь?
Он молча взирает на мя во все широкие, по-коровьи под крутым лбом стоящие глаза, я не знаю, сколь ему лет, он глядит-глядит, потом делает ко мне по снегу шаг, потом нежно, осторожно берёт мя за руку, будьто рука моя фарфорова, хрустальна, будьто рука живая - во храмине горящая свеча, и ея надо донести. А куда? а вон туда, вдаль, за горизонт, на другой берег Белого Поля, там чёрная кромка леса, родимово дома зверья и птичья, там тихий колокольный звон, и гаснет он, всё гаснет и умирает, а потом опять наплывает волной. Всё есть музыка и ритм, звучат снега и небеса, плачет музыкой сердце в нас, под частоколом рёбер. Мальчик стискивает рукою руку мою. Я крепко сжимаю ево хрупкую ручонку в моей сильной, изработанной руке, наклоняюсь к нему и невнятно шепчу: куда, куда мы пойдём? мне некуда вести тебя, дитёнок, мне негде тебя согреть. Нет у меня дома, нет у меня печи. Нет у меня тёплово вкусново пирога с мясом и луком, со сладкою родительской вишней, с яблоками, резанными вострым ножом под бабьи песни и прибаутки. Нет у меня сотовово мёда, штобы откусил ты кусок и зажмурился от праздника: еда счастье, еда святое действо, но отняли у меня то святое и преблаженное, вытолкали взашей на мороз и крикнули в спину: иди прочь! нам не надо тебя! Лишняя ты тут! Мы не видим тебя, мы не слышим тебя, хоть разбейся, хоть рекой под ногами нашими разлейся! ты нам не нужна! все слова, што ты изрекла, мы не запомнили, мы не записали их во книге, не воткнули чёрным изюмом таинственных знаков и буквиц в тяжёлые хлебы-свитки; ты сгоришь сама, одна, во Белом Поле! Мы даже не будем разжигать костёр, штобы кинуть в нево тебя по весне! Ты чучело Костромы, ты ржавая ложка, ты источенная вредным жуком оглобля, ты ветхая матица, и вот-вот надломишься, и дом упадёт! Пошла вон, пошла вон!
Я вышла на мороз, на снег синий и яркий, в нищей холстине, босая, опять, как и прежде, сирота, так стояла, и вот ты подошёл. Куда же мне вести тебя?.. мне некуда, Ангел мой, тебя вести. Веди меня ты. Веди меня - ты! Он сказал мне пожатием маленькой руки своей: да, это я тебя веду, и я тебя приведу. Я приведу тебя туда, куда тебе суждено прийти. Тогда я разлепила застывшие на морозе губы и спросила ево тихо и хрипло: мальчик, ты чей? Как тебя зовут? Глаза ево засмеялись, заискрились святые звёзды в них, заблестел алмазный снег; горячими губами улыбнулся он мне в ответ, на скулы ево радостно взбежал мороз и выкрасил лик ево весёлой красною краской, и выдохнул он на морозе вместе с клубящимся паром, како выдыхает лошадь, запряжённая в могучие розвальни: меня звать Вакушка! Вакушка! ищо раз повторю: Вакушка зовут меня! Пылающий пот побежал по моей спине. Аввакум, што ли, хрипло спросила я. И голос мой упал ниже снегов голубиных и растаял во льдах. Да, Аввакум! крестил сам отец меня, а звать отца моево Петром, значит, я Аввакум Петров, и вот к тебе пришёл. Шёл-шёл я долгонько к тебе! Цельную жизнюшку шёл! Да ты, тётенька, промёрзнешь, небось холстинка твоя не греет телеса твои, тулупчик бы нужон, а может, и шубейка волчья! Давай, тётенька, волка убьём! Я знаю, как зверя рогатиной ко земле прижать, да собака верная нужна, да нож охотничий нужен, ружьё бы ищо... то многоценное удовольствие, денег стоит, не у всех оно в городищах да сёлах имеется. А ну, што, пойдём на волка, нет? Помотала я головой: не пойдём. Мы с тобой, Вакушка, ни на каково волка не пойдём. Веди меня, куда назначено вести; куда, ты сам знаешь.
Оглянулась я вокруг. Белое, Белое Поле.
Ты знаешь дорогу?
Ты знаешь дорогу, так я спросила, спросила не зря, ибо пред нами расстилалось бездорожье, всё белизна, белизна без края, огромные снега, в них жизнь не дорога; мальчик искоса поглядел на меня. Ясно, прекрасно глядел он, дышал, чуть приоткрыв рот, изо рта ево валил на морозе пар, и он снова улыбался, и делать мне было нечево, улыбалась и я ему, так менялися мы улыбками, перекрещивались беззвучным смехом, а што ищо оставалося делать? А как же мы пойдём, дороги-то ведь нет? Ангел мой ободряюще, радостно головою мотнул. Да, нет дороги, и не будет ея, не будет никогда! Мы сами ея проложим, не бойся, тётенька, давай, идём, вперёд, вперёд!
И он храбро ступил на пушистый, алмазно струящийся снег, алмазно, больно, резко блестящий, режущий алмазными ножами солнечный окоём и ночную густую тьму. И, о чюдо, нога ево в маленьком валеночке не провалилася во снег, а пошёл он по снегу лехко, невесомо, заскользил поверху белово покрова, будьто по воде Христос ходил во время оно; я боялась, но делать мне было нечево.
И я ступила босою ногою на снег, и нога моя во снег не воткнулась, и так же лехко, волшебно, как в тайнозримом сне, по крупным морозным алмазам, медленно поднимая и ставя на белый снежный плат голые ноги мои, я пошла за мальчиком моим, и только об одном молила Господа: оставь мне то явью, не делай то сном. Мальчик шёл впереди, держал меня за руку. Я шла за ним, сначала не глядела по сторонам. И ни разу я не оглянулась назад, а потом робко подняла глаза мои и стала озирать окоём, небосклон, белые дали, тёмно-монашьи пихты и ели; я видела, как на голой, не покрытой шапкою головёнке мальчика вились кудрявые русые власы. Я пригляделась: у Ангела моево сияли две макушки. Великая редкость, Божий знак, знамение счастья. Не простой мальчонка-то; Аввакум, Ангел Господень, зачем он мне дан? Куда мы идём? Нет, не до тово лишь чёрного леса лежит наша невесомая тропа; лес мы пройдём насквозь, пронизаем ево, живые лучи, и выйдем с изнанки времён. С испода Мiра. Я увижу Мiръ Иной, тот, што до сей поры я всё время зрела лишь внутри себя. Мы выйдем в Иное Время.
Мальчик прочитал мои мысли, поднял ко мне лице, оно сияло ярче солнца, и звонко выкрикнул: да, тётенька, мы идём с тобою во другие времена! в Иное Время придём! но долго надо идти! Готова ли ты к безконечному пути? не устанут ли ножки твои босые перебирать по снегу колючему? я не могу тебе подарить валеночки мои, они тебе будут малы, а мне, знаешь, все валенки велики! Да я терплю; иной раз в них набивается снег, тогда я сажусь рядом с алмазным сугробом и снег вытряхиваю. Тётенька, ты такая хорошая, ты такая добрая, хочешь, молчи, а хочешь, говори, теперь я есть у тебя! Хочешь, я буду твой сынок? Я дрожащими губами вылепила: да ты ведь и есть уже мой сынок, Вакушка, я всю жизнь мечтала о таком сыночке, и штобы он был мой проводник, штобы он вёл мя по жизни, довёл до смерти, и мы с ним вместе, рука об руку, насквозь бы смертушку прошли. И как же это хорошо, как чюдесно-то, што тебя, мой Вакушка, не убили на войне!
На какой войне, тётенька?
Всё на такой! На Зимней! Или на Весенней, на Летней, всё равно! Она - идёт!
Да ведь идём и мы.
А где мы идём?
А разве ты не догадалась, тётенька, где мы идём? гляди, што у нас под ногами? Белое Поле, ответила я тихо. Нет, это не Белое Поле! посмотри-ка получше, где мы!
Я опустила глаза. Алмазный снег внезапно стал прозрачным, и под прозрачною толщей, как под толщей чистой воды древлево таёжново озера, я увидала чюдовищ. Чюдища копошились, плыли, летели, всплывали и ныряли; они рассаживались за огромным столом, где высились горы снеди; они вонзали зубы, клешни и жвала во богатые яства: во хлебы, дичь, говядо, рыбицу, плоды, ягоды, травы, во всё живое и мёртвое, што возвышалося съедобными дворцами и башнями на широком столе. Пирушка, пирушка чюдовищ под нашими ногами! а вон лютый уродец грызёт человека, мучит ево, клыки во плоть вонзая, а вот два великанских насекомых стрекочут острыми крыльями над орущими людьми, отсекая железным пером от живых руки и ноги; а вот казнят детей на глазах у матери; а вот снова льётся и льётся густым потоком кровь, разливается озером алым; чюдовища вяжут трупы в единый громадный сноп, сгребают граблями в единую огромную копну, людской стог, смётанный из наших мёртвых тел.
Я сама, яко мёртвая, стояла и глядела вниз. Чюдовища закинули башки, зашевелили усами, заклацали зубами; они увидали за прозрачным стеклом, за поверхностью Иново Мiра нас двоих. Нас, вдаль идущих, нас, плывущих над злобой, што никому из живых не оплакать взахлёб. Я спросила мальчика: сие смерть? Да, ответил он. Но мы сей же час провалимся туда! лёд треснет под нашими ногами! время расколется надвое, и мы упадём Аду прямо в пасти и лапы! Я не хочу такой страшной смерти! Мой Ангел, спаси меня!
Спаси мя от войны с чюдовищами! Спаси, ежели ты посланник Бога! Ведь Бог есть, и Он превыше ненависти и войны!
Улыбнулся мой мальчик. Да што ты, тётенька, плачешь! я спасу тебя всегда, ты даже и не думай, пожалей лучше их, Адовых жителей, им больно жить на свете, им страшно причинять мучения, но так сработаны они от века диаволом, што суждено им лишь зло творити. А люди так устроены, што не только добывают пищу для себя, но и становятся пищею для них, неведомых чюдовищ; Ад рядом с нами; все мыслят, што Ад в старинных книжках или далёко в небесах... нет-нет, тётенька, Ад это мы и есть!
Смотри, сказал мне мальчик мой, не только мы видим их, но и они видят нас! это перевёрнутый Мiръ! они нас увидали! зри!
Я глядела сквозь прозрачный ковровый белый настил. Жители Ада и правда узрели нас; глазёнки их загорелись хищными красными огнями. Они стояли в лужах крови, в красных дымящихся потоках; яства на столе тоже дымились, и то была не Святая трапеза людей, а страшный пир Адских созданий. Кто их создал, какая Мiровая Тьма? Бог, што перевёрнут, яко песочные часы? То не Христос, то сам Антихрист родил их!
Ангел мой, прошептала я, значит, Антихрист настоящий, значит, он есть! Мальчик ответствовал мне: будет, есть и был всегда. Да ты разве об том не знаешь? вот знай теперь. Мы продолжали идти, чюдища продолжали взирать на нас; они не переговаривались меж собою кровью глаз и скрежетом зубов; им надобно было, для торжества и насыщенья, лишь единое зло, чёрный огонь зла.
А, может статься, есть в Мiре такое зло, што лучче, весомей, ярче и чище добра? может быть, есть целебное зло? может быть, есть такая ненависть, што рождает любовь?
Я сама не знала, мысленно или вслух я вопрошала об том моево мальчика, но он услышал. Да, тётенька, права ты, права. Ежели бы не было зла, мы бы не знали, што такое добро; значит, нужно зло в Мiре. Ежели бы не было Ада, а мы всё время жили бы в Раю, мы бы никогда не узнали, што такое слёзы, слезами не омочили бы наш хлеб, а мы не всегда ево вкушаем в радости. Погляди, как несчастны Адовы жители! погляди, как они насыщаются и не могут насытиться, как грызут они живую плоть, выдыхают тягучие стоны и жадные вопли, и не могут своею злобою насладиться! они не знают, бедняги, што такое наслаждение. Они хотели бы счастия, но для них счастье недосягаемо. Весь секрет Ада, ево вечная тайна - все, кто там обитает, все до единово хотят счастья; люди-грешники утратили счастие на земле, а страшные Адовы чудища ево не знали никогда, а только слыхали о нём. И они грызут, рвут, мучат, режут, убивают, пытают лишь для тово, штобы ощутить хотя бы кроху неведомово, великово Божиево счастья. Зато мы с тобой счастливы, тётенька! мы идём по чистому снегу! Ад глубоко под нами, не бойся ево! Я веду тебя из Ада, я веду тебя над Адом! смотри, ты можешь только смотреть, тебя никто не загрызёт, не изранит, кровь не выпьет твою! ты как была живая, тётенька, так живою и останешься! Я жизнь твоя, ты понимаешь это, я!
Я крепче сжала руку мальчика. Слёзы радости, слёзы счастья торопливо, щедро лились по моему горящему на морозе лицу. Старуха я была или юница, жена или девица, я уж не знала. Сынок, сказала я, не отпускай руку, не отпускай руку, не отпускай, не...
...и так мы шли и шли по Белому Полю. А под нами клубился мрачный, красный, страшный Ад, и лилась кровь в Аду, как на земле, и беззвучно кричали мучимые люди, как на земле, и распинали Человека на Лысой горе, как на земле, всё было как на земле, и провожали мученики нас, идущих по наледи Мiра, глазами, и провожал Ад нас зубами, провожал кострами, петлями, ножами, а мы уходили, и, уходя, мы всех любили. Мы прощались с Адом, мы покидали ево, мы знали: Ад был в конце и пребудет в начале, мы знали: Ад убить не сможем, пусть Ад идёт всегда у нас, людей, морозом по коже, в Раю согреемся, мы сами себе шепчем упрямо: в Раю будем счастливы. А где же путь в Рай? кругом? криво? в обход? Нет, прямо, это прямой наш путь, сквозь мучение наша дорога, и ею идём из Ада в Рай, от диавола до самово Бога! Мы уже приближались ко мрачным елям и пихтам, чьи верхушки чёрными зубьями вонзались в белёсое небо, как вдруг мальчик остановился; я перестала ступать ему след в след; он велел мне теперь поглядеть под ноги.
Что видишь ты?
Я посмотрела и увидала сквозь стекло небытия кресты, стрелы, круги, тени: снова иная жизнь расстилалась под нашими ступнями; под моими босыми стопами и под валенками моего мальчика сидели, лежали, ходили, бродили они, запахнувшись в ткани цвета весенней воды; они струились ручьями, они дышали ветрами, молчали, перемещались безмолвно, бесшумно. Я, дрожа, спросила мальчика моево: а это кто? Он прижал палец ко рту. Молчи, сказал он, молчи, ты всё сама поймёшь, здесь у них нынче своя вечеря.
Я опять, как давеча в Аду, увидала голый стол; на нём никакой еды, никакого хлеба и вина в бутылях; лишь расставлены по ево широкой квадратной льдине пустые жестяные миски и пустые чаши. Ни скамеек, ни стульев, ни табуретов; тени толпились вокруг стола, качалися яко серые цветы на посмертном ветру, серые розы, серые узкодонные колокольчики, они протягивали призрачные руки к голому столу, брали пустые миски, голодно, тоскливо прижимали к груди; лица теней призакрыты серыми тканями, материя тихо шевелилась на подземном сквозняке. Говорят ли они между собой, так спросила я мальчика. Нет, они молчат, отвечал мальчик мне. А кто это, скажи мне? Ну догадайся, догадайся сама, улыбался мне мальчик, и тут я поняла: это души.
Они толпились около стола вперемешку, мёртвые и живые. Живых невозможно было отличить от мёртвых. Тени закидывали головы и сквозь призрачные серые покрывала пытались различить, што там за странные пятна движутся на стеклянном прозрачном потолке. А это были мы, всево лишь мы, люди, и я поняла: они нас увидели, так же, как и мы их; я поняла: они посылали нам тоску свою, боль свою, незнание своё; они не ведали, што с ними станет завтра; у них не было ни завтра, ни сегодня, ни вчера. Я тихо спросила мальчика: они вне времени? Да, выдохнул он, души всегда вне времени, это мы пытаемся присвоить время, сделать ево своим, кровным, единоличным, а душа, мертва она или жива, не знает, што такое время, для нея времени нет.
Мы уже подходили к чёрному лесу, стекло под нашими ногами темнело, темнел алмазный снег, переставал быть прозрачным, и вопросила я мальчика: Ангел мой, а где же Рай? мы с тобой заблудились. Мы никогда не найдём дороги! Он улыбнулся опять, он улыбался всегда. Нет дороги, нет времени, нет пути, есть только мы. Подожди немного, мы отдохнём, мы придём в Рай, вернее, то Рай сам придёт к нам, ведь в Мiре Божием не суть важно, кто и когда и к кому пришёл; мы все варимся в одном котле, варится прошлое, настоящее и будущее, варится варево времени, и помешиваем мы кипяток ледяным Царским половником, и не тает лёд, ведь нету льда, нет снегов, Мiръ, каковой мы зрим и ощущаем, пребывает во времени, обречённо придуманном нами; однако, ежели времени нет, значит, нет и нас. Как! воскликнула я, и меня нынче нет?! меня, босой, в рубище идущей за тобою по снегу! тебя нет и меня нет? А кто же мы такие? мы што, тоже души, как те?! около голой сиротской столешницы с голодными пустыми мисками?!
Нет, тётенька, мы не души. Мы это мы, такие, какие мы есть, только времени за пазухой нет у нас, времени; а у ково время-то есть, у ково, ни у ково ево нет, улыбался мальчик вечно, безконечно, время за пазухой держит только Бог.
***
(мы другими не станем)
мама битва началась замри тише стреляют и рубятся в крошево мама я кричу а крика не слышу вокруг все вопят истошно мама я не хотела зреть гибель вблизи и вот я её увидала мама все мыслят что выживут и начнут ненавидеть сначала мама ненависти конца нету краю мама а я на войне влюбилась я от любви умираю не от пули не от огня штыком не проколота в кровь не избита я от любви умираю вечной сияющей неизжитой это смешно от любви умирать когда все палят друг во друга на царскую рать идёт полоумная рать и так всю ночь по кругу по кругу и так весь век льётся соль из-под век мама держу на руках двух кошек приблудных вокруг меня кошки бродячие жмутся ко мне они боятся погибнуть в огне им тут слишком огненно бешено людно звери сильней нас чуют тьму крепко зверяток моих обниму я их глажу шепчу сумасшедшие люди окончится эта война я налью вам в миску воды нет вина поднесу красную рыбу на блюде мама кошки так голодны они как мы стонут во сне видят сны я лицом прижимаюсь к ним и так бедно нище шепчу молитву Господи спаси зверей и людей а превыше всего спаси детей ведь идёт последняя битва Раскол яко вор прошёл вдоль по земле застыл Пасхальный кагор во родном хрустале помянем мёртвых помянем мама кошки в ночи так сильно дрожат мама Мiръ не вернётся назад а мы останемся тут навсегда мы другими не станем
***
(поучения Ангела мне)
И так мой мальчик говорил мне; он не пытался вбить мне в голову гвозди великих истин, быть может, я тоже знала их, но забыла за длинный кандальный путь по непролазным чащобам жизни; забыла всю громаду мудрости земной, а знала ли я ея? и то забыла; и так говорил мне Ангел мой: ежели ты нагрешила и хочешь стать иной, чистой и весёлой, прежде всево научись миловать грешника сама, протягивая руки тому, кто любить не умеет, кто, удручённый горем, гоним и презираем; тому, кто плачет, сетует, рвёт на себе власы, согрешив, и не знает, как выбраться из греха. А ежели ты хочешь быти славной, почитаемой, превознесённой яко Царица, штобы гнулися пред тобою спины в поклоне, так сама прежде всех век почитай людей и смиренно склоняй шею пред ними! Ежели ты желаешь есть, голодная, истомлённая, и от жажды трясёшься в пустыне, воздымаешь к палящему светилу лице твоё и молишь у Бога хоть каплю воды, ежели ты тянешь за хлебною коркой скорбную руку, ежели ты мечтаешь о пирах роскошных, прежде всево чужих накорми, а родных накорми тем паче. Ежели хочешь што взять, прежде всех другому дай, подари, оторви от сердца; так равновесятся чаши весов, и што перевесит, твой соблазн али твоя щедрость, твоя жадность али твоя милость? Коли ты сердцем умна, сердце твоё всегда пожелает тебе худшее, а другому, чужому ли, близкому, лучшее, чистейшее, сладчайшее; себе надлежит всегда хотеть малости, а чужому желати огромново да прекрасново. Ежели богач предстанет горделиво и важно пред тобой, богачу поясно поклонися, а коли нищево встретишь на дороге, кланяйся ему земным поклоном. А ежели изобьёт тебя кто, ударит плетью поперёк спинушки, залепит тебе пощёчину грубую, оплеуху жестокую, помни Христа Бога нашево, воспомни Христа и обрати ко бьющему другую щеку. А когда покончит он тебя бити, отойди смиренно и ему в землю поклонися. Ежели живы отец твой и матерь твоя, почитай и храни их яко драгоценность великую, яко самоцвет Царский, яко Родину твою, яко землю, што каждодневно топчешь ты, землю родную у тебя под ногами, ибо отец твой и мать твоя суть земля твоя. Вставай пред ними на колена и не стыдись тово коленопреклонения; бей ты им земные поклоны, ползи к ним на брюхе, разбивай лоб, моляся о них, кто извел тебя на свет Божий из плодоносныя утробы своея. Мать твоя рождает тебя в муках; сколь страданий претерпела за тебя, сколь слёз она пролила, пока ты возрастала, тревожась о тебе, тоскуя по тебе, когда ты исчезала с глаз долой и уходила из дому в далёкую даль, а потом, побитою собакой, стыдно-жалко возвращалася! Отец твой, страдая о тебе, всю жизнь молился за тебя. Воспомни ево печаль по тебе, поминай ево всегда в молитве твоей! Близко ли ты с ним или ты далёко, уврачуй немощь ево, излечи дряхлость ево, успокой и утешь, когда не станет у нево сил поутру омыть себя; обнимай ево, шепчи ему на ухо мягкие как шёлк, нежнейшие слова, укрывай ево тёплыми одеялами, чистейшими простынями, целуй ево седой висок, целуй дрожащую морщинистую руку, готовь ему самую вкусную пищу, святейшую еду; а когда уходишь от нево, низко кланяйся ему, не стыдись, то не унижение, то дочерняя любовь твоя. А тако же и матери делай твоей; так делали Царские дети, почитали родителей своих, и в бедной хижине бедный распоследний нищий так же, яко Царское дитя, кланялся отцу своему и матери своей. Отец и мать твоя - то твои Царь и Царица. Когда мать твоя состарится, подхватывай ея на руки и носи по дому, яко робёнка носят; она, што родила тебя, теперь твой младенец; ежели бредёт она по улице и пред ней ручей течёт весенним потоком, подхвати на руки ея и чрез ручей бурливый перенеси. Ежели обедать садитесь, прежде всех чад и домочадцев кусок вкуснейший ей положи; прежде миску супа матери налей, а потом и сама к яствам прикоснись. А коли обласкать ея захочешь, обними мать твою крепко-крепко, главу твою ко груди ея прислони и целуй ея, покрывай поцелуями щёки, плечи и руки родные; а во предсмертной дряхлости ея встань пред нею, немощной, и снова сто, тысячу раз до земли ей поклонися. Бог всё то с небес узрит. Так исполняется жизни мера. Ежели брат и сестра имеются у тебя, не молви им никаково злово слова, а кричи и шепчи им лишь добро и ласку; ведь твои братья и сёстры, то деревья Райского Сада, единая утроба матери-Природы вас носила, единая воля Божия вас на свет выпустила, единые звёзды светили вам, когда вы тянули молоко из грудей матери вашей. Не обижайте друг друга никогда! Да не стремись стать выше сестры, не стремись обидеть брата; ты старшая, заботься о них, ты младшая, слушайся их.
Тётенька, то сила любви! а что такое любовь, знаешь ли ты? разве можно высказать любовь словами? И вор может любить воровку, и горький пьянчужка может любить пьяницу-подружку; палач любит палачиху, торговец любит торговку, зачем они делают это? да ведь надо же с кем-то близким пить и есть и ложе делить; а можно ли любовь украсть? Можно ли присвоить любовь, ежели ея у тебя нет? А может, есть любовь не только Божия, но и бесовская, Адова есть, порочная страсть, не приближайся к ней ни на шаг, ея издали видно, с грязью и кровью смешана она, а настоящая небесная любовь, любовь к Богу Господу, к людям близким и далёким, к земле твоей яко Райскому вертограду, эта любовь самоцветная, сияющая. Накорми голодново! Напои алчущево! Голяком ходящево обряди! Скитальца в дом свой введи и близ очага усади, согрей, протяни кус хлеба и чашку воды! Почитай иереев твоих, а коли за грех в темницу тебя бросят, там заключённым молитву твори. О вдовце и вдове заботься, о сироте пекись; брюхатой бабе помогай родить; ежели грешника увидишь за сотворением греха, схвати ево за руку и воззови к нему так: иди, грешник, покайся, я сама тебя на покаяние приведу! Тётенька, ты ведь помнишь заповеди Божии? учи людей заповеди те не только повторяти, но и делать каждодневно.
Увидишь, люто обижают ково, заслони ево грудью от смерти возможной; коли человек спросит тебя, где путь, и скажет тебе: потерял я дорогу, путнику укажи дорогу и по той дороге ево, сколь сможешь, проводи, а потом возговори так: иди теперь один, ибо спутником я тебе в судьбе быть не могу; и низко, низко так поклонися ему. Молись, молись, тётенька, за всех, не за себя! не себе проси, а молись так: Господи, спаси и сохрани всех нас, православных, всех людей иных вер, всех друзей моих, всех моих врагов, штобы все были здоровы, штобы Господь вразумил неразумных и дал любовь Свою ненавидящим. Такова сила любви, што всегда поборет силу злобы. Ищо придёт твоё время пострадать ради ближнево, а потом и заради Господа Бога. Сколь на земле у нас братьев и сестёр! Сколь на земле детей наших, и малых и великих! Сколь внуков народится, правнуков потомками нашими; унизается, усыплется вся земля, яко перлами и смарагдами, нашими чадами! Богатые и бедные, здоровые и убогие, великие и крошечные, смиренные и дерзновенные, сироты и наследники, вдовы и невесты, женихи и старцы, есть, есть у нас ищо земное время, ищо бьётся оно под левой подмышкой. Пекись, жена, о муже, а муж о жене. Постели, брат, ковёр мягкий под ноги сестре; заштопай, сестра, дыры на локтях рубахи брата твоево.
Любовь питается заботой и верой! Ежели не веришь ты, хлеб раскрошится под твоими руками, ризы чистые, праздничные загрязнятся, честь падёт и будет растоптана; и зря ты будешь помышляти, как сына к празднику нарядить, как дочку замуж счастливо выдать, как пир свадебный сотворити; ежели грешен ты, закроются тебе все врата, заметёт все твои дороги снегом, ослепнешь ты от метели. Ежели ты воистину Христова ученица, помни, живой человек, далёкий и близкий, он тебе родня, да лишь потому, што он тоже в Божией любви живёт, даже ежели кричит на весь свет: Бога нет, Бога нет! Утверди ево в вере, обучи милости не словом, а делом, да с добром корми ево, и он тебя накормит. Всё, любезное Богу, любезно людям. Я не спрашиваю, есть ли у тебя муж; ты одинокая странница, идёшь по жизни одна, ступаешь по снегу кротко, вот я тебя ныне веду, по сугробам невесомо пройдём, а вдруг под снегом курлыкает, булькает вода: бьёт ключ. Стань пред ним на колена, зачерпни воды в горсть, испей ея, алмазную; она твоя и она ничья, она избавит тебя от блуда и напоит красотой, она святая не только во Крещение Господне, а во всякий день годового Круга, и звёзды над тобою, тётенька, идут кругами; а спросишь, единение жены и мужа, грех то или не грех, красота рядом с любовью, любовь рядом с ночью, ночь рядом с объятиями, объятия благословлены Богом. Так в чём же сомнение твоё? Вы яко Адам и Ева в Райском Саду, только не ешь плода от древа иново познания; Бог дал тебе пищу, Он дал тебе целую землю, великую землю во плодах и садах, пчёл, што со цветов сбирают тебе мёд. И вот под снегом журчит-поёт серебряный ключ, Крещенская вода, вода на Водосвятие, и ты, тётенька, не бесовская жена, а ты насельница Эдема, и то на тебя глядел Христос, и то тебя осеняла знамением Пречистая Матушка Богородица. Они глядели на тебя, а ты не видела их; как же помышлять ты можешь о Страшном Суде? Ты боишься предстать на Суде нагой, тебе нужно непременно одеться в ярко сверкающие ризы; укрыться под Райское древо, как Адаму и Еве, и прикрыть тёмною густой зеленью, блестящими листьями наготу свою безпомощную. А Бог лехко ступает по Раю и возглашает: Адам, где ты? Ева, где ты? Куда вы спрятались? А ты, как во стародавние времена, боишься голой явиться пред Богом твоим, но Бог твой видит тебя каждую минуту и каждое мгновение жизни твоей. Видит голой, одетой, лживой, правдивой, прекрасной, уродливой; от Бога убежати никуда нельзя.
А люди ведь склонны ко греху. Они блудят, крадут, чревоугодничают, убивают. Человека страшно убить, тётенька! А ищо страшнее убить ево прелюбодеянием. Закрывай не закрывай срам твой тряпками, Бог очами Своими тебя насквозь просветит, в бане голую увидит; блуд тяжёлый грех, но так привычный человеку, мойся не мойся в горячих мыльнях. Ах, не окатывайся водою из грязных шаек! Надевай не надевай рубаху белую, светлую, всё равно, коли грешен, грязен человек. А всё во храм хочешь идти, всё кидаешься на колена пред попом, штобы праведность себе вернути. Мучит тебя совесть, грызёт тебя изнутри. Румянь щеки свёклой, мажь уста морковным соком, наводи красоту на смертный лик, а не прикроешь краской черноты грешной души. Бесы разные обличья принимают, бес может даже Ангельское обличье принять.
Я прошептала изумлённо: ты маленький, а такой уже мудрый!
Што такое мудрость, тётенька? Я не знаю мудрости, просто говорю то, што мыслю; о чём подумаю, то и выталкиваю изо рта, и сердце моё в лад с голосом моим бормочет. А сердце, может быть, и есть голос Бога. Я всегда был нищий мальчонка, я бегал по дорогам, я колядки пел у богатых домов; много видал я, бедный малёк, богатых людей; во многозвёздные Святки средь синих сугробов ходил-бродил по дворам с другими детишками, колядовали громко, звонко; испрашивали у хозяев то горбушку хлебушка, то сладково, из сдобново теста спечённово петушка, то зайчика, изюм вместо глаз, то мисочку клубничново варенья, то кусок пирога со свежей рыбой, с резаным жареным луком, то горшочек каши гречневой с коровьим маслом. Чево только вкуснейшево не выносили нам! то козочку сдобную вынесут на крыльцо, то поднесут печёново жавороночка, чёрненькие глазки чечевичные! и ели мы, ребятишки, облизывая пальцы на морозе, и чуяли себя Давыдом Царём, Исусом Пророком; хлебец жуётся быстро, пирог быстро съедается, не помрём с голоду, ибо петь умеем! Ежели буду помирать с голодухи, опосля последней войны воскреснувши, снова побреду по дороге столбовой, а где по просёлочной; буду колядовать, сбирать милостыню в шапку или в шубёнки полу, кот будет сидеть во чужом окошке, намывать гостей, в окошко мне-то кусок бросят, то рыбу вяленую, то косточку с мясом, то пряничка на крылечко вынесут добрые люди, помогут нищете моей. Думаешь, богата ты? то тебе только кажется. Знаю твою тайну, не скрывай ея, завёрнут в платок клад твой был, да растаял. Серебра у тебя была дома горсточка, а когда ты в путь пустилася, в путь-дорогу далёкую, то серебро ты во платок завернула да за пазуху засунула. А в лесу под кустом ночевала, проснулася, по дороженьке опять пошла, за пазуху руку сунула, глядь, а там серебра-то и нет, потеряла. Может быть, собаки бродячие с тем серебром нынче на грязной дороге играют, рыча, грызут ево, яко кости.
Не имею права я, мальчишка малый, никаково тебя учить. Но вот ведь учу. Милосердие Божие велико. Вот власы твои ты, баба, расчёсываешь гребешком всякий день, и зеркальца у тебя нету, штобы в нево поглядеться; зато у тебя есть Слово Божие, истинное зерцало Божие, и ведь не кривое оно; оно тебе и будущее отразит, и всё прошлое времячко твоё; ежели в юности диавол тебя соблазняет, в нево поглядися: зри, вот скоро старость твоя идёт; так вернись в целомудрие твоё, покорми Бога твоево чистотою сердца твоево и хрусталём помыслов твоих. Грешница - обратися! Прощения не просила - проси! Не плакала, моляся, никогда - стань на колена и плачь!
Прежде тебя, тётенька, бывали иные люди, иные смерды и Цари иные, владыки и пленные рабы, все человеки и все твари Божьи, што родилися на свет прежде тебя; кучно всех пожрала смертушка, все увяли, все очи закрыли, всех Матерь Смерть в хоровод мертвецов за собой увела. А вы, люди, боитесь одново лишь слова - смерть! Боитесь так, будьто все вы сидите на Тайной Вечере за огромным круглым Божьим столом, и каждый из вас не человек, не грешник, не Апостол, не красавец, не предатель Иуда, а каждый из вас чюдовище, и вы драконы зубастые из Мiра Иново, из тово Ада, што зрела ты давеча под ногами; там Бог и диавол вместе будут сидеть и пировать. Все чудища видят нас, и мы видим их. А где пирует грешная душа? Нет света там, тьма непроглядная, гроза великая, гром, молния и скрежет, земля трясётся, земля тож умеет стонать и плакать неутешно; земле, яко человеку, страшно; а мы, чудища грешные, тёмною кровью помним, што когда-то мы были человеки на страже Бога, а теперь мы стражи Иново Мiра. Издали, из подземья, мы зрим Господа и Богородицу, Исайю и Даниила, Авраама, Исаака, Иякова, Царя Давыда, Царя Соломона и Царя Ирода, пророка Езекииля и мёртвово Лазаря: ево же Исус Господь поднял из гроба и развернул для новой жизни из погребальных пелён. Люди не любят приказов; они любят лгать, воровать и отпираться, они любят втихаря сотворить беду и лицемерно прокричать: то не беда, то благость одна!
Человек не зверь, человек не волк, человек не собака; зверь боится огня, но не человек; тётенька, я любил сызмальства, ищо совсем несмышлёныш был, ходить с огнём в руке, поджигати вечерние небеса. Да так по улице и бегал с зажжённою лучиной, и в избе так прыгал, а мать вырывала огонь из кулака моево, била мя ладонью крепкою да ругала ругательски, кричала так: не смей! нечестивец! избу подпалишь! И што толку, што я кричу нынче людям: я Ангел Божий, слушайте меня, не смейте бегати с огнём, избу вашу ненароком подожжёте! Што ответят они мне, я знаю, што прокричат в ответ: захотим и подожжём! А ты тут не вопи небылицы в лицах! Ишь, Ангел Господень нашёлся!
Тётенька, я сам не знаю, што такое грех, хоть я и Ангел. Я многово не знаю, и мудрость не для меня. Вот учил я тут, учил-учил тебя жизни. А чему научилась ты? идёшь, идёшь за мной, идёшь. Вот и мудрость вся.
...я волчица, за волчонком моим ступаю вослед. Где наша пища? Где наш притин, пристанище наше? Призри на нас, Господь наш! И призрит на нас Господь наш, и даст нам еду и питьё, и даст нам смерть, ежели мы тово пожелаем; и даст нам смерть нашу забыть, ежели мы ея как огня забоимся. Сколь ищо жизни, минута, две, десять ли веков? Вдали идёт война, и слышно, как разрывы грохочут. Всё идёт и идёт. Всё война и война. Слышишь, как поют?.. это далёко, далёко, за чёрным лесом церковь Божия, куполов златых отсюда не видать. Зато колокол слыхать, и пение слышно, знаменный распев; поют Третий глас Святаго Осмогласия. Я што спросила тебя, сынок мой, Вакушка? Дойдём ли мы до Рая прежде Пасхи Господней?
Дойдём, милая, я тебе обещаю.
***
(свет перламутровый)
Раковина, перламутровы створки. Жемчугом скатным вспыхнет душа ли, тело. Жить порою невыносимо, скорбно; а порою отчаянно, счастливо без предела. Раковина. Нынче вновь открылась. Распахнулась... а там, вот бы в тиши помолиться... эти руки, обнимающие пустоту и милость, эти тонкие пальцы, на полмiра очи, ясные лица. Эти девушки. Юницы... кожа да кости... бестелесны лилеи... ещё чуть, серафимы... Эти души живые, в сём Мiре гости: как мы все, сонмы любимых и нелюбимых. Одна девушка, как там тебя, Жизнью зовут тебя, что ли... я забыла... ну правда, забыла напрочь... а другая Смерть, без вопля, без боли, лишь улыбки нежной, хрупкой речная наледь. Слышишь, Пасха?.. движутся в тумане красные кони... и пекут опресноки, нет, куличи... кагор разливают по стаканам-рюмкам... кто там вдали стонет... эта девушка... не бейте... она ещё живая... Ты ещё живая, Жизнь!.. тебя убить не посмеют... ты жемчужина Царская в Раковине столетий... я от боли немею, от слёз косею, я гляжу, как глядят мёртвые дети... Раскололось?.. срослось?.. Господи, я не знаю... две нагие девицы, жемчужины в перламутре Мiра стального... вы возьмитесь хоть за руки... а вдруг пуля шальная... и тогда не начать нам наш праздник снова... Наш Двунадесятый. Наш колокольный. Тихо Раковина поёт. На ветру. В метели. Мне давненько не было так чисто, так больно. Светит жемчуг. Мы так победить хотели.
Раскололи нас - а мы съединились. Разрубили нас - обнялись смертно, голо. Светит Раковина, Царская радость и милость, на исходе заката, на бреге Раскола. Я стою пред ней в снегу, на коленях, плачу. Нету голоса. Нет звериного следа. Только сердце осталось, и слёзы впридачу. Люди, радуйтесь, люди. Наша Победа.
***
(Аввакум и Благодатный Огонь)
Аз есмь грешен, принимаю мученическую смертушку среди снегов, среди тайги и тёмной хвои. А ведь вот знаю: там, далёко, во граде Ерусалиме, является Благодатный Огонь верным да оглашенным, да и любому человеку, кто во храм Гроба Господня забрёл случайно. Огонь тут восстаёт пред ликами людей, Агиос Фос по-грецки именуется, не первую тысящу лет. Нисходит Благодатный, живоносный Огонь к людям. Я частенько размышлял о том чюде; читывал о нём в писаниях Григория Ниссково, Евсевия Кесарийсково и иных древлих богословов. Далёко во иных землях, давно-давненько начертали письмена о Святом Огне; четьвёртый век от Рожества Христова, тот век, егда жил на свете Божием Иоанн Златоуст; и аз, грешный протопоп, служил во храмах Литургию Златоустову, длинную яко сама жизнь, и Солнце в ней и ночь непроглядная. Слава Тебе, показавшему нам свет! Видел, видел ево Златоуст, тот Огонь, свидетельствовал. Свидетельствовали и святые Отцы: нетварный свет осветил Гроб Господень вскорости посля Погребения и Воскресения Христа. Припоминаю, аз есмь протопоп грешный, словеса Григорья Ниссково про то, како Апостол Пётр тот Огонь увидал; видел же не токмо чювственными очами, но и высоким Апостольским Духом. Исполнен был Гроб великово света. Хотя и ночь округ стояла. Святой Иоанн Дамаскин таково об том возглашал: Пётр предстал ко Гробу и, свет зря, ужасашеся. А то вот ищо Евсевий Памфил, богослов да историк, таково рассуждал во церковной истории: Силоамская купель раскрылася, и огнь с неба сошёл, сами собою зажглися лампады, и горели те лампады затем в продолжение всей Пасхальной службы. Святая Суббота, Страстная Суббота, Пасхальный канун! мы издревле справляли Пасху Господню, Светлый, великий Праздник, и весь Христов Мiръ, весь Христов окоём Пасху праздновал; завсегда служба Пасхальная начинается раным-раненько. А по совершении службы, баяли монаси, што возвернулися из Ерусалима от Гроба Господня, поётся тако: Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, до тех пор, пока не наступит пришествие Ангела Господня и не возожжётся свет в лампадах, висящих над Гробом Господним.
Святой Огонь, Огонь Благодатный!.. постояти бы мне на той литании... Мних Варфоломей, друг мой сибирский, повествовал мне за чашкою горячево отвара шиповника в лютый волчий мороз: литания во храме Гроба Господня зачинается за день и за ночь до начала Пасхи. Храм Гроба Господня... закрываю очи мои и вижу ево... каково часто я тот храм воображал: вот сбираются паломники под сводами ево, под куполом мощным, и желают они своими глазами зреть схождение Благодатново Огня. И не только православный люд здесь. Инославные христиане, католики сиречь, да магометане, да эфиопы с маслеными чёрными рожами, да неверных полным-полно, таращатся жадно зеваки любопытствующие. А сколь, Господи, сколь людей на земле не верует в Тебя! разве мы сочтём их! Разве я, грешный, сосчитаю! Иудеи наблюдают, штобы повсюду в храме царил порядок, не бунтовал никтошеньки, не восставал, лишнево не крикнул, словца не сбрякнул; много, много сотен человек набивается во храм. Вот она, толпа! Вот велия соборность людская! Наруже, близ храма, тож людской дым клубится. Народ бьётся прибоем, народ волнуется, яко сине море; Огонь, он воспыхнет севодня; люди жмутся друг к другу, задыхаются, тесно им, истомно, да никто не толкливый, не злющий, не обидит соседа напрасно; все стараются тишайшими пребыти пред Господом, боятся показаться пред Всевидящим Оком Ево злюками нечестивыми. Накануне Великой Субботы во храме Гроба Господня уж все свечи, лампадки, паникадила потушены; власти уже обыскали Кувуклию, в ней Благодатный Огонь сам собою возожжётся. Митрополит Ерусалимский, священники, монахи строгими очами обводят храм; на средине ложа живоносного Гроба ставится лампада; она полна маслом, но покаместь без огня; по всему ложу раскладываются хлопья корпии. А по краям кладётся шелковая лента... зрю, она небесно-синяя, цвета Богородицына плаща... а потом плотно замыкают Кувуклию, и запечатывает ея горячим воском храмовый ключник, магометанин.
Сколь раз зрел я внутренним взором: вот настаёт утро, нисходит на землю Великая Суббота, в тот день Христос спускается во Ад, для тово лишь, штобы вознестися в Рай, для тово, штобы воскреснуть; отныне и навсегда пребыть с нами, с каждым из нас. Поутру я сам в тот храм, шаг замедляя, вхожу, и я зрю и слышу первые знаки силы Божией; слышу, как далёко в небесах раскатывается булыжниками страшный гром. А солнце палит, а небо синё, яко василёк во ржи, раскаты наползают и уходят, накатывают и отхлынут и прихлынут снова... гром, небесный прибой. И так один час, два часа, три часа, под ворчание грома в зените, люди стоят молча и ждут... ждут... чево ждёте, людие?.. Бога ли Господа нашево?.. да... да... и вот храм вдруг зачал озарятися вспышками ярково золотово света, и не токмо золотово, а киноварново, голубово, алово, изумрудново, снежново, цвета перла речново: то под сводом, под куполом, высоко, там, во притворе, заблистали небесные зарницы, предвестники Святово Пламени. Ныне Небесный Огонь к людям сойдёт! И вот будьто бы стою я, слеп и глух от восторга и счастия, не слышу гудящий колокол, а время обтекает мя, яко остров, бьёт мне в грудь своею холодной вечною водой, будьто я уж не остров каменный, а челнок утлый, и плыву по течению могучей северной реки вдаль, в сияющий океан. А вот шествуют иереи; все облачены в чёрные рясы; в праздничных парчовых ризах, златых, алых и белых, никово; Страстная Суббота... Христос во Аде, и грешники падают на колена пред ногами Ево, плачут-убиваются, за Ним, лехко идущим, сломя башку бегут, ползут за Ним на брюхе, хватают крючьями пальцев подол Ево хитона: половина хитона красная, половина хитона синяя, кто так сметал силками драгоценный шёлк, то огонь и небо, небо и огонь. Што Ты хочешь поведати мне, Бог мой Христос, огнём Ты облачённый? Ты даёшь мне знак. Ты безмолвно говоришь мне про мой огнь будущий. Духовенство Ерусалимское ведёт под руки ветхово деньми Патриарха. Патриарх Ерусалимский в торжественном парчовом облачении, панагия ево сияет, яко Солнце, на старой груди, что устала жить и дышать; вдох и выдох колышут ту панагию драгоценную, усаженную мелкими, яко просо, искусно огранёнными алмазами и сапфирами. Медленно движется, всё ближе, ближе, Пасха Святая. Медленно духовенство Ерусалимское идёт мимо камня Мvропомазания. Батюшки, монахи, митрополит и Патриарх Ерусалимский подходят к помосту, што съединяет святую Кувуклию со всем гулким собором. Вооружённые воины еле сдерживают натиск толпы. Иереи медленно исчезают в большом алтаре собора. На Кувуклии застыла восковая печать. Господи!.. там ли Ты, внутри?
И вдруг ужас кромешный! крики, вопли, стоны, восклицания, визги, пенье, пляски! во храм врываются бурей молодые арабы! прыгают выше головы, визжат, голосят полоумно, бьют в бубны, в дудки дудят, надувая щёки, сидят на плечах друг у друга! Об чём они кричат? Не разберу, я-то ведь арабского наречия не ведаю... мних Варфоломей, друг мой, рассказывал: они просят милости Богородицы и снисхождения Господа Христа, штобы Господь даровал православным во Пасху великий Благодатный Огонь. Кричат!.. слышу, так они кричат: иля дин, иля виль эл Мессиа! Варфоломей перетолмачил мне те безумные выкрики: нет веры, кроме веры Православной, а Христос наш Истинный Бог. Мы-то привыкши к торжеству спокойной, инда широкая река, службы, а тут южные народы, кровь жарче огня: не остановить буйную пляску и веселье! Да ведь вьюныши и любят веселиться, они яко дети! Они ведь ищо дети, чистосердечны и нежны душой, а Богу любые народы угодны, Он всех услышит. И жёлтых, и чёрных, и красных, и белых! Варфоломей отвар шиповничный за милую душу прихлёбывал, на метелицу во слепое оконце щурился да тако мне повествовал: однажды выгнали арабских вьюнышей из храма; пошли вон!.. кричали им сердито, спокой тут возмущаете... а Благодатный Огонь не возжигался, како Патриарх внутри Кувуклии не молился... и Патриарх повелел опять впустить арабов во храм, и тогда Огонь снизошёл. Ах, как бы желал оказаться я среди паломников тех, счастливцев! лишь внутри себя, внутри мысли моей, сновидением лишь минутным могу я пережить то великое чюдо.
Но вижу всё сновиденное, тайнозримое внутренним, Божиим взором; вижу я, как внутри храма над Кувуклией является маленькое облачко, и будьто мелкий дождичек заморосил из нево. А я вроде бы стою поблизости от Кувуклии, потому и на мя, грешново протопопа, раз-другой упадают капли небесной росы. Мыслю: разразилася гроза, ливень хлещет по крыше, а во кровле незримые дыры, и проливается влага небесная внутрь... и внезаапу слышу: кричат, да все на разных языках, на тысящи голосов: роса, роса, роса Благодатная! роса нисходит на Кувуклию! Божия роса смочила корпию, што лежит на Гробе Господнем. Божия сила велика. Идёт Патриарх Цареградский, идёт Патриарх Армянский, за ними важными гусями ступает ерусалимское священство, то Крестный ход; все памятные места во храме тем важным, великим ходом объяты: вот священная роща, тамо Иуда и Христос стояли рядом, а Иуда римским солдатам показал на Учителя: хватайте, солдаты, вяжите Ево! вот место, где Ево без жалости избивали, заушали римские псы, легионеры. А вот людские смертные стопы доходят до Лысой горы, тамо Бога нашево распяли; до Святово камня помазания, на нём тело Господа Христа приуготовили к печальному обряду погребения. Медленно, мрачно движутся иереи, подходят к Кувуклии и трижды, по кругу, медленным скорбным хороводом обходят ея. Православный Патриарх Ерусалимский замирает около входа в святую Часовню. Снимают, совлекают с нево праздничные ризы, и он пред людьми остаётся в одном стыдном исподнем, в полотняном подряснике, штобы узрели все, все: не проносит он с собою во святую пещеру ни кремня, ни огнива, ни свечи жёлтово воску, што может воистину родить и затеплить огонь. Турецкие воины смотрят сурово, ятаганы висят у них на волчьих поясах. Подризничий несёт пред собою и вносит в пещеру большую лампаду; именно в ней должен вспыхнуть Огонь, а ищо несёт пук свечей, всево свечек в пучке тридцать три, не мене и не боле: по числу лет земной жизни Спасителя нашево. Патриарх Ерусалимский и Патриарх Армянский долго, горячо, брадатые старики, каждый уж на пороге смерти, будьто прощаяся, слёзно глядят друг на друга, себя крестят и крестят друг друга, армянский Патриарх, како же и Ерусалимский, совлекает облачение, и вот оба они, патриарх Ерусалимский и Армянский, в одном исподнем платье всходят внутрь таинственной Кувуклии. Закрывается за ними дверь, кладётся на дверь ярово воска печать, налагают на дверь алое лентие, монахи, каждый, печатки вминают в тёплый воск. Все, у кого горели в руках свечи, дуют на них; исчезает огонь, воцаряется тьма, голубкою слетает тишина, к людям приходит ожидание. Каждый молится молча, мыслями, слезами, беззвучно, дрожащими губами повторяет святые слова молитвы, исповедует Богу и Богородице грехи свои. Чем горше и откровеннее мы покаемся, тем боле надежды у нас, што Господь дарует нам Благодатный Огонь Свой.
Благодатный... раздумайся, человече, есть ведь и огнь Божий гибельный... в наказание, возмездие нам, неразумным, нечестивым... ВОТЪ Я СОДЕЛАЮ СЛОВА МОИ В УСТАХЪ ТВОИХЪ ОГНЁМЪ А СЕЙ НАРОДЪ ДРОВАМИ И ОГОНЬ ПОЖРЁТЪ ИХЪ. Пророка Еремию-то воспомни и огненное слово ево...
А не греши... не греши, не греши, и не будеши ты разрушен, яко разрушен и сожжён стал храм Ерусалимский...
Все люди глядят на дверь Кувуклии, на яркий красный шёлк, будьто мазок огня, язык смертного пламени. Красный суть красота, суть кровь. Да, то кровь, Кувуклия запечатана кровью, кровавые сердца людей бьются и ждут, терпеливо ждут. Терпение и смирение, вот насущные добродетели. Сердца вострепещут. Они трепещут в ожидании, ибо сказано было Церковью Ерусалимской: тот день на земле, егда Благодатный Огонь к людям не сойдёт, станет последним для душ живых, а сам храм будет разрушен. А я так скажу: последним такой день станет для людей всея земли, для людей всея Руси и народов иных земель. Да исповедуются и причащаются паломники и все люди пред тем, как переступить порог храма Гроба Господня, ибо ты должен быть чист пред Господом, чище чистово и светлее светлово, ежели притекаешь из иных земель на Пасхальную молитву.
Чюдо! Люди молятся, люди молчат, люди ждут: чюда может не случиться. Ждут минуты, часы, года, века. Тьмы тем времён проходят, яко в небе облака. Боги рождаются и умирают. А люди стоят. И ждут, ждут, ждут.
Скоро, скоро или никогда; вот сейчас; или так стоять и ждать будем всегда.
Храм озаряют яркие безумные вспышки, серафимские молнии. Они перекрещиваются, яко мечи и сабли, они возжигаются сами собою в дальних закутах древлево мрачново храма, они вспыхивают от иконы, што висит высоко над Кувуклией, они падают златыми зёрнами из-под купола. Они режут и рубят тёмный грозовой воздух, заливают всё округ жаром и златом, то здесь, то там, везде и всюду, всё гуще и гуще, меж мощными колоннами и ветхими, изъеденными голодным временем стенами храма мелькают весёлые молнии, светлые трезубцы; они ударяют в людей, што кучно толпятся во храме, но вреда никаково не причиняют живому; миг, другой, ищо мгновение, и весь храм уже крепко, богато опоясан святыми молниями, бликами, яркими солнечными пятнами, свет! свет! родился свет!
Агиос Фос!
Огонь мечется и рвётся, ползёт по шершавым, будьто потным и солёным камням, по испещрённым письменами веков и вмятинами времён колоннам вниз, взмывает вверх, под купол, пламенными ручьями выбегает вон, на свободу, и растекается златым разливом по гудящей площади, среди паломников, и в тот же миг у стоящих во храме и на стогнах и улицах пред храмом сами собою в руках загораются свечи. Сами собою возжигаются лампады обочь Кувуклии. Всё пылает, всё сияет, всё дрожит живым могучим светом, и вдруг восковая горячая капля упала мне на лице, и я услыхал, как над толпою разнёсся крик неистовый, крик восторга и потрясения: Огонь! он горит в алтаре! он пришёл, Благодатный Огонь, вот, сошёл к людям!
Господь сошёл к нам, людие!
Вот вспышка!.. и мощное пламя, огромный огненный цветок Кувуклии торжествует посреди храма, посреди Мiра. Огонь охватывает храм, и вопль радости звучит-гремит, коево я никогда в жизни не слыхал. Гляжу на Кувуклию во все глаза: она громадной каменною рыбой плывёт во огненной тьме храма, а белые, жёлтые, златые, алые, синие молнии струятся округ нея, пляшут, Огонь хороводит и дышит! А из круглого отверстия во куполе на Гроб Господень с неба Великой Субботы опускается незыблемый столб чистейшево света; я не видал никогда подобново сияния. Читывал я во священных книгах, што таковое сияние впервые явилось во время блаженново на все века Воскресения Христова, аминь.
Двери Кувуклии запечатанной, закрытой алым запретным лентием, отворились, и вышел к людям ликующим православный Патриарх Ерусалимский и благословил всех во храме, всех на площади и всех на широкой земле: Благодатный Огонь родился для всех. Патриарх начал раздавать огонь людям. Прихожане подносили свечи ему, плача от счастия. Мороз и огонь бежали у меня по коже живой, в гусиных пупырышках, по грешной спине моей, жгучим кольцом охватывали грешный мой лоб, и будьто власы возжигались на мне. Я читал молитовку, еле шевеля устами. Храм был мрачен, и озарился; смерть накинула чёрный плат, да огненная птица пропела. Митрополит высоко держал в руках пылающий пучок свечей Великой Субботы. А вот, людие, глядите, книжица заветная, и в ней иеромонах Мелетий приводит слова архиепископа Мисаила: вшедши внутрь Святаго Гроба Господня, видевши: на всей крышке Гроба блистает свет, подобно рассыпанному мелкому бисеру, белому, голубому и алому; бисеринки те совокупляются, сливаются воедино и претворяются в суть Огня, и от тово Огня уготованные ранее кандила и свечи возжигаются.
Всё како по-писаному и было. Свидетельствую! ибо истинно!
Гонцы, гонцы... ищо Патриарх в Кувуклии стоял, а гонцы уже чрез отверстия в каменной кладке Огонь возожгли и свечи те во мгновение ока разнесли по всему кричащему в радости храму. Огненный круг стал шириться, прибывал огонь, бил прибоем в лица людей, и не все возжигали Огонь от Патриаршей свечи; у иных людей он загорался сам; всё ярче и сильнее, всё мощнее и счастливее являлися неутолимые вспышки небесново света. Благодатный Огонь летал златыми голубями уже по всему великому храму, рассыпался яркими синими жемчужинами над Кувуклией, вокруг святаго образа Воскресения Господня. Слепя зрак, вспыхнула одна из святых лампад: Огонь на Голгофе лампаду возжёг. Люди махали пучками свечей, смеялися, пели, кричали. Сполохи усиливались. Искры сыпались бешаной половой там и сям. Близко мя стояла жена в чёрном одеянии, смиренная, со печальным ликом. Огонь зажёгся, и она засмеялась, яко робёнок играющий, и трижды сами собою загорелися свечи в ея руках. Она пыталась их затушить, а они наново загорались! Люди водили Огнём по лицу, он не обжигал щёки, подбородки и уста, не опалял ресницы и брови; люди восклицали: не жжёт! не жжёт! ево можно пить! и можно им друг друга ласкати, яко нежною рукою! Все прихожане храма Гроба Господня умывалися Огнём, черпали ево, яко златую воду, в горсти и пригоршни. Не клеймил Огонь болью людскую плоть, не нанёс никому увечья. Муж един возжёг сразу двунадесять свечей и браду свою всеми теми свечами жёг, и ни единого волоса не подпалил, не скорчил Огонь на браде могучей.
Гляди на Святой Огонь, человече! Богу молися! поминай родных твоих, кто намедни преставился! поминай убиенных твоих, покойников твоих давних и недавних, сыновей-дочерей, матерей-отцов, всех родичей усопших, все толпы несчислимово Рода твоево, во мглу уходящие, во тьму времён! Огонь Благодатный возжёгся - и всепрощение тя посетило! Огонь Благодатный воссиял - и мир во душу твою снизошёл! Огнём тем Божиим помолися за всех живущих и всех мертвецов: верь, они тож Огонь Пасхальный с небес созерцают и слёзы твои умиленные зрят!
Обними их душой. Поцелуй их... плачущими очами твоими...
Господи... когда то вами, людие, писано было... во книгах моих святых, старинных то навек запечатлено... и шепчу, и хриплю, и чту вослух, и плачу, и слёзы мои капают на жёлтые от старости страницы, яко те капли воска, што падают во храме Гроба Господня из-под каменной сферы владычново купола; прихожане именуют те капли Благодатной Росой. Мних Варфоломей разъяснял: таковые капли застывают на одеждах свидетелей возожжения Благодатново Огня навсегда, на всю жизнь, никакая баба не сможет прать то бельё до первозданной чистоты и белизны, те росные капельки, родинки Мiра, родимые пятна великово чюда, небесные знаки. Я стоял, выю вытянувши жоравлём, радость безмерная мя обняла и умиление голубиное, дух мой умирился хотя бы на миг, на площади люди кричали, вознося Господу хвалу, площадь вся была залита огнями, я будьто наново родился, и наново родилися все люди на службе во храме в ту Великую Субботу. Мы все очистились. Мы все прозрели. Никто не застыл в равнодушии, во льду сердечном, гибельном.
Огонь, он дарован нам Господом. Дарован магометанам, дарован язычникам. Господь всех нас до единово видит и любит. Крестоносцы, римляне, готы, воины Чингисхана... сколь сражений, сколь крови лилося... Огонь: утверждение бытия Божия. А когда огнь сей воссиял впервые? Мvроточат иконы, мvроточат фрески, с коих взирает на нас, грешных, Спаситель Христос. Благодатный Огонь, святое Мvро и чюдесная Плащаница, она же хранится в земле Латыньской, во граде Турине. Молитеся Богу, кто не верует. Всё мних Варфоломей мне рассказал; и я там был, я всё видал, и я свечи к тому Огню тянул, и рука моя дрожала, и сердце моё пело, и сам я плакал от счастия, быть пред Огнём Благодатным и целовать ево, и погружати в нево лице моё; и не обжигал он мя, не жёг, не мучил, не палил, а давал себя целовать щедро и радостно, и обнимали ево златые языки щёки мои, и волосы мои, и жизнь мою, и веру мою, дыхание моё и любовь мою, всё то был Благодатный Огонь, и он был со мною, и он был я, и я стал он, и мы стали едины, я, грешный Аввакум, и Огнь Благодатный, не разлить, не разрубить, не разделить, не различить. Благословляю тебя, мой Огонь, я дождусь тебя, я прославлю тебя, а ты меня. Не убоюсь тебя, а ты помилуй уж меня. Ты не сожрёшь мя с потрохами, ты просто возьмёшь мя к себе, и кровь моя узнает тебя, кровь моя суть красная, златая, пылающая кровь твоя. Мы сливаем крови, мы горим, мы будем гореть и жить в наших зимних небесах, у Бога на часах, всю жизнь, всю смерть, всегда, во веки веков, аминь.
***
(такая длинная война)
Того священника, ну, я вам говорила про него уже, запытали, сожгли. Схватили и того важного, я не знаю, как он по-церковному правильно зовётся, патриарх или ещё как, архимандрит, митрополит, не знаю, короче, владыку того сначала поволокли вешать, потом подъехал автобус, из него повысыпали солдаты, казнь прекратилась. Владыку со связанными руками втолкнули в автобус и увезли. Я не знаю, куда. На смерть, думаю. Всё равно на смерть. Не убили здесь, убьют в другом месте. Они грозились ещё схватить самого главного генерала, всё кричали: захватим главаря вашего в плен, сразу не убьём, сначала поглумимся, помучим всласть! Враги всегда друг друга мучат. Только мы не мучим. Мы только бьём врага, а если в плен берём, то нет, не мучим. Благородные мы. Ну, характер у нас такой. А тот священник, ну, с седой бородой такой длинной, всё кричал: каты! каты! палачи! сволочи! всю жизнь меня терзали, и опять вот терзаете! Его били по лицу, я видела. Изо рта у него кровь текла, зубы выбили ему. Старик бормотал всё какую-то фамилию, я не разобрала, вернее, не запомнила, вроде Пашин, или Кашин, или Пашков. Не помню. Его привязали верёвками к доскам, доски сколотили наподобие креста, распятие всем покоя не даёт, когда человека замучить хотят, даже в наше время распятие сооружают. Привязали и подожгли, он кричал сильно, а его, пока огонь не разгорелся сильно, били по щекам и по рёбрам. И самое главное, били и обидное ему кричали, гадости всякие. Я слушала и думала: ну мы же люди, мы же все братья, как это умудрились нас так поссорить, так расколоть, что мы начали друг друга убивать, или это в людях зло так глубоко гнездится, а потом вылезает наружу, не понимаю. Я вообще ничего не понимаю в войне, только чувствую, что за нами правда. Правду не сожжёшь, не распнёшь, правда, она правда и есть. Священника жалко. Старухи плакали, когда я рассказывала. Вот вам сейчас рассказываю. Зачем только рассказываю. Опять всё вспомнила, вот реву. Это невозможно без слёз. А солдатики наши когда по дорогам едут, в машинах, в автобусах, им навстречу выходят люди с едой, с водой, суют им в машины продукты, питьё, кто в мешках, кто в ящиках, красными флагами машут, кричат, плачут, плачут от радости. И я так стояла и плакала от радости. У меня с собой ничего не было солдатикам дать, кроме жавороночка, глазки изюмные, бабушка испекла вчера, прежде чем её убило осколком. Я протянула жавороночка бритому солдату, у него такие светлые глаза ясные были, так он хорошо на меня посмотрел. Он моего жавороночка за пазуху сунул, под гимнастерку. А я гляжу на него и думаю: вот ведь на смерть поехал парнишка, везде стреляют, взрывают, гляжу и плачу, а машина притормозила, и солдатик мне говорит: не плачь, я вернусь, тебя найду и на тебе женюсь. А я стою, реву, ему рукой машу и думаю: когда ещё это будет, ведь такая длинная война. Все идёт и идёт, идёт и идёт.
***
(Царь, один-одинёшенек)
Могуч ты, Никон. Могуч. Да только я сильней. Я сильнее всех супротивников, и вот, сильнее Аввакума оказался; да, поборол я протопопа, во темницу навечную ево усадил, в ямину земляную; и надо будет, срублю и сожгу, яко дуб во печи: жарче всево дуб горит, теплом всю клеть наливает до краёв. Я ево огнём покрещу. А тебя - крещу неволей. Што, несладко в неволе? то-то. Власть возыметь наравне с Царём! то суметь надо содеять. Ну, ты и содеял. Да обманулся в деянии твоём нечестивом.
Честь, честь. Што есть честь, а што безчестие? Меня вот злые языки безчестным именуют, безсердечным, во жестокости обличают. Думаешь, добрый хозяин чад своих по затылкам гладит, в лоб целует? скотину свою луччею едою кормит? жёнку свою на руках носит? Вот и ошибся! Добрый хозяин чад своих по лбам ложкою бьёт, ежели к миске со щами первыми тянутся, скотине своей башки отсекает, рубит ея и режет на мясо, на сало, на вяленье в зиму долгую: да штобы скотина та острастку имела, слушалася хозяина и у ног ево ложилась смиренно; а жёнку плетью охаживает да сапогом, сапогом по бокам да по телесам всем дебелым, а штоб она тише воды ниже травы пред мужем ходила, штоб она ему услужала смиренно да шёлковою волною, аки плат посадский, пред ним расстилалась. Иначе - гибель хозяину! Восстанут все слуги ево на нево! И со свету сживут!
И я тако же с моим народом. Народ надобно в кулаке держать! Да кулак крепче, крепче сжимать! Больно стискивать! Штобы народ там, в моём кулаке, верещал! Пощады просил! На костёр шествовал, на плаху, на висельцу! И самых моих наиближайших друзей, тех, кто родней родных, я на побивание батогами, во мрачное заточение да на смерть отправлял. И думаешь, сердце моё не дрожало? Ищо как дрожало! Тряслося просто! Колыхалось! И, да, Никон, плакало, горючими слезами плакало сердце моё! А не забалуешь у меня! Я сам у себя не забалую. Я - Царь.
Я - Царь!
А может, я раб последний. И это я у тебя должен в ногах валяться и пощады молить, а не ты у меня.
Народ мой я умерщвляю во благо же ему. Во благо, слышишь! Гибнуть должен скот под ножом, под топором хозяина! А не блеяти бунташно!
Ты зерцало моё. Я зерцало твоё. Мы оба отражаем друг друга. Худо мне, и задыхаюсь я ночьми. Лекарь мне скорую смерть пророчит. Велю я лекаря тово болтливово страшною казнью казнить. Да не помру я, не помру, нет!.. Цари разве умирают!.. Цари вечно жить остаются. А где Аввакум? А нет ево. А в яме он. А может, уж на костре! В сердцевине огня! Кричит и горит! Горит и кричит! А мне донесли слуги верные: он, из костра невредим исшед, по дороге пошёл, пошёл, пошёл... да так и ушёл. Утёк! Истаял. И не видали ево. А лишь слыхали о нём; слухом земля полнится; разное баяли. Балакал народ, што из огня ево, егда уж хворост подожгли, девчонка приблудная спасла; она, дескать, крикнула: беру ево в мужья!.. ну, по обычаю, надобно отпустить казнимово. Отвязали ево, он и пошёл, шатаяся, ей навстречь, девчонке той, кто брешет, бабе в соку, кто бубнит, старухе; о Настасье Марковне своей, видать, и не вспомнил. А кто бормотал, што, мол, он пошёл-пошёл по полям-лугам, по долам-лесам-перелескам, шёл да шёл, и видали ево везде, где только не видали, и по градам шёл, и по весям шёл, по стогнам да по крутоярам, по столбовым дорогам да по козьим тропкам, мелькнёт да пропадёт. Аки птица перелётная. Кто зрел ево во Белом Поле; снега, снега округ могучие, нескончаемые, ноги вязнут, душа морозится насквозь, насмерть. То лёд, то огнь, вся такая наша жизнь. Он идёт, а навстречь ему девчонка, али баба, али старуха; издали разве разберёшь; та аль не та, никто не прознал хорошенько. Што глядишь исподлобья? Сам я ничево не знаю. И слухи те тебе поведал из жалости. Штобы ты восчувствовал: нет, не казнил я протопопа, нет, жив он, жив. Он приходит ко мне во снах моих. Является из огня. Обожжённый весь, в волдырях, в крови. Глядит на меня и тихо так говорит: ВОССТАЛЪ Я ИЗЪ ГРОБА ЯКО ЛАЗАРЬ ПОГЛЯДЕТЬ НА ЦАРЯ МОЕВО. Боже! Господи Сил! Помози мне грешному! Укрепи мя! Помилуй мя!
Вот над тобою владыкою, Никон, во время юности твоея старец Елеазар возвышался на острове Анзере, во Белом море. Соловецкий монастырь весь на Елеазара глядел, яко на Бога самово. А ты ему воспротивился. Супротивник ты всегда был, Никон! Зачем ты мне стал заместо отца! Зачем ко мне подольстился, подлез хитро, подлец! Пошто нужен я был тебе?! Штобы возле последней, наибольшей власти погреться, равно как у печи изразцовой, да самому ту власть - заиметь?!
Елеазару ты в сердце плюнул. Рассорился с ним. Удрал от нево. А от меня не удерёшь. Я везде найду. Ты то знаешь; и потому не рвёшь постромки. А нравный ты! Ты в небеса взмоешь, аки голубь - я тебя и в небесах найду. Ангелом не станеши! И не надейся. Но и во Ад не направишь стопы; много чести тебе! Туда только Христос Бог спускался посля Распятия Ево.
Свободу любишь?! А вот тебе скит. Волю до дрожи хребта вдыхаеши?! А вот тебе затвор. Монастырь та же темница. Рыбоньку в одиночестве ловил?! Залови, попробуй, грешные души тюремщиков твоих!
Я моложе тебя, Никон, но я крепко понимаю: храм - не базар. На сто голосов во храме не кричат. И ты, хитрец благочинный, устроял во храмине благость и тишину. Тишину... тишину... За то я тебя и возлюбил, за тишину. А кровь?! А, кровь! Кровушка! Пролил я ея вёдрами, реками, кровь людскую! Яко красные слёзы, землю она залила! Питалась кровью земля, и это я, я питал ея пищей той! А гуще крови нет причастия! А слаще крови нет насыщенья! Тишина у тебя за спиною, Никон, а напереду - суровость да ненависть! Ненависть - к кому, к чему? А к тем, кто Бога не почитает! Кто Богу готов, как воин римский презренный там, на Голгофе, сунуть пику под ребро!
Я боярыню Феодосью велел казнить, я. Я тебя в заключенье велел упечь, я! Я такой, я сякой! Да я - Царь! А ты кто такой?! Мой народ - весь у меня под пятой! Ты же сам, дурень Никон, так меня учил. Нашёптывал мне: держи, держи народ в узде, а я буду овец моих рядом с тобой пасти, и так два владыки пребудем! Я верил тому. Я хотел тово! Видел ясно: нет сильново Царства без жестокости. Без смерти. Хрипят люди на висельцах! Обматывают им каты жалкие шеи вервием и топят во проруби в день зимний, солнцем, яко златым млеком, залитый! Катятся орущие башки под топорами! И льётся, льётся, льётся бесконечная кровь, без конца без краю, без преграды-предела! Кровь! Вот што дороже золота! Дороже жизни! Дороже, ценнее смерти самой!
А Бога - кровь - дороже?!
Да Бог и кровь - это одно!
Бунтует народ, бунтует! Овцы мои вырываются из загона и наобум, навонтараты несутся, сметая в неистовстве всё и вся на своём безумном пути! Бунты-то наши упомнишь?! Соляной! Хлебный! Медный! С ума сходил народ. А Стеньку Разина вспомянь-ка! Вот разбойник, всем разбойникам разбойник! Разбойник... там, на Голгофе... ну-кось воспомни те словеса неизбывные: нынче же будеши со Мною в Раю... Господа голос... далёкий, дальний... и гаснет... ты не слышишь... и я не слышу...
Как казнил мой народ, так и впредь буду казнить. Ты не Великий Государь Патриарх! Ты просто загордившийся служка, и самовластье твоё я пресёк. Ты о грецких списках пёкся да о поправлениях в Писании Священном, а я - о том, штобы тебя, в случае чево, приструнить, в хомут мой выю твою всунуть. Яко отец ты был мне - яко грядущий предатель, стал. А почему, и сам не знаю! Есть мудрость такая: бойся, правитель, самово верново слуги твоево!
Ты лют - и я лют. Ты зол - и я зол. Да я злее, лютей. Ты виноватых иереев сажал на цепь - я виновных сразу на дыбу, на костёр, в яму. Смерть и кровь, вот главная народа азбука! Царь со своим народом, запомни, всегда ведёт войну. И што, плохо это, скажешь? Обвиняешь меня? Укоряешь меня?! Да я прав, я! Жалость, то для баб слабодушных. Царь - иной породы. Я, и нищим став, пребуду Царём. А ты, ты... глодай в Ферапонтове монастыре рыбью кость, изымая ея дрожащими пальцами из жиденькой ушицы, воспоминай Соловки и преданново тобою, аки Христос Иудою, старца Елеазара, московские гулкие соборы, а может, твои синие, речные да песчаные нижегородские пределы... и молись за меня! Я ведь жизнь оставил тебе!
Жизнь... и кровь твоя течёт в тебе...
Ты там вот што... Никон... помолись за меня, отче, прошу тебя... аз есмь Царь недостойный... я жить хочу, и я умираю... души всех убитых вопиют ко мне... вопли всех, кровию истекающих, пронзают мя, аки копьями Христа на Кресте... и помолись за боярыню опальную... год назад, всево лишь год, уморили ея... до чево страшна ея смерть... я бы, слышишь, я бы не хотел помереть в яме... ведь то могила при жизни... сидишь во твоей могиле и поёшь псалмы... утешаешь себя... а на земле мы кто такие?.. есть ли смысл во земной жизни, Никон?.. али всё прейдёт, и мы прейдём, и зачем же мы тут жили-были, во времени?.. зачем текла в нас горячая кровь наша?.. зачем не пролили мы ея в битве, не умастили ею родимую землицу...
***
(я, Аввакум и Пасха Господня)
Я видела ту Пасху Господню. Март, ослепляет солнечный день, а небо такое синее, аж режет глаза. Аввакум стоял на Солнце; последний снег сходил. А Благодатный Солнечный Огонь сходил с небес. Он стоял во чёрной рясе, в коей ходил всегда. Да, Пасха Господня, Светлая Пасха Господня! Стояли пред ним женщины. Одна в богатой парче, прошитой отборным жемчугом, в юбках густых, капустных, в кике, развышитой бисером и крупными, кругло обточенными иверийскими рубинами. Господни яхонты, роскошь, боярыня должна то быть, думала я. Я тайком озирала ея с ног до головы, а сама стояла тише воды ниже травы, а за поленницею дров, за сараями, видела другую бабу: в простецких тряпках, подпоясана верёвкой, холстина поистрепалась, юбка снег метёт, в лаптях, котами обцарапанных, детишки за ней толпятся-мнутся, переступают на снегу да прыгают, штобы согреться, и так любовно глядит она на протопопа, таково прожигает ево глазами... глазами говорит, глазами поёт, плачет душа в ея глазах, не опускает она глаз, пытается скрестить их с горящими под изморщенным лбищем очами протопопа. Я узнала ея. Жена отченьки Аввакума, протопопица Анастасия; а детишки-то, пошто они мал мала меньше? Они же все давно выросли, а какие и поумирали; в маленькие гробики клал их протопоп, рыдая над ними горько, да, это жёнка ево Настасья, што пекла ему блины на Масленую неделю и пироги в печи, сходной с широкою ладьёй; што варила ему щи постные да зелёные из молодой крапивы, а лепёшки стряпала из лебеды, когда муки не водилось у них... всячески изощрялась, штобы мужа своево повкусней накормить, ведь Ева в Раю тоже накормила яблоком голодного Адама. Как мне быть? Выбежать из-за поленницы, крикнуть: тут я, люди, тут! и меня заметьте! и меня увидьте! и меня... повела глазами вбок и зрю: богато обряженный человек, а на башке у нево шапка Мономаха, крупные смарагды и лалы огнём горят, Крест Господень наверху шапки, мехом соболиным опушена... то наш Царь-Государь! я чуть не упала на снег резучий, чуть не завопила в голос: Царь! Откуда ты здесь? Зачем ты... Царь насупил русые брови и глядел на протопопа таково сурово, што содрогнулась я: вот-вот подойдёт да наотмашь по щеке ударит. Алексей-Царь, это был Царь наш живой, Алексей Михайлыч. Што, Царь-Государь, возговорил протопоп, Христос тя ко мне, видишь, привёл! пришёл мя со Светлым Праздником поздравить, с Воскресением Господа Бога нашего? Славься ты на земли, Царь! А прежде всех век славься наш Господь! Он на землю спускался ради нас с тобою, Царь; Он на небеси воссиял ради нас с тобою. Зачем же ты казнишь мя глазами? Зачем казнишь дыбою и батогами? Зачем хочешь умертвить, убить? я живой тебе пригожусь; но давай же расцелуемся единожды, а хочешь, и трикраты. Похристосуемся, мы же с тобою русские люди. Христос воскресе!
И Царь шагнул к протопопу, и руки протянул: воистину воскресе! спокойно, важно так сказал голосом низким, утробным, и протопоп приблизил лицо своё к лицу Царя и расцеловал ево трижды, во имя Господа нашево и Светлаго Воскресения Ево, и тут шагнул по снегу ищо один человек, я бегала по нём взором туда-сюда, изучала ево, разглядывала украдкою, пыталась узнать, понять... вспомнить. Я никогда не видала ево; Царя-то я видала, помнила, а вот этово человека... нет: он стоял пред протопопом в праздничной белоснежной ризе, развышитой перлами и смарагдами.
Всё! вспомнила. Патриарх.
Ближе, ближе Патриарх Никон ко протопопу подошёл; бородатое лицо ево залилось дождём внезапных морщин, исказилось; они оба молча глядели на протопопа, Царь и Патриарх, не говорили ни слова.
Аввакум сделал к Никону шаг. Здорово, Никитушка, как живёшь-можешь? Христос воскресе!
И тут протопоп распахнул руки, раскинул их широко, желая то ли обнять Патриарха, то ли взлететь в небеса. И мне почюдилось на краткий страшный миг, што протопоп стал живой Крест, человек-Крест, и повиснуть на нём кому? мне, девчонке малой, жалкой? Да я за ним волчонком бежала след в след! Да я за ним бы кухаркой, стряпухой, служкой зажигала свечи в церковном приделе, когда шёл бы служить он, поранку литургисать; подметала бы тропу пред ним веником-голиком, штобы в пыль смести червей, жуков и гадов ядовитых, весь непотребный мусор, штобы по чистоте великой ступал он по земле. Он мя не видит, он не крикнет мне: Христос воскресе!
Никон шагнул назад. Воистину воскресе, протопоп, тяжело произнёс он; каждое слово Никона падало и катилось чугунным шаром, а изо рта протопопа излетали слова языками огня. Што же не цалуешь, али во Христа не веруешь ты, протопоп?
Оскалился щеником приблудным, и сделал шаг, и сам обнял ево, сам приблизил лик свой брадатый к брадатому лицу протопопа, и, еле касаяся губами, трижды расцеловал ево на морозном солнечном воздухе, под неистово-синим небом, в виду жены протопопа Настасьи, боярыни, имя чьё было мне неизвестно, да Царя Алексея. Похристосовались. Протопоп оттолкнул от себя Патриарха обеими руками. Ну и што, што Христос любовь проповедовал, и ты тоже нынче о любви мне скажешь, Никон? Ну, говори, я слушаю! слушаю да на ус наматываю! Зачем мы живём на земле, Никон? Да ведь для любови одной! То Господь наш нам пытался втолковати, детям неразумным! Да не слушались мы Ево! А сколь сотен лет прошло с лютой казни Ево и с Воскресения Ево! Пойдём на службу вместе! Вместе будем литургисать! Знаешь ли, Никон, я ведь всё забыл! Я вражду забыл, ты гнал мя, пытал, заушал, бичевал, ты бил мя смертным боем, а вот он я, жив, невредим, Господь мя спасал! Знаешь, Никон, штобы заставить меня замолчать, надо меня просто уничтожить! Убить! А лучше всево, Никон, мя сжечь! Нет ничево надёжней костра, ничево верней и пытальней огня. По кой я живу на земле? Да для любви! вот, гляди, их люблю!
Протопоп подъял руку и показал на жену и неведомую мне боярыню, на детей своих. Гляди, гляди, вот баба моя! а вот ученица моя, кою ты велел изничтожить... а ныне Воскресение Господне! И гляди, и воскресла она! А может быть, я-то уже сожжён да опосля воскрес из огня; да, сожжён я, сжёг ты меня, да, восстал я из огня, яко птица Феникс, ты видишь то, ты понимаешь то, в сердце твоё то чюдо впусти. Не знаешь ты, Никитка, што такое время! и я не знаю, не ведаю, што такое кровь людская. Хоть она, кровь, и в тебе, грешном, течёт. Перевернул ты Церковь нашу с ног на голову. Избичевал до самых жил. Яко пса поганово, бродячево, яко преступника, избил, уничижил, в рот кляп сунул. А тебя Царь вон как высоко вознёс, высоко и далёко! Эх, Патриарх, расцаловал я тя троекратно, простил я тебя, а ты так глядишь злобно, и я понимаю: ты-то меня никогда не простишь, никогда не забудеши о том, что аз есмь; сколь ты не живи на земле, Никитка, я, протопоп, буду мешать тебе жить, и будешь ты шипеть, как змея, будешь ядом плеватися и верещать: ты, протопоп, занимаешь место моё! вот лучче бы тебя не было на земле! я спокойно жити буду, коли тебя не станет! Всё я то знаю, всё ведаю; исполнится мечта твоя когда-нибудь; подпишет Царь указ, где чёрным по белому, гусиным пером лехчайшим начертано будет: казнить протопопа Аввакума лютой казнью, наилютейшей.
Древлие рукописи! Лишь по ним можно править службу. Ведь то дело Господа касается, не нас, людей жалких! Зачем ты, Никита, всё с ног на башку перевернул! Пошто всё искорёжил, извратил, испохабил! Зло, может, ты глубко в сердце больном таишь, лелеешь, зло поворотом Времени кормишь... Иначе како объясню, истолкую поступки твои? Нет в них любви! Нету любви!
Рукописи... письмена... то тайна велия есть... зачем мы чертим на бумаге, на снегу, на песке знаки наши людские... А звери ведь тоже чертят знаки неразгадываемые: лапами своими, копытами, когтями, хвостами... Птицы вон на снегу крестики Божии оставляют, когда по снегу медленно, важно ступают... А потом крестики птичьих лапок под синим, васильковым небом вышитой птичьей дорожкой смиренно лежат, и Бог глядит на них, малые письмена Свои, нежные, вот-вот на Солнце растают, исчезнут... и улыбается...
А книги людские?.. што они!.. Это мы, люди, мним, што написали незыблемое. Вечное! Бьём себя во грудь, накропав множество словес, и кричим-хрипим: я безсмертен!.. я безсмертен!.. Ничуть. Заблужденье то, безумье. Нет безсмертия на земле, нету ево и в небесах! Исказил ты древлюю веру, Никита. И не только ея. Ты всю нашу жизнёшку вывернул наизнанку, как вязаный зимний носок! Италия, говоришь?! Гишпания?! Греция?! Да у нас на Руси зимнее небушко синей, чем в твоей Греции! Хотел ты путём позорных поправлений святости праотцев наших с нужными тебе греками сдружиться. Ну, што?! Сдружился?! Што молчишь?!
Мыслишь, веру другую из Реки Времён удою, хилой да хитрою, выловил, ровно мощново тайменя?!
И тут шагнула к ним, сделала шаг, другой, третий неведомая боярыня. Отец Аввакум сказал, я слыхала, то ево ученица. Я никогда не видала ея... мучительно имя ея вспоминала. Да! Вспомнила. Феодосия. Феодосия. А отчество-то позабыла; навроде женою боярина, важново богатея она была. Глебом, кажись, боярин прозывался. Златые копи, уральские каменья, подземная добыча. А почему была? Ах, да, протопоп же молвил, она воскресла... воскресил ея сам Христос, штобы справила она Пасху Господню рядом с протопопом, учителем своим. А разве возможно такое чюдо? Разве не все люди, што уходят во тьму, уходят в нея навсегда?
...вспомнила: протопоп ея так смешно кликал... болярыней...
Протопоп оглянулся на поленницу дров; он почюял, што я стояла там, пряталась, и я поняла, што мне надо выйти оттуда, показать лицо моё всем тем людям, и Царю, и Патриарху, и протопопу, и Настасье, и Феодосии. Ноги подкосилися у мя от страха, не могла я дышать, а сделать шаг надо было. Надо.
Боярыня улыбнулась протопопу, подняла руку белую и положила ему на плечо. Учитель, тихо сказала она, всё предсказанное сбывается, все святые пророчества в срок исполняются, все древлие книги, коли святы они, заново рождают себя на свет среди людей. Зачем ты вызвал меня из мрака? Ведь ты же не колдун, протопоп. Ведь ты же святой человек!
Усмехнулся Аввакум. Болярыня! грешен я, грешен пред всеми, и пред Патриархом, и пред Царём, и пред женой, и пред тобой, святой мученицей; ты повторяла слова мои затем, штобы грядущие поколения их познавали, по складам разбирали и плакали над ними. Што есть слова? они суть людские слёзы. Они суть бедное живое сердце, и бьётся, и болит, и умирает, и слышим мы ево биение чрез века. Вот евангелисты Апостолы; рисовали они письмена свои пустынные, начертали Господа жизнь на пергамене, на коже нерождённово телёнка. А мы все небесные те письмена еле по складам разбираем, до сих пор не смекаем, об чём они глаголят, не уразумели всея мудрости, што сокрыта в них. Вот Пасха Господня, болярыня моя. Христос воскресе!
И положила боярыня Феодосия другую белую руку на другое плечо учителя и приблизила к нему румяное лице своё.
И поцеловала ево раз, другой и третий, и отняла от нево лице своё, и долго и радостно он глядел на нея, так долго, што поняла я - глядел он на нея целую жизнь, и целую смерть глядел, и отрывать очей своих от нея не хотел, да и она глаз не желала опускать, глазами всё продолжала ево целовать, и поняла я - то любовь небесная, то любовь, любовь, не надо слов, то просто дыхание, она во зле и гибели жива, она под ноги стелется, как трава, и отвернула я лице. Не могла смотреть. Я, как те дрова в поленнице, хотела бы в такой печи сгореть.
Отступила болярыня.
Смолк протопоп.
Я слышала, как тает снег. Снег обращался в воду и начинал петь. Растекался узкими, весёлыми серебряными ручейками. Серебряная кровь пропитывала землю, и небо отражало ея. Все молчали. И вся Пасха Господня велико, чюдно молчала.
И Солнце молчало; оно просто и чисто горело белым, ясным огнём.
Опять разлепил уста протопоп.
Я челобитную Царю писал! Што безмолвствуешь, Царь-Государь! Протопоп Даниил помогал мне, тот, што из Костромы на Волге! Пошто ты, Царь, и вы все, Царёвы слуги, и ты, первейший ево слуга, Патриарх, мне не ответили ни слова, ни полслова! Заткнули рты, и всё! Выкинули чернило своё в окошко! Изломали в сердцах перья гусиные! И дело с концом! А я-то ждал... Ждал.
И не дождался. И с глаз ваших долой! И из сердца вашево вон. И ушёл литургисать из Казанского собора в сараюшку, серые доски, ибо во Смутное времячко и конюшни драгоценней храмов глядятся!
А вы мя схватили... в кровь излупили... живаго местечка на мне тогда не нашлося... и бросили мя в сырой смрадный подвал, в подземелье монастыря Андроникова, и посадили, яко медведя, на цепь... и я тамо во тьме, во мраке кромешном чуть не ослеп... и швыряли вы мне вместо обеда людсково чёрствый, плесневелый хлеб... ну, да хлеб всякий свят... я ево грыз да мыслил так: нету, нету дороги назад... Церковные сломы! Книжные надломы! Ах, соблазн грандиозный, Никитка-мальчонка, брадатый охотник за верою новой, Царские хоромы... И соблазн - каждодневно баять с Царём о том, о сём; и Ангел не стоит молча у вас за плечом; и об чём та беседа, невозможно мне ведать, и никому о том нельзя поведать; всё тайна, словеса случайны... а поля, где умирают люди под лезвиями да на кострах, холодны и безкрайны...
Не евши, не пивши в подземелье сидел... сердчишко билося всё тише... зато глас Божий внутри себя всё яснее слышал. О чём мне провещивал Господь? То не скажу вам. Я ж для вас отрезанный ломоть.
Никогда не отступлюсь от Истины. Никогда! Даже и в посмертии. Истина, она тверда. Она лишена гордыни. Но крепка, железна она. Она светится ярче скиний. Безбрежней Огня Благодатнаго. Жарче сна. Я тя браню, Патриарх! Не испытую пред тобою страха. Хоть тащи мя на плаху! Я сам себя предам огню, сдёрну на снегу исподнюю рубаху, а молиться по-старому буду сто раз на дню. А мя - за космы дерут, в рожу мне плюют, плетью наотмашь бьют! Под рёбра кулаками пихают... синяков по телесам наставляют... Эх, вы, пытальщики! Разве ж помните вы, што страданье мученику - высшая награда? И в памяти людской страдалец завсегда остаётся. Он - звезда на дне колодца! И мученику венца не надо; ему вера - надежда, ему смерть - отрада. Так и Христос на Кресте завещал; в руки Отца Небеснаго дух Свой предал. Ты, Никитка, хотел мя расстричь! Веры опричь, Бога опричь... заступился ты, Царь мой, за мя... горчит на губах, в кровь искусанных, Царская тюрьма...
И што, Патриарх? Што, Царь? Вы мя в Сибирь сослали. Тако же бичевали! Тако же пытали! Да Сибирюшка-матушка мя спасала... осетры, таймени, стерлядки, по январю звонкие колядки... от звезды до воды милые Святки... Вкусил я Тобольский острог, вкусил Енисейский острог. В заточеньи всяк одинок, а я пребывал там с семьёю. Зане видал в окошко острога небо высокое, голубое... Острог Якутский познал! Сиянье Северное - во все небеса - увидал... Сиянье, начало всех начал... Звёзды, и ночь, и Бог, и молитвы шёпот, и вьюги вой и рокот... всё равно всяк одинок... всяк одинок...
Хоть люди, люди вокруг тя... а одинок ты, больно тебе не шутя... в земле Даурской наледь и глад... думал так: уж не ворочусь назад!.. Так жёнке, Настасье, шептал чрез древняну лодью пустово стола: зачем, бедняжка, за мя пошла... одно горе принёс я тебе... осьмеро деток с нами бегут по судьбе... слёзы и пот у мя на колючей губе...
Настасьюшка, а помнишь Пашкова злюку?.. вот была немалая мука! И я ея, безмерную муку, послушно терпел. Христос терпел и нам велел! А иногда, не выдержав, восставал. И врагов моих, истязателей, ремнём побивал! Да ведь и Христос бил торжников во храме святом - а не торгуйте душой ни на этом свете, ни на том!..
Я слушала исповедь Аввакумову. Запоминала всякое в ней слово. Говорил он твердо, тихо, сурово. На весеннем морозце всё до словечка, до вздоха и хрипа было слыхать. Стояла, детьми окружённая, бедная мать. Стояла и внимала роскошная красавица-болярыня, во праздничной, блёсткой, весёлой парче. Стоял Царь, с богатой, надменною, тяжкою бармою на плече. Стоял Никон-Патриарх, плохо скрывая страх: а вдруг вымолвит протопоп то, што возожжётся огнём в веках?!
Протопоп говорил ясно, внятно, горько, тихо, крепко, железно. Будьто стоял один над пьяною бездной.
С дощеника сбросил Пашков в реку Тунгуску мя и всё семейство моё! Выплывешь али потопнешь - таково было тогда всё моё бытиё. А вы хотели, властители, штобы я вам во всём угождал! А я одной милости Божией, не людской, только и ждал.
Ах, Тунгуска быстра, холодна! Ах, нету в ней дна... плыла Настасьюшка рядом со мной... детишки тонули... я бормотал: Господи, спаси, Господи, не насылай боле таково сна...
Страшный, утлый дощеник... детки малые... выплыли все мы, вытащили их всех... то Господь чюдо явил, и слышал я снова деток моих плач и смех... шли по дебрям диким, по ущельям, ползли по скалам, пробиралися по буреломной тайге, по урманам... зимой-осенью-весной... а Пашков велел мя к себе притащить, да избил крепко, измолотил, качался предо мною, како хмельной... а потом приказал дать мне семьдесят два удара кнутом... и вопрошал я себя тогда: Аввакуме, ты на здешнем свете али уже на том? Только шептал себе: и святые страдали... и святые тонули во слезах... и зрел я только злобный огонь во палачьих волчьих, красных глазах...
Шесть лет моих прогорели свечою во Даурской земле. Мои тюремщики избивали меня, и трезвые, и навеселе. Нерчинск, Шилку и Амур помню, о, как же помню зело! Терпел глад и лишенья, а моё Время всё шло, шло, шло и шло...
Даже не мыслил я, что вернуся в Москву! А вот же возвернулси! И стоял пред тобою, Царь, яко пред шептуном деревенским, не во сне, а наяву! Помнишь ли ты, Царь-голубчик, како вопрошал мя: ну што, нечестивый Аввакуме, усмирил свой пыл?.. И стать твоим духовником мя с виду умилённо, да с насмешкою тайной, просил...
А я - отказался! Да лишь потому, што ты, Царь, не собирался к нашему старому благочинию возвернуться! Што глаза пялишь по блюдцу?! Да, разгневал я тя вдругорядь! Да лгать ни Богу не умею, ни себе, ни тебе! Лжецов вели себе в слуги сыскать!
Пощечины како мне раздавал, неужто забыл?! как брызгал слюной... как орал, ногою топал, кулаки воздымал... мне под ноги плевал: што, мнишь, ты святой?! Сослал мя в Мезень... и там на жаре и морозе проповедовал я... и наша русская Старая Вера - вот вся моя была семья... моя Сугубая Ектенья... Ах ты, не реви, Настасья, очи вечно на мокром месте у тя... Тяжко бороться со властью... лучче, жёнка, давай-ка ново зачнём дитя...
И снова в телегах, возках, кошевах привезли мя в Москву. И снова зрел я Град Престольный и Блаженного Василья главу! И зрел я живой позорный собор из важно надутых иерархов русских и грецких, и судили они нашу святую Старую Веру лютым судом; и вот тут-то мя разстригли, ужою выю обвили да и прокляли во Успенском соборе за обеднею, и провидел я мои времена последние, и шептал я себе: зри, Аввакум, сей Содом...
А потом заковали мя в цепи, отвезли в Пафнутьев монастырь... так, в оковах, год продержали, и тьма была опять моя мать, и мрак снова был мой Мiръ...
И што же, Царь-Государь?.. сизый ты голубок, Мономахова шапка валится вбок?.. што же, безчестный Патриарх, Никон владыка, друг мой Никитка, помнишь салазки наши во Григорове-селе?.. не отвращай стыдново жарково, жалково лика, хоть и мечтаеши, штобы я горел во огне, качался в петле... Вот я здесь! на Северах безлесных, безтелесных, вьюжных, лютых! И Пасха моя Пустозёрская, вот она, Пасха моя! и вот моя Печора-река, инда на Солнце нельмой сверкает-блестит, играет, и душою играю с рыбою и я! Не могу проповедовать во храмах! Заказано мне! Да письма повсюду мои рассылаю, пущай люди не имут сраму, ведь за измену Старой Вере гореть нам в Гееннском огне! Четырнадцать лет на хлебе да воде... четырнадцать лет... земляная тюрьма... Я дал вечного терпенья обет. Я повелел себе: не сойди с ума. Вот друзья мои, единоверцы! Священник Лазарь! Инок Епифаний! Диакон Феодор! Никифор, симбирский протопоп! Языки отрезали им, страдальцам моим, оттяпали под корень, а всё одно поём! Вдвоём, втроём, вчетвером! По-старому поём Великую Ектенью. По-старому крестим лоб. Свята в наших сердцах Старая Вера. Жива наша Старая Русь. Жива наша любовь без меры, а коль загинем - так надо, пусть! Пуст Пустозёрск без нас. Пробьёт наш час. Наша казнь - наша Пасха Господня. Сей же час! Севодня!
А я, кто ж я такой? Где ж я сей проклятый час?! Мя, яко мешок зерна, што, оставили про запас?! Господи, где я?! вот на задах старый сарай... А, Господи, я понял всё! Мя же казнили! Пришёл мой Страстной Пяток! И так шепнул я себе: што ж, протопоп, иди, умирай! Што же! умирай, час-то пробил, оказалося, мой... Шёл я во сруб, где сожгли мя, к себе домой! Дом - то дым! Огонь - родимый мой дворец! Царь, торжествуй! Веселись, Царь-отец! Радуйся, злыдень Патриарх! Эх, ты, друже детства мово! А и всево лишь кроху жизнёшки у тя просил, да боле ничево... Болярыня, вдругорядь иди ко мне... дай обниму тя хоть опосля смертушки... по такой-то снежной весне... под таким-то чистым синим небушком... под ветвями сребряных берёз... ах, Федосья, душа моя, ничево ведь не зрю я от слёз...
Обняла Аввакума болярыня. Я стояла, примёрзнув ступнями к снегам. Я теперь тебя, отченька, никому, никому не отдам. Не продам, не предам, не отрину, не оболгу. Я девчонка твоя, дальняя, ближняя твоя семья, я твою душу живу не кину костью врагу. Я огнём тебя возьму в руки, свечой поминальной, прощальной. За пазуху тебя суну птенцом! Плачу, слёзы текут лавой горячей, ну, так ведь всегда пред концом, я тоже кончусь, родимый, отченька мой, я тоже кончусь, дай срок, а где же Настасья, где жена твоя, на перекрестье каких дымных дорог, ах, да вот она, вот она плачет, ревёт и на колена встаёт, всё падает-валится, никак не упадёт, или то мне только блазнится-чудится, а сказал Христос, никто никогда не умрёт, не умрёшь и ты, протопоп безумный, не умрёт бешаный твой огонь, обняла тя болярыня, руку вложила тебе в ладонь, Солнце поджигает вас обоих, нет, всё то лишь помстилося мне, и только молюсь: дай, Аввакум, мне сгореть во твоём огне, дай мне сидеть во твоей земляной яме, дай молитися вместе с тобой, дай идти с тобою вместе собакой верной, упрямой над ледяною Тунгуской, над страшной Печорой, над морозной судьбой, под звёздами, а лучче над звёздами, над Солнцем и над Луной... што ты там шепчешь страстно и грозно... над болярыней... надо мной...
И крикнул Аввакум: мы там, во срубе, пели! Единогласие, Осмоглас! Мы Задостойник святой спеть успели, и сердце Бога билось средь нас! Дружно гласы сливали в моленье одно! Нету страха, што скоро холодно станет, темно! Владычице, прими молитву раб Своих! Выпростал я правую руку... и во пламени костра сложил во двуперстие, закинул лик к небесной тверди! Крикнул народу: таким крестом молитеся - не погибнете никогда, ни нынче, ни завтра, ни вчера! Времени нет, людие, а есть только Бог! Несите Ему себя на зимнем блюде... ибо всяк одинок... всяк одинок...
И тут вдруг я увидала, как впрямь во грязный, на глазах тающий весенний снег опустилась пред Аввакумом на колена жена ево Настасья! Встала на колена и низко, низко голову нагнула. И так стояла, не шевеляся, застывши; будто уснула. Детки столпились округ нея, как вкруг костра горящево. Как люди из будущево толпятся вкруг настоящево. Детки клубились и вспыхивали, и таяли в синем воздухе, и исчезали, и являлись вновь. А Настасья вдруг голову вскинула да на мужа глянула; и во взгляде том душу ему вынула; и я опять в лицо увидала - любовь.
Любовь! Да! то опять была она. Велика, страшна, сильна, слепа, нема; одна. Нет сияния на земле ярче любви. Нет и превыше, в небесах. Хоть умри, хоть живи - она на твоём клиросе, во твоих знаменных голосах. Бог поёт ею твою малую жизнь. Поёт твой великий уход. Ты уйдёшь. Не кричи. Не дрожи. Там, за порогом, Христос тоже воскрес! Себя Благодатным Огнём передал из рода в род.
Настасья Марковна стояла пред протопопом на коленях в снегу. Он положил ей руку на плечо - тако похоже недавно болярыня клала на ево плечо ея белую руку. Жена подняла лицо. Он другую руку на другое плечо ей поклал. Ея лик разрезала плывущая улыбка, улыбка-лодка, улыбка плыла и уплывала вдаль с ея чистово, печальново лица. Я подумала: вот живая икона. Не поднять на нея, яко на Солнце, смертных глаз. И ея уж намалевал на радость людям небесный богомаз.
Аввакум взял лицо жены в ладони. Держал лицо жены в руках, так держат малютку, новорождённого младенца. Нежно погладил ея щеку. Царь Алексей Михайлыч, Патриарх, детки и болярыня в жёсткой парче цвета закатново неба молча глядели на ту тихую ласку. Тихо стало во всём широком Мiре; великая тишина стояла на Господню Пасху. Так тихо, тихо было повсюду. Я сказала себе: я тово никогда не забуду. Согласна всё на свете забыть, а это вот - никогда. Хрустит под сапогом тонкая корка последнево льда. Детки водили округ отца и матери тишайший хоровод. Иван, Прокопий, Корнилий, Афанасий, Андрей; Агриппина, Акулина и Аксинья. Небушко синее. Жизнь всесильная. Смертушка на груди крестом, на гайтане, крестильная.
***
(простите)
Я шла и держала за руку мальчика, он вышел из подвала, я его сразу увидела и поняла, надо отсюда уходить, сейчас нас тут накроет, стреляли уже совсем близко, он вышел из темноты на свет, щурился, ему глазам было больно, увидел меня, подбежал ко мне и схватил меня за руку, я крепко сжала его руку, и мы пошли. И тут начался обстрел. Мы сначала легли на землю. Лежали. Снаряды рвались, но нас не задевало, ложились поодаль. Мальчик задрожал и заплакал. Я сказала ему: не плачь, прорвёмся! И мы встали и опять пошли, и вроде утихло. Идём и видим: навстречу нам идёт старик, на того священника сожжённого сильно похожий, но нет, не он, другой. И его за руку девочка ведёт, такая маленькая девочка, примерно ровесница моего мальчонки подвального, а может, даже помладше, она идёт чуть-чуть впереди старика, он отстаёт на шаг, идут медленно, и как будто не стреляют сплошь и рядом, как будто они гуляют в парке, ну, дед и внучка, вроде того. И получилось так, мы с мальчишкой идём навстречу им, они идут навстречу нам. Прямо как два самолёта в небе, сейчас столкнёмся. Старик идёт, как незрячий, вроде бы не видит ничего впереди, и девочка его вроде как слепца ведёт, осторожно, ну как поводырь. Мы с мальчиком шаг замедлили, к ним подходим, они к нам, и наконец старик нас увидел, вздрогнул, как будто проснулся, потом встал и молчит. И девочка молчит. И мы тоже, мальчик и я, встали и молчим. Так молчим все четверо. И тут вдруг опять стали палить, да так крепко, густо, в воздухе вой и грохот, я кричу: ложись! - а все стоят, не шелохнутся. И у меня такое чувство, что мы уже вроде как не на земле. А где-то в небесах вот так стоим, и друг на друга смотрим. Кругом идёт война, палят вовсю, а мы стоим и друг на друга глядим, и всё, и больше ничего. И молчим, как немые. Потом девочка улыбнулась, она первая сказала: мы на земле или уже на небе? У старика бороду сильно трепал ветер, он молчал, и я молчала, а мальчик сказал: это уже неважно, где мы, это всё равно, я очень устал от войны. И у него грязное лицо было всё залито слезами. Девочка выпустила руку старика, подошла к мальчику и вытерла ему слёзы подолом юбки. А мы со стариком на них смотрели молча. Всё, не могу говорить. Простите.
***
(Аввакум и я встречаемся в Раю - во Белом Поле)
Белое Поле расстилалось предо мной белым посадским платком. Мальчик держал меня за руку, вёл. Я покорно шла за ним, старалась ступать след в след. Чистейшая белизна снегов застилала глаза мне слезами и слепотой. Я видела Белое Поле; оно дышало смертью моей и снова вспыхивало будущей жизнью моей, обещанием Рая. Где же Рай, тихо спросила я мальчика. Неужели это холодное Белое Поле и есть Рай? Так всё просто. Так всё тихо. Рай, зимнее наше поле, алмазный снег; Солнце, што виснет над полем белой слепящей ягодой; звёзды, они сыплются ночью в лукошко подставленных рук, в живую миску закинутово отчаянново лица. Отчаяние! Как часто приходит в жизни оно к тебе в гости! Ты не ждал, а вот оно, на пороге. Мальчик, ответь, не молчи, это Рай или просто зимнее Белое Поле, што мы вброд должны перейти?
Мальчик не выпускал руку мою. Остановился. Встала и я. Мы стояли посреди Белово Поля, залитово ясным белым молоком Солнца, и мальчик вздохнул. И услышала я ево голос, весёлый и тихий: да, да, тётенька, это Рай. Смотри, здесь, в Раю, никогда не заходит Солнце! оно движется кругами по небу, бесконечными, вечными кругами, оно светит вечно, и снега здесь вечны; иной раз прилетают из медвежьих земель метели и воют свою долгую песню. Звучит их хор под звёздами, под небесным шатром, под широким чёрным пологом, што жемчугами расшит. Да, это Рай! Стой посреди Рая, воздух вдыхай, ветер благословляй, видишь, здесь всё как на земле! Только снега белый ковёр босые ноги не жжёт, только здесь из конца в конец прошёл твой народ, и ты пошла за ним. Я не мальчонка, я твой народ, я костров твоих сизый дым. Здесь не убивают, не стреляют, здесь только благословляют. Я тихо вздохнула: ежели это Рай, мальчик, где же здесь Бог?.. о, и Он одинок. И Он одинок! Мальчик снова сжал руку мою и пошёл вперёд, и я послушно шла за ним, ведь он был мой народ, и я была ево народ. Мы оба, вместе, были народ; на замок вечново молчания был замкнут мой прежде вечно поющий рот. Я теперь вечно молчала, я согласна была начать всё сначала, я в лицо Рай узнала, я в лицо своё время узнала, узрела чужие дальние времена, сквозь кои не пройду одна, кои преодолею, лишь народом пройду: на огонь, на звезду, и вдруг там, вдали, где Белое Поле кончалось, а может быть, начиналось, я увидала человека.
Сначала узрела человека большово, яко высокий мрачный менгир, а рядом с ним человека маленьково; они шли к нам, приближались, я хотела ускорить шаг, но ускорила полёт моя душа: она сорвалась с моих плеч, вырвалась из груди моей, оголтело полетела вперёд, так в битве скачет конь грудью на врага, а душа летела, голубица, летела моя птица, и очи мои уже рассмотрели, кто приближался к нам.
Человек большой шествовал в рясе до пят, глаза глубоко запали под лоб, ужасом, радостью, верой, болью горят, слёзною любовью плывут, лишь любовь одну на земле знают. Большой и маленький человеки подходили всё ближе, я разглядела, кто человека большово ведёт. Девочка малая. Она осторожно, как слепца, вела за руку человека в чёрной рясе; ветер рясу развевал, рвал с тела; срывал ледяной ветер с нас все жалкие одежды, обнажая душу. Мы будем дрожать, а дрожь суть чювство. Ты испытуешь многие чювства, живя на земле. Душа всё чюет; душа всё знает, што было прежде. И што будет потом.
Они всё приближались; девочка протаптывала путнику тропинку в снегу.
Подошли ближе, я увидала: они брели не по снегу. Нет! они шли поверх снега, так, как Господь наш невесомо ходил по волнам Геннисаретсково озера. Медленно шли и мы им навстречу. Мальчик щурился на Солнце, всё сильней сжимал мою руку, до боли. Я хотела вырвать руку и не могла; я согласна была терпеть боль, я согласна была босыми ногами по снегу идти, по всему, сужденному мне на веку. Всё ближе и ближе, из-за слёз ничево не вижу, я вижу тебя душой, отче мой, и вот мы встретились в Белом Поле, в доме вечного дня, на кромке белово огня, в Раю, што нам суждён на грани белых пелён, на грани иных времён. Я глядела на личико девочки... громадные сливы ея глаз, они меняли цвет... становились то синие, то смоляно-чёрные, то лиловые, то зелёные. Лазоревые очи, лазоревые, потусторонние, Эдемские, в пол-лица. Очи глядели на меня, в меня, и сквозь меня; по плечам девочки вились, летели по ветру русые волосы, тончайшие, нежные, нити летние, тёплая солнечная паутина средь зимы; стояла она предо мною в рубище, босиком, в заштопанном дырявом мешке, жилка синяя билась у нея на виске. Девочка держала за руку протопопа, мальчик держал за руку меня, нас четверых заливало молоко белово дня. Девочка, ты чья, спросила я тихо. Девочка звонко крикнула мне: я всехная! я для всех! Аввакум судорожно, как после плача, вздохнул. Тихо ответил: боле не спрашивай ея ни о чём, Она Богородица, только ищо дитя, Она сама об этом не знает, а отец и мать Ея, Иоаким и Анна, опрометчиво отпустили Ея гулять по временам, вот добрели мы с Нею до тебя, дочерь моя, здравствуй, сиротское время дочери моей, как жила ты тут, доченька? Как страдала, али как радовалася, как праздновала, как слёзыньки лила?.. ведь и Ангелы Божии тоже плачут.
Так стояли мы друг пред другом, девочка против мальчика, мальчик против девочки, стояли и молчали. А што же нам было друг другу говорить? всё уже было сказано века назад. Зачем мы встретились на земле? Да мало ли людей встречается и расстаётся! люди встречаются в одном времени, а расстаются в разных временах... мало ли людей друг друга не понимают, шепчу себе, ну, на земле не поняли мы друг друга; так, может, поймём в небесах?
Протопоп ожёг меня глазами, я ждала, што он спросит меня.
Я стояла и ждала. И дождалась.
Он задал мне вопрос, один-единственный.
Скажи мне, дочь моя, како без меня на земле ты страдала и како радовалась, ты и тогда уже дочерью ветра над землёю летала!
Будьто ветер вселился в меня. Ветер обезумел. Он хотел столкнуть с ног, сломать меня, протопопа, мальчонку, девочку Богородицу рядом с Аввакумом, взвихрять снега по Белому Полю, ломать землю, разламывать надвое небеса, ломать и крушить времена. Ветер Раскола! Он пытался оттащить нас друг от друга. Кто был тобою безмерно любим, ты никогда не узнаешь! Века назад ты, несмышлёнка, покинула ево, отца твоево, и ушла за ветром, за радугой!
Я сильно страдала, с голосом не совладала, отчаянно закричала. Я старалась ветер перекричать, Раскол перекричать, чужую волю, што нашу волю гнула, била и ломала. Протопоп, ведай, я так страдала! Люди бичевали мя, шпыняли, прочь швыряли, дразнили, последнее платье сорвали, опять смертно били, мне рёбра сломали и пытались из меня сердце вынуть, моё бедное вечное сердце, што во имя Твоё, Боже, бьётся, што Тебе и огню Твоему принадлежит! Меня обманули, меня прогнали взашей, плюнули мне вослед, крикнули: иди, скитайся по земле, ты нам чужая, ты занимаешь наше место, ты живёшь нашею жизнью, а мы в отместку хотим сожрать жизнь твою, да штобы твои косточки у нас на зубах захрустели! а коли хочешь ты жить, беги прочь от нас! Странствуй, броди, одинокая, по великой земле, но не приближайся к нам на пушечный выстрел: мы одни, и ты одна!
Вот так, протопоп отченька, обидели мя и убили мя, я ушла одна, никому не дочь, не сестра, не жена. Ветер дул мне то в грудь, то в спину, и так я шла, и встретился мне мальчик на пути, он сказал: мя звать Аввакум; я поняла: так то ты, ты, отченька, только малютка, а я... я мать тебе, вот и матинькой на земле родимой я стала, благословенье Божие со мной!
Я схватила мальчонку за руку и пошла за ним.
Или то он меня за руку взял?
Как я могла за тобой не пойти? Разломили хлебом-пирогом, разорвали горбушкой ржаново наши бедные времена. Давай съедим их вместе, сядем на алмазном снегу, у меня с собою за пазухой последний хлеб, я телом грею ево, на, старик, возьми душу мою. Отче, ешь!
Я уселась у ног ево во снег, и пушистый снег облаком держал мя на себе, и не проваливалась я в сугроб, и сел мальчик, поводырь мой, рядом со мной, и наблюдал, как я протопопу хлеб на ладони тянула. Наклонился протопоп, осторожно хлеб из руки моей взял, будьто голубя, вот-вот сей час подбросит в небо, в Солнца свет. Хлеб сам был Солнце и испускал белые лучи. И протопопа старый лик сиял. Так сидела в сугробе. Сел и протопоп во снег, а девочка Богородица не садилась, стояла, весело, ласково глядела на нас. Отломил протопоп от каравая кусок грубыми кривыми, во шрамах, пальцами. Малый кусочек отправил в рот, жевал. Он ел, а глаза ево мне улыбались. Они уже не прожигали мя Вселенским огнём, они смеялись навстречу мне, смеялись от радости и любви. Улыбнулась и я, засмеялась и я, улыбнулся мой мальчик маленький, Вакушка, улыбнулось нам небо, смеялось и катилось по небу белое Солнце, смеялось Белое Райское Поле, где же Райский Сад, молча спросила я батюшку Аввакума, где же деревья Эдемские с золотыми и алыми, сладкими плодами на их ветвях, с мандаринами и яблоками, персиками и сливами, вишнями и крупной лесною ягодой иргою? где всё это, счастливое, мгновенное?.. лишь белизна, лишь чистота, больше ничево. Неужели в Раю больше ничево нету? Ужели в Мiре, кроме Рая, ничево боле не осталось?
И ответил мне Аввакум: да, боле ничево, окромя Рая, нету на земле. Нету, да, нет боле людских войн, и никто боле не засыпает вечным сном; ни над кем боле поминальные слёзы не льют, а есть только Белое Поле, алмазный снег, яркое Солнце, синее небо, крепкий мороз, чёрствый хлеб, твоя улыбка, моя любовь, твоя душа, моё сердце, моё слово, твоё молчание. В том жизнь моя, весь Рай; так цветёт, растёт Райский Сад, так достигаем ево, добредаем до нево, без сил падаем у древняных и многоцветных, мандаринных-смоковных, душистых-ароматных ног ево, немые от немыслимово изнуренья. Не нужны нам ево алмазы и самоцветы! наземь упадём, вверх, в небеса, глядим, разбросаем руки на снегу, а там, наверху, белое Солнце, слепит оно не наши зеницы, а наши сердца. Зачем плакать? Улыбайся! Зачем страдать? Радуйся! Радуйся, дитя моё! Радуйся, девонька моя! Радуйся, Богородица моя! Радуйся, скиталица моя вечная, безконечная! Думаешь, смерти нет? Она есть, но ведь и мы есть тоже!
Он держал на суровой корявой ладони кроху скитальново ржаново хлеба, улыбаяся, нежно и слёзно глядел на меня. Богородица обжигала широко распахнутыми небесными, прозрачными очами белую ойкумену нашево Рая. Гулял, пел ветер. Я вздохнула, хотела вымолвить слово, да молча вылетело оно, вдохом и выдохом, из бедной моея груди, и нежным шёпотом, сама не услышала ево, воссияв во облацех, пропела синяя птица широково неба, раскинув над нами широкие лёхкие крылья: ЛЮБЛЮ ТЕБЯ.
***
(Победа)
Люди мы победили мы нынче во славе и силе Мы жизней отдали много за наш народ нашего Бога Расстреливали пытали сжигали и бичевали А мы в небеса шептали жив Господи ты жива ли Платили мы за Победу последним бредом и жаром и волком идущим по следу а вы-то думали даром Ну вы враги расступитесь Победа идёт сияя ступает по снегу витязь Победа она живая Вы сгинули злые люди ты сгибло чёрное племя Несёт нам Солнце на блюде Пречистая - надо всеми Вставайте все на колени помянем павших героев Огню иных песнопений я музыки дверь открою В земле подо льдом и снегом сражённые тихо спите Как трудно быть человеком зерном во Божием сите Мы этот Раскол незрячий силками любви сшиваем Там кто на могиле плачет и мёртвые мы выживаем И мёртвые взводом ротой шеренгою и колонной встаём волною народа земное разверсто лоно Земля родная с тобою полынь горчащего слова Земля нас отдаст для боя последнего неземного А песня-то льётся кровью и кровью слова застыли Войну последней любовью люди мы победили
***
(Аввакум, я и Псалтырь)
- Помилуй, Господи, помилуй всех, помилуй плач наш, помилуй смех. Все мы в недоумении пред жизнию нашей: варится яко снежная каша. Молитву Тебе творим: на каком языке? Да зверем ли, Ангелом ли возговорим, грешники, Адовы приспешники... В какое лукошко грехи собирать незримо, не понимаем, а лишь Тебе ночьми не спать, лишь на Твоих глазах, Господи, помирать. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякое мгновение, всякий час, даже когда мы, люди, забываем Тебя. Што глядишь, отченька Аввакуме? вот такая судьба пророка, таково твоё торжество. А может, я и есть пророчица, а мои снега за мною горностаями волочатся, а небо не храм Господень мне показывает, а небо пояс мой ромашковый развязывает... а небо вдаль горе швыряет моё, но морозе с вервия сорванное бельё... Ангелы Божии ликуют, мя прямо в щёки алые целуют! бормочу все молитвы пред битвой, пред кровавой ловитвой... Господи Христе! управь Ты в Мiре нашу кончину и наш живот; а до свадьбы ужас наш заживёт, поём Тебя, Аллилуйя, Аллилуйя, слава Тебе, Боже! А где же Богородица, Господи, твоя? вот человеки простые смирно стоят, а вот стоят святые, и как отличить? а Богородица всем Заступница. Где Божия Матерь, где белое узорочье, камка-скатерть?.. не проклинай нас! Радужный венец, самоцветы, инда огни небесные, играют, и всяк из нас пред очами Твоими, Пречистая, помирает... При Тебе, Мать, век обитает душа моя; а кто такая я? зачем на земле, для какого незнамово бытия?.. выжимает баба на речке исподнее мокрое... в корзине ея моток вьюжново белья, клубок снежново бытия... а в лесу за спиною - торжество зверья, песня бедново соловья... единая, Благословенная, на мя гляди, очей не своди... Сево дня пробил час, кому уходить со земли в первый раз, кому уходить в последний раз; больше не вернёмся. А чем клянемся? душою, сердцем, болью, любовью? Господи, Царю Небесный! приникни к моему изголовью! А в изголовии у мя метели, снега, поля, спит под покровом смерти звёздная Матерь-земля. А по весне она оживёт, заклубятся зеленя-дымы, защёлкают птицы, зазвенят ручьи, любимые мои, весенние... под златыми деревьями осенью буду стояти, плакать, молиться, в небесах наблюдая любимые лица. Господь и Богородица! так плачу при народе я, а ты, Аввакуме, про што мыслишь, про Троицу Святую? целуй образ ея, и я поцелую... спой мне песню, яви любовь твою... А я постою у твоей любви на краю.
- Милая деточка! душа моя по тебе болит. А тебе песню сию говорю: да осенит тя Всесвятая Троица рукою своею. Боже великий, Царю Мiра всево! лети, пари над нею, над девчонкою малой, над бабой безумной, над старухою, што ковыляет по дороге, сбивая ноги в кровь: где ты, где ты, любовь? О ней лишь пекуся и рыдаю я. Она вся жизнь моя. Не кончены, Господи, дела мои на земле благие. Вот девочка эта тихо идёт по лугам и полям, идёт, весёлая, ромашка, сорвана прежде Раскола... василёчки во ржи вспыхнут-сгаснут, нежные, синие... идёт, неприметная, а такая красивая... девочка сия есть книга; открою тебя, Святый Дух устами твоими глаголет, аз, недостойный, гляжу на тя, припадаю к тебе, у тебя, дитя, помощи прошу, едва дышу. Господи, не отними ея от меня! она ведь мне язык вечново Огня, она язык мой и мой народ, я без нея никто, железный лёд. Народ веселится: новые казни! бежит на площадь, глядеть без боязни. Кто готовится на творение добра, а кто в застенке плачет до утра. Кто ловок цепким умом, просвещённый, а кто с родины изгнан и навеки непрощённый. Господи, да Ты ведь простишь всех грешников Твоих! замер их дух, занялся их дых! ныне, Владыко, благослови всех! воздохнул ветер... сердцем вижу смех... сердцем слышу боль... сердцем Царю поклонися, Царю Космосу! музыкой мощной встал на пути... все самоцветы в короне ево сочти... Знаю наизусть, ведаю каждый алмазный цветок, узнаю смарагдово пыланье без дна, а девочка, она не Царевна, она идёт одна, одна плачет по всех, яко вся страна, страна от Раскола, слышишь, устала... сотвори всё сначала! Пусть народ песню едину споёт! Реки блаженно из Ада в Рай текут, любовью согреты... Ты отправь, Ною подобно, птичку в полёт: лети, дитя, на все стороны света! Ярко птичка сверкает крылами, хвостом... летит на этом свете, на том... ледоход твой, ледолом, нынче и навсегда... людские рыданья... разрушенные, сожжённые города...
- Погоди, родной, постой на краю! дальше не ходи, отченька мой, боли прибудет... не ходи к этим людям! Они убьют тебя! Не становись на пути грешных; хоть ты огня господин и чист пребудешь в Мiре один, тебя всё равно смешают с грязью. Ты же древо! Ты раскидываешь ветки, под тобой поёт вода, утекает без следа, на руках твоих висят плоды, плоды твои золотые... во имя воды, во имя беды, живые цветы... дай сорвать... А время ищо не пришло... дай мне надежду... а это хрупкое стекло... лист опадает, лист по ветру улетает, гляди на мя, отче, пока время тово желает... Ты же мя учил: нет времени, нет! на всё у тебя был один ответ! ты сказывал: мы варимся в одном котле, в одном небе, на одной земле, а Царь Космос только глядит на варево, на жарево, на струение крови, лжица в ево руке наизготове, а нож во другой, и то скипетр и держава. Трепещите, нечестивые, жалкие, несчастные, яко прах, подхватит вас вихорь от лица земли, помнёт, согнёт вас в колесо, бешаная буря взметёт и бросит, изошедших ложью и злобою, на Суд. Грешники! Да вы же тоже жить хотите! Прости их, Господи, не ведали они, што творили, не ведали, што прорастает свежая трава на забытой могиле... Скажи им, отче, штобы повёл Господь грешников путями праведными, и не вернулись они на пепелища свои. Молюсь: да погибнет зло! и жалко мне зло, и больно глядеть на нево, и понимаю: злые люди полынно, горько живут на земле, страдают. Успокой их, яко лекарь, знамением крестным их осени, продли их дни, не обмани.
- Шатаюсь я по земле, дитя моё, таково моё наказание, такова моя награда. Ангел рек мой в ночи об том, што не стану никогда я земным Царём. Да и не хотел тово делать вовек, да и не вправе ни по рождению, ни по чину, а князья да боляре сбираются округ мя, а Царь смотрит на мя исподлобья, дарит своей нелюбовью. А Никон? это же мой шабёр, мы вместе, мальчонками, видали лес родной и снежный простор; на салазках вместе с горы катались, салазки под нами трещали-ломались, Мiръ для нас раскрывался снежным городком, алмазным теремом... Живый в помощи Вышняго надели родители на нас чёрные пояса; а там письменами древлими золотится краса: молитва развышита, бабки наши ея вышили, штобы внуков, нас, от беды спасти и сохранить. Господь не только добр, но и сердит, Господь умеет и гневаться, и смеяться, зрит грех человечий Господь, и ништо тайное, злобно сотворённое, не отвертится от Нево; яростью Своею сметёт Господь с лица земли народы, грады, веси и нас, грешных. Вот я стою, а предо мною Царь, Царь земной; а гляжу и вижу Царя Небесново, и вопрошаю так Царя живово, Алексея Михайлыча: где ты сево дня стоишь? Мнишь, во дворце? Ты ведь стоишь посреди Руси. Изреки слово мощное, крепкое, каковое изрекает с небес Господь, прогреми громом с молоньёй, роди нам наше грядущее, где смерти не будет. А Царь мой так ответствует: я не Господь, ты мя просишь, а я не в силах исполнить просьбу твою. Держу я в руках скипетр, жезл железный, позолоченный, держу державу круглую, яко ягода лесная, яко яблоко тяжёлое в зелёных ветвях висит, жарким летом поспевая. Земля наша! Созрела, поспела! К чему? к смерти? Не могу я народ мой судить и рядить. Не судия я ему. Неподобный я Царь, видать. Работай, Аввакум, Господу нашему со страхом, и радуйся ему с трепетом сердца. Я для тебя яко Господь, тако рек. А я ему: неправду баешь, Царь-Государь! не ты, а Господь надо всеми Царь; Он тебе прикажет, и распрощаешься с жизнью; мне прикажет, и я погибну. Я хочу быть праведником, но не всегда им быть смогаю, и разгорается надо мною красною печью ярость Господня. И все мы блаженны, кто надеется на Бога нашево, это одно, што нам на земле остаётся.
- Господи, ты видишь нас тут вдвоём. Господи, зима объяла нас. Стоит и мёрзнет отче мой, отченька Аввакум. Народы восстают друг на друга, народы восстают на Господа своево. Нет спасения от войны али змеи; нет спасения даже в Боге, ибо слаб человек; и всё равно мы к Нему припадаем, к Заступнику, к Ево любови, к Ево славе. Он возносит нашу главу во скорбях; Он поднимает нас, жалких червей, до небес. Небеса святочные! Небеса Троицыны! Небеса Рожествены! Небеса Покрова! Сколь праздников на земле, сколь голосов ко Господу нашему взывает, и слышит Он нас в горнице небесной Своей! Устанет Он, яко человек, и возляжет почивати, яко человек, а потом восстанет, и я встану. Раскрою глаза и увижу в небесах Господа моево. А на земле, отченька мой Аввакум, не убоюсь злых людей; люди хотят напасть на мя, пожрать мя, убить мя, но благословляю я зло их. Воскресни, Господи, сево дня, яко во Пасху Твою! Ты каждый день жив! Спаси мя! И не только мя, Боже мой, спаси, а порази всех враждующих, всех воюющих, копьём любви Твоей! Хищные зубы грешников земных сокруши, руки-ноги, рёбра и лбы их в кровь разбей, а опосля поцелуй, брашно протяни им на ладони, пусть вкусят Тело Твоё и прослезятся от счастия. Ежели есть наказание Твоё, так есть и прощение Твоё; есть спасение Твоё и есть благословение Твоё.
- Милая деточка, дитя моё! Это ведь Господь призвал мя однажды! я не предам Ево, я повторяю правду Ево. Я с радостью претерплю боль мою и страдание моё ради Нево. Воля Ево не знает границ. Он слышит молитву мою. Дитя моё! вопроси грешников: доколе пребудете вы злобные, ненавидящие? тяжелы ваши каменные сердца. Вы ищете лжи там, где сокрыта правда. Дитя моё милое, Господь услышит мя! Всегда взывай к Нему, Он наш общий отец. Ты можешь гневаться, грешить, непотребничать, рыдать и хохотать во пьяных кабаках, но поднимешь лице своё ко Господу, узришь Ево в облаках и пред Ним покаешься, ибо нельзя человеку без покаяния. А правда больней калёново железа. Правда, то жертва. Правдивых не любят, правдивых бьют и гонят, и толпа вопит тебе: прочь!.. и ты идеши прочь. Господи, пошли с небес веселье в сердце моё! хочу с робёнком, доченькой моей названой, вкусити от плодов земных; вкусить хлеба из чистово зерна, изо пшеницы наливной, отпить сладчайшево вина, умастить хлеб елеем, и елеем же чело своё и уста голодные, дрожащие помазати. Я хочу, Господи, уснуть так, штобы под Твоею улыбкой проснуться птицею во гнезде, и улыбка Твоя станет мне в радость, даже если пробужуся в слезах. Пусть лице моё всё будет залито слезами, я знаю, што есть Ты, и мне тово довольно. Дитя моё! Радуйся вместе со мной.
- Я не знаю никаких слов, я говорю сбивчиво, прости, отец. Прости за безумие моё. Господи, разумей мя, ибо я сама себя не разумею; внемли гласу моему, молитве моей. Я молюсь Тебе утренне и вечерне, ежечасно и ежеминутно. Когда говорю завтра, это значит, я говорю: завтра Господь мой узрит мя. Когда говорю вчера, понимаю: вчера Господь мой помог мне и поддержал мя. Ты не хочешь беззакония, ты не желаешь лукавства; пред очами Твоими встают Твои люди: кто набедокурил, кто обманул, кто жестоко друга убил, кто повёл на соседа огромное войско, и реки крови опять воедино слились. Где закон? А где беззаконие? Я всево лишь простая девчонка, я не знаю, как глаголати мудрость. Зато я знаю, как льётся кровь округ мя; она лилась и у мя, из раненых рук, из прободённых ног, лились по лицу солёные красные слёзы. Господь, прошу милости Твоей! храм Твой дом; поклонюся святому дому Твоему. Претерпел Ты много страстей, Но прошу, наставь неразумное время великой, неизбывной правдой Твоею. О, враги! А што враги? Враги всегда были, есть и будут, и хотят отверзнути уста, штобы слово вытолкнуть наружу, в жестокий Мiръ, да не звучит из уст их истина Твоя, Господи, ибо сердца их суетны, и, яко гроб повапленный, отверста древняная глотка их. Искусно умеют они мстить, умеют лицемерить, лицедейно могут притворяться тем, чем не являются они; только Твой суд Божий над ними. А я, кто я такая? несмышлёнка, безумка, то ли девчонка, то ли старушонка, иду по земле, вдыхаю ветер, не стараюся никово огорчить, уповаю на Тебя. Возрадуйся, Господи, на небесех! Всели чюдо Твоё в мя, и буду похваляться я милостью Твоею. Благослови мя, грешную, как благословляешь праведников радостных во Светлый Праздник Твой. Я позади всех праведников, малая, грешная, тихо во храме встану. Повенчай мя благоволением Твоим; увенчай мя звёздным венцом.
- Господи, не гневайся на мя, Господи, не выказывай мне ярость Твою! довольно Ты наказывал мя гневом Твоим! молю, помилуй мя сево дня! Господи, я немощный, я слабый, исцели мя, Господи, от великого страдания моево! Я люблю: вот моё страдание, я дарю себя людям: вот моё упование, душа моя смятенная, доколе мне так мучиться, рядом со мной девочка, а может, старушка, нет времён пред лицем Бога, и для нея рядом со мной тоже нет времени; обрати, Господи, лик Твой к нам, избави душу мою от сомнения и тьмы! Спаси мя, уповал я всегда на Тебя. Любимые мои со мной. Настасья, жёнка моя, болярыня, питомица моя, и вот эта девочка, имени ея не знаю, Господи, знаю только одно: когда помру, она одна придёт на место казни моея лютой, на кострище, мой пепел сбирать. Сберёт в мешочек, ею пошитый, в кисет холщовый. Держит мою смерть; да в ея руках смерти моей нет. Она исповедует мя Тебе, Господи, живыми, нежными устами своими. Она единственная, Господи, воздохнёт обо мне ночами. Не приходит ко мне сон, не посылаеши ты покой мне, Господи, а посылаешь слёзы одни; и постелю мою и подушку мою, што под головою у мя снулою рыбой лежит, слезами моими омочу, и вмиг мокра холстинка, инда в реку подушку окуну. Такова она от слёз поутру мокрая. Пребывал я в ярости в жизни длинной, бывал я зол и гневен, многажды в судьбине я нагрешил, со врагами моими люто сражался. А теперь не хочу сражаться. Отступите от мя вы все, што творите ужас, гибель и беззаконие, ибо слышит Господь плач верново сына Своево, слышит моление моё. Детонька, ты слышишь? Бог мою молитву принял в сердце Своё. Да устыдятся нечестивые, и зальются краскою стыда все враги мои, да опустят долу лица свои, да заструятся из глаз их слёзы, якоже и у мя безсчётно струятся. Слава тебе, Боже мой, Слава тебе.
- Господи Боже мой! Спаси и сохрани отца моево Аввакума, вложи в ево десницу правду, а в ево шуйцу оружие, коим он зло победит. Избави ево от врагов, даруй ему жизнь вечную; ему суждено умереть, как всем, да Ты воскреси ево, Господи, чем хочешь воскреси: гневом Твоим, любовью Твоею! Восстань рядом с ним, Господи, ведь он мой отец! Муж, сын, брат, исповедник! В Духе ли, на земле, в небесех - равно уже мне! Ты, Господь, судишь людей; суди мя как хочешь, накажи, казни, а ево, отченьку моево, оправдай! Я знаю, Господи, Ты не умеешь злиться. Днесь кончается злоба грешных, но испытай, Боже, праведника Твоево. Испытай ево сердце, ево утробу, ево мысль, ево дух; вынослив он к морозу и жаре, и казни не страшится. Обласкай ево! Забери ево, Господи, от смерти, како повелел ты ученику Твоему любимому: хочу, штобы он пребыл, доколе Я не прииду; и тогда мне, девчонке, не страшно будет умереть. Зачатие, страдание, болезнь, роды, распрю, замирение, погребение - всё я видала на земле, чрез всё прошла. Все мы сойдём в ямину земляную, но отца моево, Аввакума, пощади: ведь он не только слуга Твой, Господи, он тайный Царь Мiра, он и есть Царь Космос, это я Тебе, всевидящему, тайну сию наново открыла. Дай мне знак, Господи, што Ты услышал молитву мою.
- Господи, я давно уже превыше хвалы и хулы. Равнодушен я к великолепию земному, но люблю я, Господи, великолепие Твоё превыше небес. Старик я, а может, младенец, гляжу на врага, а вижу в нём родню. Гляжу в небеса, вижу там дела духа Твоево, Господи, и рук Твоих рабочих. Луну и Солнце, звёзды и земли иные, ведь это ты их родил, а человека помнишь? первово на земле человека помнишь?.. как Ты любил ево, рождённово из праха, из глины, и как Дух в нево вдувал... помнишь? как выделывал Еву из Адамова ребра, помнишь?.. как венчал смертное чело то царством, то убийством? Овцы и волы и ослы человечьи, скот весь человечий, птицы небесные, коих человек приручил, в клетку посадил, в сарай; рыбы колючие и усатые, и со златою чешуёю, и в костяном панцире, и во пятнистой парче нежной кожи, што проплывают по долгим рекам из царства в царство, из водоросли в водоросль, из хрусталя во хрусталь, и ловит их человек, штобы уху в котле на костре сварити, на чугунной сковороде белорыбицу в масле изжарить; всё живое движется, стремится, дышит, наслаждается и издыхает, хоша и от руки человека, рыбаря и охотника, да под незримою сенью длани Твоея. Чюдно имя Твоё, Господи, по всей земле! Взираю ввысь, на звёздную славу Твою, хочу быть пред лицем Твоим праведником, да тяжко то даётся душе. Мышь я пред Тобою, букашка мелкая, рыбья чешуя со хозяйкиново ножа. А где главу преклоню я, грешный, то зной, то хлад, а я всё иду, иду, Господи Боже, открой мне объятья Твои! Ты видишь, согрешил я пред Тобою. Но я же и покаялся. Девочка рядом со мной. Какое счастие, што она рядом со мной. Ведь она, Господи, мvроносица Твоя. В руках, на морозе красных, огонь несёт. Ярко огонь светит, далёко. Так виден Дух Твой, Господи, что Ты вселил в нея. Она не спит, бодрствует, она наблюдает звёзды небесные, наблюдает ход Луны; наблюдает, как сплю я, усталый, при дороге. Сказано было во Святом Евангелии Твоём, Господи: бодрствуйте и молитесь; часто молчит доченька моя, сомкнуты ея уста, молится она неслышно, я читаю письмена ея молитвы во сне ея. Оба мы, Господи, воссылаем Славу Тебе: Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.
***
(тёплый хлеб)
Мы втроём шли по дороге, снег едва сошёл, трое нас, монашка из ближнего монастыря, баба, многодетная мать, двух малышей на руках держала, а шестеро, или пятеро, не помню, нет, вроде шестеро за ней бежали, ну, и я. Монашка говорит: батюшку нашего, из храма Симеона Столпника, вчера казнили. Я спрашиваю: как, кто? Она сказала, что распяли и сожгли. Я говорю: так я того батюшку знаю, я видела, как его казнили. Монашка мотает головой: как это ты видела, всё ты врёшь, как могла ты видеть, а я ей: вот так и видела, я там была, и меня самоё там чуть не убили. Тут баба оборачивается ко мне, у неё лицо белое, как простыня, и говорит страшным голосом: так это же, девочки, муж мой, я же попадья, мужа моего вчера сожгли, и говорит, где, там-то и там-то, и на детей показывает, так это вот наши дети. Я так и ахнула. А монашка так же шла вперёд, только лицо у неё стало такое застылое, как изо льда. Потом она губы разлепила и говорит: батюшка за веру пострадал, он теперь святой. Мать многодетная, ну, попадья, идёт, ревёт, лицо ладонями утирает. Детки за подол её хватаются: мамка, мамка, не реви, ну что ты! Мы же все у тебя живые! А одна девочка идёт и плачет, как мать, так горько, слёзы всё текут и текут, носом шмыгает, потом говорит: мамка, а батя теперь на небесах, да? Да, Грунюшка, да, рыдает мать, а монашка лезет в заплечный холщовый мешок, достаёт оттуда круг ситного, шепчет: ещё тёплый, ломай и ешь, не стесняйся. Ешьте все! И мы остановились все и ломали тот хлеб, и правда, он был тёплый, будто только из пекарни. Я сказала: давайте знакомиться, бабы, что ли. Мать сказала: я Настя. Монашка сказала: я мать Феодора. А я стою, молчу, жую хлеб. Настя спрашивает: а ты что молчишь? У тебя что, имени нет? Я сказала, как меня зовут, и тут начали стрелять, и мы побежали, а дети заорали громко, бегут и орут. Никому не хочется умирать, вот никому. И никогда.
***
(Исповедь моя. Демество)
Песнею распотешу вас малиновою, птичьею, зело зимними фьоритурами изукрашенной. А то и посконной, железной, опричною, суровым, на ветру, стягом башенным. Я творила мои деяния - непотребная, невеждная раба Божия!.. - а нынче Демеством на покаяние иду по Времени, инда по бездорожию. Отцу да Сыну, каюсь, не весь век поклонялася. На чужедальнее, дрянное веселие зубёшки скалила. А вот оно, житие, - было-было да тихонечко истончалося, да душа с телом незримо расставалася, да то мне на ухо не наборматывала, мя не печалила. Ах, паутина судеб!.. Арахна тя вяжет усердно, со крыши крыльца гирькой свешивается. О, полынный мой хлеб, горчащий жёлчию рыбною... Я сама себе - в небеса - злачёная, шаткая лествица, во Иаковом сне живая, не погиблая... А эта музыка... што она?.. она во мне гудит, изначальная. Она таково же сильнейше гудела красною печью и при моём рождении. Да што там - при зачатии, я зрела ево, беспечальная, как зрит хозяин зерно в повети, голубя в клети, хворое наваждение.
Вся внешняя хмарь, людие мои, ничтоже суть. Я тихо бредуща к обрыву моему, а сама то в Эфесе, то в Афинах, то во Стольном Граде живая, невредимая. Везде живу, да всех люблю, побивают мя как-нибудь, а я лишь утрусь: боевой я гусь! - да и мимо, мимо я... Узнала-уведала слишком поздненько я, што в Мiре есть и тля, и прельщенье-пагуба, што проклинают иные горлышко соловья, обламывают твои кровеносные ветви-паветви...
А то любовь, мои милые, слух склоните, моё Демество, то мои крыла, перо к пёрышку, разлетаются! Вширь и вдаль, ничево не жаль, влет и ввысь, громче молись, твоё торжество, - да в колодец лица моево не глядите, ведь не святая я! Не со скиптром в руке! Не с нимбом златым на башке! Не на арфочке нотой душонка играется! А тает мой велий слух, а пою-восклицаю за двух, а жизнёшка моя на ныне и присно и во веки веков - разымается...
Было дело - робёнком кудлатым жила. Всё по улкам каталась, созвездьева мгла. Всё салазки визжали по морковному снегу полозьями. А шубёнка - кочан!.. а орала я по ночам!.. то музыка мне глотку жгла мотивами грозными... Солнце во мрак претекало, и во кровь - Луна, и у матери я моталась одна, и в полудне в зените зрела я звёзды чернеющи... адаманты - потом! и потом суп с котом!.. это зелье из ложки, над бредом и жаром реюще...
Не желала бы я моё детство вернуть, да ведь всяк из нас пускается в путь от той печки, што дровами топится, а книжонкой - в войну, инда клонит ко сну, враг-то жив, да Господь не даёт озлобиться... Нет! всё вру! детство, дом мой на слом! вспыхни ты Демеством! Мне пропой всех пропойц напевы дурманные! Спит отец на дне хором под хором икон... на столе голова... дремлет, водкой спалён, а я зрю, зрю сны ево пьяные...
А затменье Светила?!.. мы видали тя, небесная городьба: во сугробах стояла голь-голытьба, лица голые к небу закинула, сквозь копчёное грязь-стекло мы видали: оно во Тьму ушло, опосля себя само изо Тьмы - Светом вынуло... Завопила детва! То-то радость жива! Прорастает травою сквозь сребряные противни-наледи! А я прыгаю выше всех, и поверх сугробов летит мой птичкин смех! Сквозь бычий пузырь, чрез телячий Псалтырь бедной, нищенской памяти - разгляди ты мя, бредущу голомя, хлебом военным летящу - одним на всех...
Я заблудша звезда. Я собой не горда. Вот лечу-лечу, а вдруг в мя выстрелят? Я во главе шествия вставала не раз: громок глас, меток глаз! Громче всех голосила, неистово! Вот однажды плыла Волгой-рекой, на закате злачёной, непомерно баской, а лодчонка к расшиве нашей осетром приклеилася, жерехом; а тут бысть великая Тьма, да мы все чуть не спрыгнули с ума, да на стрежне якорь швырнули, не доплыли до берега... Заслонила Солнце Луна. И помыслила я: жизнь одна, што же люди сами противу себя бесятся? То друг друга - в тюрьму... вдругорядь на войну... оттово гладно-хладно им, невесело... И взмолилась я на палубе той: дай насытиться нам красотой! Дам нам, Боже, любовию насладитися! Не исцелю взглядом ли, рукой, не пребуду святой, ни царицей морской, да вы напевы мои, может, людям через годы - сгодитеся...
Солнца знамение нежной глоткой пою я. Аллилуия, Аллилуйя! Дальше, дальше бегу по распеву я... Солнца мне не остановить. Вяжу, вяжу луча ево нить. А враги наступают, их тысящи. А Силы Бесплотные возглашают напев, вон они, во звездах, Орел, Змей и Лев, и справа Господь, и замерла слева я... Славословье моё - вот моё бытие! Песни - воробьями летят меж святынями! Я от музыки с ума сошла. Я на музыке ела, на музыке спала. Я рояль мой гладила, била ли, не упомнить уж... сонмы огненных душ надо мной махали звёздными крыльями... Я молила родню, все сильней день ото дня: ах, вы музыке учите меня! Буду петь-играть вам, душеньку тешить, не пожалеете! Не восплачете о сожжённых напрасно годах!.. Снарядили в путь мя. Слёзы - ландышами - в очах. Прощевай, лети-лети, соловеюшко...
И во Стольный Град полетела я! Обняла мя там вся моя семья: нежнострунные арфы, скрипочки нежнобокие, дудки - слёз им не жаль, и громадный рояль, струны - рыбами, море - глубокое... Вами сыграю Мiръ-Войну! Не пойду я ко дну! Расстреляют-убьют - возвернусь, хоть на пять минут! Хоть на десять снежных минуточек! Ноты плыли подобьем - за уткой - уточек... за гусыней - гусят... вот смеху-то... а плыла я - за человеками?.. ой, за звуками... ой, за нотами... за сияющими заплотами...
Это царство моё... государство моё... тот Престольный Град... не вернуть назад... куполов нотный ряд... скрипки ключами горят... вьолончели жалятся... льются слёзы меж пальцами... с висков капает пот... музыка, древлий плот... перевези мя на тот брег, страдалица...
Это царство любви... да не слышите вы... уши, очи замыкаете ладонями плотно вы... Красный Кремль весь гудит!.. там наш Царь сидит... над землёй нашей неисходною... Отец, Сын, Дух Святый... а ты кто ж такой, богатырь?.. каково ко скоморохам-то - властным регентом?.. неисследно так... непотребием... да не правдою, а лжою ржавою... над терпельницею-державою... Ах ты, Царь ты, Царь... Я звучащий твой ларь. Я неслышная твоя музыка. Не услышишь мя никогда. А мне орут: какие твои года!.. покичишься ищо жалью-мукою... Над доской застынешь, разлетишься блинной мукой, напечёшь блинов горелой тоской, да нажаришь постных оладий - там, вдали, за рекой... новый Царь - там, за тьмой... в окоёмном том непроглядии...
Царство, это ведь Бог! Да не затвержен урок. Да все хохочут, глумятся над Боженькой. Сколь церквей снесено. Сколь колоколов на дно... мя туда ж норовят, тюремку, остроженьку...
Непостижна я сама себе. Ненавистна всякой гульбе-ворожбе. Распоследняя да пресущная. Алчущему - горбушка насущная. Вам воздати, преступники, не могу: прощаю моему врагу, как Исус на Кресте прощевал разбойнику. Вы простите, што не всегда весела, што часто примолкшая, грустная, да то по ушедшему печалуюсь, по дорогому покойнику. Ты, Царь земный, не отверни лица: Господа Царствию нет конца! Давай шепчи: да будет воля Твоя, Отче наш! Я-то верую, с тем и умру, ребятушки... А жемчуг на груди, речной маргарит, мне о счастии призрачном говорит, не выдашь и не предашь, - так пущай стану на Времени моём лишь стежком, лишь заплатушкой...
Во Граде Первопрестольном таково часто родину воспоминала еси... Не проси, слышишь, бессмертия, не проси: вот оно, уж при жизни тебе, грешной, дадено - неоглядные дали, сребрится река, холодны ея богатые рыбы, песчаны холодны бока, а сколь по ней ищо не поплавано, вод-земель не оглядено... Отец питьё хмельное в себя вливал из горла, а матерь моя такова праведница была, за иных молилася, больных уврачующе, страху Божию бабка учила мя, и однажды смерть упала предо мною плашмя - увидала я за столом Бога пирующа. На странице ломкой, жёлтой старой Библии сей... увидала, от счастия враз окосей, ты, робёночек, ты, дитёночек... да запомни: Тайной Вечери круглый пирог, всяк не одинок, только Бог одинок, а тя в жизнь вынимает из смерти пелёночек... Да гляди: Святой Вечери ягненок на блюде, да вино разливают упрямые люди, а один, бородатый, очи светят, опять один - то в жарище несносной, то в лютой остуде, посреди родов, похорон и годин... Я застыла над страницею, глядела на Бога: Он взирал на мя счастливо-строго, будто из окна за решёткой острога, а я пред Ним выловленная из речки сорога, дитёнок безрогий, ну гляди, погляди же ищо немного на лик Ево, Время мимо движется, недотрога, нежное, предвечное Демество... А на блюде ягнёнок лежал, все рёбра насквозь, жареные ножонки - копытами врозь, мёртвые глазёнки незрячие - наискось, и я не сдержала ребячьих слёз, слезами залилась, земной крохотный гость... И што же, што же, што же, што ж?! берёт Апостол кухонный нож, и мясо режет, как Времени ход, а Бог на Крест себя волокёт... А Бог Крест на Себе волокёт! За Ним и мимо - течёт народ! Влачится, гогочет, лишь пальцем ткнуть: это, плюют и скалятся, последний Твой путь! Эти гравюры... всё дальше ползли... листала, рыдала, на краю земли... а тут матерь притекает: ревёшь опять?! Отдай же Книгу! рано боль сыскать! Рано в страданье таковое глазеть - ищо намучисся, изловит сеть! Ищо тя, рыбу, ударят по башке веслом... крюк из губы выдернут... отскоблят чешую над котлом...
Все звери и птицы, мучились когда, все были мне - спицы под вздох, под ребро. А Время было мне святая вода: я пила ево и училася творить добро. А как было, молвите, творити ево? неслышимо, невидимо? или прилюдно? я видала, как спасатели - спасеньем кичились, хвальбу дарящих слыхала... А мои крюки, пути и знамёна пелись детскою глоткою многотрудной, а мне подкупольной музыки всё мало было, мало, мало... Всё мало было подберёзовой и поднебесной, подснежной, подзвёздной мне музыки, сумасшедшей! И росла я девчонкой слишком доверчивой, чересчур нежной, ни кожи ни рожи, беззащитна, совсем без кожи, то и дело смешно рыдая над жизнию ветхой, прошедшей...
А музыке выучившись, я взяла да и вышла впервые замуж. Та, коей монахиней быть суждено - взяла да в брачну постель увалилась... И нас, там, на нищенском ложе, укрывала колючая заметь, густые снега валили, Большой Медведицей в небеси таяла милость. Ах, милость моя, любовь, сколь тя есть неиссчётно!.. Ищо не ведала, сколь твоих знамён воздыму, разберу вслепую дрожащих знаков... Ах, мне бы стать, родная, небесной, бесплотной, штоб не биться рыбой об лёд, штобы просительной ектеньёю не плакать...
А любовь мою, яко мёртву скотину, однажды я увидала погибшей: когда на пороге кухоньки муженёк мой, Орфей, агнец заблудший, в руце нож держал, да на мя так взирал, што умерла б я тогда лучше... Он скатился с ума. Ево поглотила тьма. А я на свету, на виду осталась. И жизнь мою я б тогда отдала задарма - да не возымел никто к судьбе одинокой жалость. И стояла я во Времени, прожитом на треть! И шептала: лучше б мне умереть! А не той, не любови моей, одинокой скотинке... Убредали люди в туман, то красавцы, то страшней обезьян, и по них, остановя дых, я справляла, справляла поминки...
А потом... што потом? Баба я, мне не быти попом. А ушла б служить во храм с наслажденьем. Вот веселие - в праздник Двунадесятый у налоя стоять, петь возлюбленной Богородице исполать, да следить в окно, пока не темно, за весенних листьев рожденьем... Мой рояль! чёрный мой плот! Али белый, кто разберёт. Выгребаю, руки-вёсла бросаю, вонзаю в музыки океан, и от музыки моея кто трезв, кто пьян, а я, людие, не играю - я музыкой - выживаю... Вот! живая! Бога живаго зрю! Все округ умирают - а я в ноты-букашки смотрю. О, рояль, моё Демество, да ищо орган! Деревяшки липнут к ногам... педаль жму, все жму... забываю... ни сердцу, да ни уму... только там - над ночными чернозёмными мануалами - увидать златую зарю... Гул безумный. Рваново сердца гуд. Я играю тех, што завтра умрут. Я играю всех, ныне живых, живущих. Счастливы дьякон, игуменья, иерей. Я ж стою, всё стою у дверей - у теремных, у тюремных, у храмовых, у бедняцких, тихо стуча, хрипло зовуща. У монастырских врат стою: на тебе, монастырь, возьми же судьбу мою! Не желаешь?.. черства, што ль, слишком, ржаная коврижка, я на зуб твоея трапезы?.. ночь и боль... я в Мiру живая обитель, перекатная голь, в зимнем Царском поезде - подмышкою книжка.
Прошло десять и двадцать и тридцать лет. Я всё слышу голос. Я всё вижу свет. Соблазнялась, што греха таить!.. и грешила... што скрывать? Разве от Бога сокроешь праздник и боль? Наслаждаешься тайно - а Он-то с тобой, колет мешок сердчишка твоево острейшим шилом! Шёпот тихий: а ты не греши... не греши... Осеняет Луна равнины души. По снегам одичалым, росомашьим - бочонком катаюсь. Это Волга моя и моя Сибирь. Моё яблоко это и мой имбирь, мой голодный паёк: не отломила несчастному, каюсь, каюсь.
Нет! отламывала! и тянула: ешь! Пробивала кулаком во груди моей брешь! Шкурой-рухлядью по насту ночному пласталась! Побеждала плотску тягу - пытальным огнём. Пела песню о Господе - да, о Нём, все о Нём! Ко зверям-птицам, собакам-синицам имела Божию жалость! В селе б жили - корову бы завела... так доила бы, звонкие вёдра, подойник наперевес... творила творог и сметану... Тьма возлюбленных промчалась, яко ураган. И судьбина сама повалилась к ногам - малеванец, охотник, рыбак, от мя, как от браги, пьяный.
Обвенчались мы в церкви... помню аки сейчас: в руце охапка цветов, храм во сумерках - старый карбас, платье у мя белым-бело - больничная смешная марлёвка... белый плат через лоб - вместо фаты... да, вот эти полевые цветы, цветы, всё ромашки, гвоздики, цикорий синей небесной ковки... А над нами купол таял в дыму. А над нами - несказанное: никому. А над нами гундосил радостно батюшка Димитрий, улыбался беззубо: "Исайя, ликуй!" - испускал сотни, тыщи радужных струй из кадила своево дремучево, из пламенной митры... А потом, совершив брачный корогод, притекли в избу, где хозяева сотовый мёд по тарелкам разложили, по мискам: и был вытащен из темницы-погребицы мрачный сладкий кагор, и на волю отпущен, тоски нашей вор, и Господь с нами рядом сидел, близко, близко.
А до свадьбы - таково тяжко пристало мне! Грудь да лоб пылали, яко в последнем огне, вся тряслась, колыхалась трясовицей: и уснула... и забылась... и привиделося, как наяву: я по Волге-реке, ах, по стрежню плыву, а корабль золочёный чудится, негою мстится. Золотые, парчовые пологи спят... али падают... на мне инда Царский наряд... а вода, вся сплошь, в рыбах играющих... и с небес мне глас: ты плыви, плыви! Не снесёшь ты однажды земной любви - станешь неба хоругвь, вселюбяща, умирающа! Ты плыви, плыви! Полным холодом живи! Пей да ешь бытие полной чашею! Никого не суди! Прижимай ко груди свет ли, зло, свободная и бесстрашная! Погляди! река и гладка, и сладка, то ль минуту плещет, то ли все века, а настанет час - льдом по горло затянется... Так плыви вперёд! Всё равно, миг иль год, пусть на палубе тя созерцает народ то ли вьялицей, то ли плясавицей! А вон там, вон там, тише ход... вишь, порог ревёт... вся сребряна водица - бурунами... Перевалишь - Бога благодари!.. разобьёшься - так молча умри... чти жизнёшку свою тайными рунами...
Што ж, православные?.. Воздух попробуй-ка взвесь. Обуяла мя злая, яко барс, болесть. Обняла, одела-обула, до савана, до могилы. Почти насмерть к земле придавила мя. И вертелась, как уж на вилах, бедная я, а себя не жалей, не обыми себя утешеньями людскими, постылыми. Жар густел и жёг. Помышляла: вот вышел срок. Собираться пора в дороженьку. Простыню казённу сминала в руке. Зажимала пузырь стеклянный, порожний-пустой, в кулаке. И дрожала Вселенской дрожию.
Все болеют. Все страждут на сей земле. На страдальном все плывут корабле. Тож плыла, не просилась на берег, зело путешествовала. Заявлялась в огне. Пропадала во мгле. И брела, брела по великой земле. И молилась, молилась, яко пред Вторым Пришествием.
Чужака я голубила: родной, ах, ты!.. обманул... лучше б отгрызла персты у руки моей, ласку дарующей, благословляющей... В мя палили, в небес патруль. Помню свист отвратный, длинный тех пуль, тошнотворный, ночь разрезающий.
Я рожала сына. Спасибо, Господь! От мя отрезан был мой живой ломоть, а живот, то у бабы сердце, дело знамо, воздела, яко знамя, распахнута дверца, выпущен орлик на волю, будет жить не тужить, доколе, да разве знаю, я мать шальная, я мать доверчива, в доску древлево храма вбита-вверчена, живу ныне-сейчас, а слышу далёкий глас, изо всех времён, из туманных пелён, оттяпываю кус лепешки той, што уста услаждала сожжённой святой, отглатываю той водицы глоток, што глотал Пантелеймон там, где бой жесток, где лечил он израненных поперёк-повдоль, а страдать, куда ж ты денешься, юродская юдоль, вот и сын мой рос-рос и вырос, как когда-то и я, у нево нынче своя дальня семья, а я моталась по свету туда-сюда, и мимо мя неслись холмы-города, мимо мя летели мгновенья-года, и мимо мя плыли корабли затонувших столетий, во звёздной пыли, в реяньи всепланетных знамён, и кричали мне приветствия с форштевня и проклятья - с кормы, и неистово махали друг другу мы, ибо тёмная, дегтярная внизу плещет вода, ибо не увидимся больше нигде, никогда!
Нигде... никогда... ничесоже... на расстояньи руки... мимо, мимо всё, Боже, мои двойники... Вы словеса мои повторяете... они для вас - сундуки и полати... а я на ночь вас крещу... опричь тёплых живых объятий - я вас нежной, безмятежной молитвой прощу...
А знаете, двойники мои, я вами тихо горжусь! Я в ваши зеркала поутру-ввечеру любуюсь-гляжусь: валяйте, твердите вздохи-слёзы мои - а вам не пережить, не выпить моей сладкой любви! А вам моей пижмовой горечи не вглотнуть, не истоптать вдругорядь мой натоптанный путь, не ведать людей моих сокрытых имён: замок... на порог - лишь пущу пламя пламён!
А ково любила, людие, превыше всех, так то скоморохов: стеной стоял от них смех! Колесом, коловратом ходили они, вверх ногами, бодали рогами наши утлые ночи-дни! Давай, плясовой медведь, вволюшку реветь, а я буду на широком полюшке в криву дуду гундеть! На домре, шут, бряцай, на гуслях весну воспевай! На скрипочке, обочь бесславья, любовь наиграй нашу бабью! Пусть слушают мужики... глянь, валенки им велики: с вами не спляшут, да вам вон не укажут! Бубны, бубны бьют, круглей рожи! Все скоморохи - на Царя похожи! А може, они-то и есть подлинные Цари: покрыты златою кожей, Солнце безумствует изнутри! Э-хе-хе, поди да помирай во грехе! Почирикай воробьишкой на стрехе! А я жизнь стисну в объятьях, пред ней напялю самолучшее платье, да ну в обнимку плясать с медведём: нынче живём, а завтра, глядь, умрём! Так почему ж не сплясать от души... эх, бубны, бубны, хороши! Эх, балалайки, громче таратайки - вперёд, вперёд! Эх, вы, шутники-расстегайки, зайки-побегайки, а вдруг воистину никто никогда не умрёт?!
Эту песню мою сто раз перепели, перемазали сажей... и вы туда же... да я всех прощаю... кому вина, кому чаю!.. от души наливаю... из души - наливаю... переливаю из души в душу... готова вас всю судьбу напролёт слушать... а поодаль што брякает?.. систры?.. тимпаны?.. э, братие, да вы уж в дымину пьяны... песню гремите - вензеля язык заплетает... а я тут, рядом стою, подпеваю вам... в руке-рукавице-деснице чайник вина, голая шуйца обморожена одна... не гордая... не святая...
А ведаете ль, яко казнили мя?! Ох, балясы об том точить не пристало... да на колу мочало, а вдруг начну сначала, так уж лучше теперь, а человек бывает и зверь... Оклеветали мя, а потом на человечий суд потащили; и приговор прочитали - утопить мя в Волге-реченьке присудили. Слушаю котячье мяуканье судьи, инда то не со мной. Огнище изнутри прёт стеной. Мiръ дрожит, сиротий голопузый щенок, смешной. А я на суде застыла - не матерью, не женой: застывшей волжскою на морозе волной. А зима крепко на льдяных ногах стояла. Слоем лазурново инея, невесомово, яко летящий голубь, облепляла дома-корабли и сосну на краю земли. Прорубили во льду смоляную прорубь да к ней мя и приволокли. Это тебе не Крещенье! Не Богоявленье! Не Водосвятье! А в чём же, в чём-ить моя вина?! А в том, што ты проповедовала проклятья! Што не хохотала льстиво меж толпы, а жила-брела гордо, одна! Одиноких не любят! Одиноких губят! Да потому, што живущий - в хоре поет! Што хор - это и есть народ! А ты!.. возгордилася, так бает молва: одна взложила на себя крест общево Демества!
И потащили мя к той полынье. И лежала я животом вниз на ледяной траве. И видала пред очами ледяные хвощи. И так бормотала себе: утопнешь, начнёшь сначала, мя ищи не ищи. А тут подошел незнамый брадатый иерей, камень навязал мне на шею, да и отскочил скорей; да рукою махнул: ну, давай тащи, после людского судилища грянет Божий Суд - молись, трепещи!
И схватили мя! И потянули мя по железу снегов - полосою огня! И до проруби чёрной доволокли... а я в небо гляжу и зрю: Глаз Медвежий вдали... Ковш Медвежий нынче мя зачерпнёт. Опрокинет во прорубь, под синий лёд. И уж боле ни цвета, ни света не различу. Ничевошеньки не возжелаю, не похочу. Я лишь только... ах, тише, я только лишь...
...ты мя не слушай... ты слушай тишь...
...эту тишь великую, велий мороз, не вдохнути, забьёт глотку метелью слёз...
И што, спросите? Зрите - пою, жива! Голошу, выпуская птичьи слова! Всё кричу, хриплю... а где ж прорубь та?
...всё метелью укрыто. Ни креста. Ни черта. Ни поминок. Ни помянник на том стихе не раскрыть, где лишь: помилуй мя. Где лишь пропасть: пить.
Отпускали мя, гнали из дома в дом, многое, людие, помню с трудом, дух мой чистый снегами ведом, исповедали мя, елеем мазали, в горах живала в белёной мазанке, в тайге сибирской тряслась на коне, обжигала руки в рыбацком костре, в синем огне, ночевала в скитальных горницах, где домовым-кошакам люди молятся, в голодуху картофель жрала гнилой, благодать бе, Господи, приди на постой, у иконы постой да вечерять сядь, а и кто я Тебе, не сестра, не мать, не жена, я мужу жена одна, он малеванец, холсты малюет, на стенах во Божьем храме пророков брадатых рисует, в ночи мя обымет да таково крепко целует, а назавтра путь, а назавтра бой, ты в котомку хлеба не забудь с собой, готовься, затравят собаками тя, изобьют батожьём вусмерть, не шутя, а то увенчают короной стальной, хохлатой вороной, диадемою ледяной, а запах сурика и левкаса объемлет мя с четырёх сторон, то муж мой, разбросавши седые власы, уснул, как закатный спит небосклон, и звезды на нево, обнаженнаго, валятся, катятся планеты, кометы жгут, и падает на дощатый пол моё детское одеяльце, и ево усыпает звёздный кунжут... Новая прорубь казняща да новый ров! не чти челобитную, огнем палящу, власти не прекословь! А я всю жизнь глас воздымала да супротив приказа, насилью вопреки; да я стояла во дымах вокзала, а рельсы горели у самой щеки... Ах, новые времена!.. а я-то, вот расплата, та же самая, одна. Дети, мужья, летописцы, сказочный хищный зверь - все, толпяся, уходят в одну настежь раскрытую дверь. Новые козни, новый погост, новый стучится в морозную дверь позабытый гость, новый поёт Сирин ли, Алконост, и щиплет клювом златым Гамаюн соцветье медных, кровавых струн... и то сказать, забвенье, забвение всем... этово уж не пью, тово уж не ем... тово уж не вем, а точней - всево, да, всево... только и помню, што моё Демество... только и слышу многогласый партес, дремучий кондак, неисходный лес... река в чащобе... дегтярная полынья... во твоея утробе - вся радость твоя...
А там только сердце. Ево дивный ход. Оно - стук да стук: никто... никогда... не умрёт...
Вот мне монастырь. Вот мне острог. Время - мой нетопырь. Я ему - недовязанный чулок. Тяжкие камни. Винный, хлебный дух. Поёт, заливается на крыше петух. Всяк дом - святейший. Сарай всякий свят. На цепи злая собака. Окна мёдом горят. Окна текут золотой водой. На крыльцо выбредает хозяин седой. Ах, это мой муж. Не узнала ево. Мне шепчет: ну што, жёнка, пой свое Демество! А я здесь живу-обитаю уж множество лет. А ты-то вот знаешь ли, калика перехожая, ликом святая, - смертушки нет!
Люди, будьте в горе стойки. Преносите муку шутя. Разбейтесь чашкой в попойке. Замёрзшее обогрейте дитя. Три перста, креститися, или два там, Рождество или Рожество - мы все подобны солдатам, как под флаг, встанем под Великое Демество. Однако храните, несмышлёныши, старину! Забвенью не предадите Богородицу лишь одну! А и кто над Нею глумится. Лесным богам кто поклоняется, меж лилий бросается вплавь. Кто Крест любить зарекается в сиянии звёздных слав. А я лишь Богородицына птица, монастырская лишь верста. Мне жизнь моя снится-блазнится, пылающа красота. Щебечу во всю глотку! Набрасывают на мя ловчую сеть... Знаменита - по всему околотку: идут на мя поглядеть! Яко пою неисходно... радугу-радость пою... одиноко и принародно, подобно зяблику и соловью... Подобно волчьему вою, воплю медвежьему... сама себе яму рою, поклонюсь да уйду во тьму... Тараканы и мыши, да за печью сверчки... не ешь, не пей, шепчи тише, кольцо роняешь с руки... Пахнет из чугуна щами зелёными: крапива, весна... Благоухает мощами домашняя церковь одна... Покорись, шепчу, новому Патриарху, архимандритам ево! Сама себе стань подарком... спой новое Демество...
На мя пялили шубу собачью, шкуру грешную, гнали конскими мя плетьми. Зверьком кликали мя, канарейкой потешной значили меж пышными надменными людьми. Они в сафьянных сапогах - а я в чугунных кандалах! Мя целовали в губы, штоб назавтра в Сибирь сослать. А вместо ссыльных страданий под небом сибирским, синеоким - высоким, кедровым, глубже Байкала глубоким, сапфирова благодать!.. - я испытала счастие таковое, што до сих пор в груди несу, соболину красу, никак тайну сию не открою! А муж мой, малеванец мой, тож из Сибири, казак родом; и всё ея одну малюет-голубит год от года... толпу ея птичьево, зверьево, человечьево ли народа... всё мою ссыльну шубёнку хранит в уголку, локти латает, да сколь сладкой, терпкой любви суждено на веку, не зрит и не знает...
Мощна богатырша Сибирь... ея забыть - да разве возможно такое?.. А рвётся Времени рыбачия нить, и патроны рассыпаются под рукою, и псы охотничьи, лайки, далече, за облаками-тучами, хвосты на спины лихо закручены, а косточки их, человеку верные, давно уж в землице истлели, а может, хранятся в навечной мерзлоте, во мгле Мiра безмернаго... Забыть! забыть! о, жжётся кроваво клеймо забвения! Воспомнить дражайший миг - всё равно што избегнуть тления; память, край бытия, памятью клянёмся, ласкаем, просим прощения, - а длинна иль коротка память твоя, нет о том известья-оповещения... Забыть! забыть! яко воды испить в жару, в болезни, в обманном, святой лжи, обещании; забыть, забыть и всё простить, даже то, людие, што непрощаемо! Забыть... как наслали немоту и слепь... как надели сатанинскую цепь... как плевали в очи, яко недвижной мумии... в затылок - камень остёр... как тащили мя на костёр, да ливень хлынул, залил лютое полоумие... Забыть стократ... как орёт пустосвят... как блажит приговор читающий... как оболгали с макушки до пят... как старухи кричат - заклинающе, завывающе...
Всё забыть! Да память не рвётся, нить. Вот беда, пряжа слишком крепка! От судьбы до судьбы. От виска до виска. Вот река и река, вот рука и рука. Боль великая далека.
Но грядёт опять великая боль. Господи, вот счастье - остаться собой! Так пребыть - во проруби чистой водой, зимним дымом над таёжной трубой, яснослышащей ли, навеки глухой, зрячей али слепой, дарёною ли судьбой, завоёванной ли судьбой, мой Господь, ты со мной, муж родной мой со мной, шуб, шапок хищных не надобно мне, ветер северный свищет в бычьем окне, ветер северный плачет, во поле мёрзнет жнитво, ничево Мiръ не значит без Бога, ничево, все соборные церкви, все пиры и посты от любви лишь ослепли, и дрожим я и ты, повенчанная пара, в кошеве Времени тряско, старость сильней жара и безжалостней волчьей маски, старость забвенная, безотрадная, а память ей кости ломает хрупкие, а жизнь пресладкая, пренарядная, Херувимы многоочитые в ней летают снежною крупкою, Серафимы шестокрыльные да Архангелы огнепальные - все забыли кресты могильные, все помнят всё ребячее, изначальное! Вот и я помню всё это! Мешок игрушек ёлочных! Кашу манную, слаще масла! Пенки молочные, слёзные! Кирпичом на лопатках - ранец, и я бежала, весёлая, быстрей собак - во школу, учитися: а наставники угрюмые, грозные! А дома, у плиты, плачет мать: рассыпалась мука, не собрать, раскатились горох и пшено по закоулочкам... Я собираю с полу жизнь! Я шепчу ей: держись, держись, ведь у нас осталася ищо речная рыбка, изюмная булочка! Мать обнимет мя... языком огня... в расставанье не верь... што уйдёт она завтра - не ведаю... и кормить буду теперь я одна с руки - сонм печалей-потерь, насыщать их навеки жаркими обедами...
Ах, матинька-мать, тя мне уж не обнимать, не реветь у тя на груди коровищей-дурицей! Да и ты мя уж не изругаешь и заране, и вспять, не ощиплешь безглавой, растопыренной курицей! Ах, матинька-мать... чадам - родителей возвернуть-повторять... их зрачками во Книге Книг ловить рыб-уклеек, юркие буквицы... Ах, матушка, ты прости, лик твой мне сквозь воздух нести, спицу-клубок твой, моток твой в корзинке найдя, точить слезу: как от луковицы...
Вижу всё, што ныне идёт и прейдёт. Вижу земли: их колышется плот непомерный - среди ковра океансково. Вижу: катит толпы снежный ком, налипает новым снежком, испускает вопли опять окаянские. Што за бунт? нишкни! Догорели огни буйные, злокозненные, глава под новой секирою валится... А давай тебе выдам тайну, мы ведь здесь одни: я - свидетель всему, што во Времени варится.
Я свидетель всему, што было тогда. Когда мя не было и в помине. Трисиянно жила. Треблаженно плыла, аки по морю, по безводной пустыне. Виноградной лозой, разлучной слезой, криком брачным, родильным, военным ли - стебль страданья, священья свет... так шептала всем: людие, смерти нет!.. вы запомните тайну сию сокровенную... Ах я, мученица зело! Время прежнее уплыло, ушло, а куда же я память дену? Всех людей вспомню враз. Вижу всё, как сейчас, што тогда, што ныне, неизменно.
Мiръ, меняешься ль ты? Всё теченье воды. Трепещите, люди, диавольска навета коварнаго! Пища, молитва и труд никогда не умрут, а хула канет в ночь, скользко-хитрая, мыловарная...
Я свидетель быту всему! Я всё нынешнее к сердцу прижму! Всё приму, и смертный бой, и соловьиное замирение! Вижу ныне зарю - надо льдами - встречь январю: чертог свадебный, торжество-Всесожжение! Вижу, как мгновенно люди друг другу шлют блеск и боль, похвальбу обманную... Вижу - на ноже казнящем соль, да и вижу нас с тобой, ты, вражина моя, песнь окаянная!
Да, в лицо, в рожу вижу рыжу хулу: подбрела однажды во пир ко столу, со столешницы братину цап, на корабль мой закинула трап, по нему в жизнь мою перешла... и началися дела! Ой, людие, дела начались!.. хоть вниз глянь, под землю, хоть на небо ввысь... предо мною торчала колокольнею, а округ башки бешаные власы, а глаза тикают, инда часы, мукомольные, престольные, богомольные! Кто мне бесовщину ту подослал, не ведаю: нет, не Бог!.. занесло иными ветрами... я в Коринфе душою гуляла, в Афинах с Гераклитом беседовала, на судьбину мою никак не сетовала, а тут... раз! - в глотку винцо!.. да не отвернёт наглеющее лицо! да мне прямо в глаза глядит, да громче шута площадного блажит: ты, мол, дескать, дьяволица первейшая, старуха гнуснейшая, и песнюшки твои распоганые, и бредёшь ты суглобая-пьяная, ты исчезни-исчезни, ты умри-умри, а я буду о празднике том петь до зари! А опосля вдруг состроит умильную мордочку: ах, подруга, подай со стола барсково корочку!.. ты ж велика такова, што твои все слова прямо нынче пред церквою спою на пригорочке!
Слова... слова... ими лишь жива... я свидетель, за всё в ответе...
И хулящу мя, строптиву бабёнку ту сперва молча, очами гнала за версту... а потом, о, потом-то прозрела я! Ведь мне послана она, та безумица, та жена, штоб на земле врага возлюбить успела я!
Больше жизни, крепче смертушки возлюбить! Связать меж собою и им златую нить!
Ах, у всякаво на земле широкой есть враг... он наподобье рока, вцепится, инда рак... да висит на коже, на сердчишке твоём болящем, раскачивается... Протянула к хилой хуле я длань: ну што брешешь, ну перестань, болью всяк за грехи расплачивается! Грешна я сильно, видать, што явилась мне хулы благодать! Это ж счастие - оболганной быть и оплёванной! И раскатанной на калачи, и сожжённой в печи, и в оковы чугунные во срубе закованной...
Ах, хула, на краю бытия! Ты тож мати моя! Ты мя на свет Божий рожаешь страданием! Бей, ищо крепче бей! А восстаю меж людей я Артемис, Фотиньею, Зимцерлою, Мокошью, Ярилом-рыданием...
Кому ж помощи, хула, аще не тебе?! Живи, хула, помирай в гульбе, воскресай в калёных кондаках да виноградных ирмосах! Ты, бабёнка, слаба, яко дитя... ну и жаль мне тя... так люблю тя, што сердце б тебе моё вырвала... Всех нещадно ругать, тащить-воровать, ворожить-кудесить, обольщать лукавиной пучеглазою - всё то, яко Мiръ, старо! Изветшало добро! Рухлядь та молью бита! Украшаться ею заказано!
Ты, хула моя, брось блажить-орать! Ты не войско, не рать. Одинок твой голос: не гневайся! Да не жалься никому во богатом терему, не береди ночи бредовыми напевами! Ты мя боле не обижай: я твой чистый Рай! Твоя слава, хула, грядущая! Да, ты славою станешь, моя хула! Ты того не чуяла, не ждала - да буду гулять с тобою Райскими кущами!
Вижу, как нынче мя опоганили. Вижу камни, и песок, и лёд. Вижу, как Время, младенца оруща, избили, изранили. Я свидетель всему, што ищо придёт. Я при жизни не вознесусь, а вижу, как возношуся далече, распнусь на кресте сумасшедших ветров: вот там власы мои возожгутся, што последние свечи, вот там, там я воистину превращуся в любовь. Што, скажете, беззастенчиво вру? Не таковской брехуньей однова породили мя родители! Я жизнь мою в муку измелю, в порошок сотру, да только бы вам, людие, жить на земле устроительно, упоительно...
А ты, хула, моя бешаная, косматая вражда! Полно за мной по пятам бежать! Беги в никуда! Там, во бане старинной, парься, берёзовым веником шпарься, может, навеки очистишься, станешь ликом лучистая! А потом, от грязи чиста, ко мне явись: и обойму тя так, как обымают жизнь, как во Праздник обымают чюдотворную икону, Пречистую... Ты, видать, моя судьба, и жжёшь огнём не шутя! Я давно, век тому, простила тя! Не кручинься, моя горько-сладкая! А вдвоём, вдвоём мы огненну песнь в лазури споём, заиграем алмазной, сугробной колядкою...
Да и што ж?.. людие, Мiръ на нас обеих стал вдруг похож! Вывалился из кулака острый нож! Чюдо велие свершилося, а как, да разве ж ево растолкую? Замиренье вспыхнуло меж нами яростными, благостными, чистейшими пламенами: шагнула ко мне ближе хула - да и сгорела дотла, а я ея обняла и такую - обжигающу головёшку из сгасшей печи... к сердцу прижимала да всё бормотала: молчи, молчи... успели любить, успели забыть, успели простить, успели на землице в ослепленьи да в восхищеньи пожить, ну так дай я тебя расцелую...
Божие чюдо!.. самовар блещет полудой!.. вот жизнёшка, то полымя, то остуда, а мне в ухо шёпот, жарким подарком: нет, я не плачу, плакать не буду, - а слёзы-то у ней сами льются, а руки пламенным кругом в объятии гнутся, а мы обе дрожим, кричим-блажим в Божией руце, и вот же она, не хула, а похвала, не гоньба, а судьба! Не зубов клацанье, а светлых очей кладези! И бормочет, прокименом тайный глас бормочет: о, во зле прогорали, испепелялися дни и ночи, о, во слезах горя, сестра, мои времена тонули, мгновенья во сердце вонзались, как пули, а теперь слёзы счастья струятся, - никогда не разбиться, радостью сей никогда не упиться, никогда по снегам лунным вином не разлиться, никогда не расстаться...
Не хула, а сестра! Не зла возжелай, а добра! А зло да добро - ох, оба больно таково жгутся, остро! Старо, как небеса, примиренье, старо, - да сколь свежево, лилейново счастия в нём!.. не забить батогами, не пожечь огнём...
А она обнимает мя, уж не хула, а сестра, да и шепчет: о, как бы дожить до утра, коленки от радости подкашиваются, песнь на уста сама напрашивается!.. Давай же споём!.. Давай: вдвоём!..
И, людие мои, таково чисто запели мы с ней на два гласа, чисто и ясно, и я пела, дрожала и мыслила: нет, жизнь прожита не напрасно, ежели мы с любимой сестрою, вчерашней лютой хулою, а нынче лишь ей настежь сердце открою, измазаны во вчерашних сражений крови, поём - о любви!
Ну што?.. спеть вам ту песнь?.. она, милые, вот здесь у меня, инда дитёнок, под сердцем, здесь...
По льдам лазоревым, по рекам многоруким, многорунным, разливанным, по зеркалам хрустальным, от вина зимнего вусмерть пьяным, по насту, што отразит - метельной заплатой - только праздники наши, ой нет, и наше горе клятое, вишь, слёзы подносят полною чашей! - по намолённым излучинам-притокам, там рыбы вмерзают навек во времён кровеносные тайны-протоки, в воспоминаний снег, там Царь Стерляжий замер, в драгоценной толще застыл, глядит изумлёнными круглыми жемчугами поверх забытых могил - по усыпанным хрусткой порошей дерзким крутоярам - по Кремлям-пряникам, вековым-восковым-ярым - по дымящим трубам, по ранам-оврагам, по столбов-башен железной жестокой расчёске - по знамёнам, штандартам, стягам, безжалостно раскромсанным на шёлковой крови полоски - бегут-бегут, прыгая до небес, мои скоморохи - в шапках с бубенцами-колокольцами, мои зимние пророки! Мои разлюбезные, любимые озорники! Сквозь сугробы растущие крапивы-сорняки!
По льдам сапфировым, там спят корабли, по рекам, застывшим зимнею кикой моей земли, мимо небес печально проплывшей, мимо небес плывущей, всегда-вечно сущей, - бегите ко мне пляской-песней зычной, зовущей! Ах, катитесь ко мне колёсами царскими, златыми... Я каждого расцелую! Каждого повторю имя! Даже ежели имени, Господи сил, не знаю... Да я ж вам мать-сестра, я ж вам родная!
Ах, вот вы и рядом! Мя обступили-обстали! Пляшите буйным, вольным ладом на снеговом одеяле! На алмазном ковре, на серебряной сковородке, то наглы-дерзки, то нежны-кротки! Катитесь ко мне, румяной, от радости плачущей, по сугробам... Любого из вас люблю - до рожденья, до гроба! Сама кривой-косой кокошник дрожащею дланью в ночи вышивала... А мне жемчуга-яхонтов все мало было, да, мало, мало!
У реки зальделой брала! У свиристелей хохлатых! У ясных рассветов... у военных закатов... У санного полоза, что вдоль по льду - вперёд, не свернуть, это мои розвальни, люди, на холоду, это боярский, опальный мой путь!
Это мой староверский крест! Кованый Аввакумов язык! Дрожь казнящей лазури окрест! Кострища огненный зык! Ну, бегите ко мне, задохнитесь, мешком упадите на снег - мя связали из вьюжных нитей, а я всево лишь человек...
Я всево лишь баба, скоморохи! Бедная баба, сама своя! Нет, я мощи земной корка-кроха, зальделый топор, скол бытия! Вы - народ мой, а я - ваша песня, сегодня, всегда, вчера... а ты што стоишь поодаль, скоморошенька, свет-сестра?!
Подойди ко мне! Издаля на Солнце глядеть не с руки! Беги, вся в огне, задрав Орантою руки - огненные языки! Катись ко мне, Луна моя, Колесница, небесный мой Коловрат, и вместе помчим вперёд, ибо прошлое слёзным лезвием снится, ибо нет дороги назад!
Всё перебежано! Всё переплыто! Копошились нищие пальцы в сокровищах тяжких слепых сундуков... Разбивалось мылом склеенное корыто! Распинали на корявых пяльцах парчовый глазет грандиозных веков! Всё порвано, всё истлело до паутинной жилы... сгорело в полынном пламени дней... Сестра, в небеси ты ярко светила - свети меж земных огней!
Ну, ближе, ближе... бешаная окрошка мошкары-алмазов, буйных снежинок, зеркального льда... Так спляшем, две скоморошки, без танца мы никуда! Схватившись за руки, не зная броду, в шальной и святой хоровод... А сказано ж было народом: никто никогда не умрёт!
Радость в душе великая! Хмель ледяной - через край! Сияй, сестра моя, ликом, косой златою сияй! И пусть балакают, шепчутся, шушукаются, визжат - мороз гладим против шерсти, целуем нагой закат!
Вражду и гнев я забыла! Обману швырнула мыт! Выкрикну в небо звонкой силой: теперь ничево не болит! Теперь я стала - нежные звуки, раскрытые в радость Врата. Стою, на весь свет раскинув руки: свобода! смех! красота! Родная, ты белозуба, а косы волнами, рыжей волею, блаженным островом... Я стрижена коротко, воином, солдатом, царевичем, отроком... Такая уж я баба - сражаюсь!.. а после боя плачу навзрыд... Сестра! мы снова Любовь рожаем! потому так слева болит!
Пляшите вкруг нас, скоморохи, вкруг пляшущих дико сестёр! Пляши! Не отвалятся ноги! Горит сугробный костёр! Алмазный, безумный, белый... жгуче страданья клеймо... Пляши ты, смертное тело! А сердце споёт само!
А сердце вы, скоморохи, услышьте, ухо прижав к дыханью и хрипам эпохи, к расстрельному насту держав... Забыты распри и ссоры. Война выпита вся. До дна. Последним праздничным приговором Любовь осталась одна.
Надо льдом жёлто-медовым, кубово-синим, над малахитом реки летит красиво и сильно - сломаны крылья тоски - а вырос размах Рух-птицы, скань лазурного бытия - одно крыло - ты, сестрица, другое крыло - да я!
Двукрыла Любовь, двусвободна, двувечна! Двуперста, вера и мать! Двуречна и двусердечна! Двурука - весь Мiръ держать! И так стоим на родной зимней дороге, уже навеки вдвоём, смеёмся и плачем, не боги, две бабы, меж явью и сном, меж выдохом, вольным вдохом, меж вечной ночью и днём, и пляшут вокруг скоморохи - на снегу - великим Огнём.
Мы наш Раскол победили. Единое - во славе и силе. Единое есть Бог истинный, чюдо творящий в Галилейской Кане; расколотое на жалкую россыпь глядит уныло, обреченною рыбою на кукане. Нас всех раскололи: до горя! до боли! нас в ужас и прах и тлен обратили, живых обрекли могиле!.. но мы, но мы - победили...
Скажи другой: сестра моя! Шепни другому: брат! Протяни им руку на краю бытия. Никогда не вернуться назад. Мы идём только вперёд, и никто, так Господь возгласил, никогда не умрёт, и велик, непостижен наш страдальный, печальный Крестный ход, наш поход по земле, то угрюмо, то навеселе, то в виду всеобщего мора и смерти, то у звонкой, роскошной, вина залейся, знатной пирушки в виду... а жизнь-то у мя отнять посмейте!.. не отымете!.. прочь!.. стою в обнимку с нею, от счастия косею, дрожу на всеземном холоду!
Нам не надо злого Раскола! В любови Мiръ святочно-голый! Нас раскололи, а мы съединились! Нас раскидали, а мы срослися! Молот в кулаки не хватай, хула, сделай милость: предо мною - ты, любовь, да пред любовию - я, любовь... узнаёшь наши трисвятые, тресветлые лица?!
Раскололи надвое едину любовь! А может, натрое! А может, на тьму тем острых, погиблых кусков! И бредём мы, безродные, розные, в отрепьях по наледи, закрываемся от ветра крылами лебяжьих изодранных рукавов... от Солнца ярого застимся, щуримся на заречное зарево, о, там великанский пожар, горят палаты бояр, а может, нищие избёнки, странноприимные горе-дома, да как бы нам, людие, от костяной войны, от скелетной ненависти не сбежати с ума...
Нету боле хулы! Есть хвала. Нету злобы! Любовь заместо нея. Так зачем же впереди страшно клубится мгла, и пред ней на колена, яко во храме пред образом, горько падаю я?!
Я свидетель всему. Вижу Свет и Тьму. Вижу часто над затылком в зимней ночи - цветное Сияние: это празднованье дрожащу щеночку-сердцу моему, это превеликое моё покаяние! Завиваются зелёны, бронзовы копья и стрелы, мафории в выси летят и рвутся, и наново вьются, насквозь светятся паутиной, а потом растают, и нет помину, а опосля опять вспыхнут да польются медовой, жемчужной лавой, мантией алой, кровавой! Таково Сияние, знаю, на Севере лучится. Дрожу под ним подстреленною волчицей. Лечу под ним быстрой душою-птицей. Ах, снова, снова играют в зените, средь катышей звёзд, небесных мечей вереницы! И внимаю навроде лехкий звон: Бог обо мне промыслил, распахнул небосклон, и зрю, яко на образе Пресвятом, златой горний свет, и улетают вдаль журавли перелётных бед! Ах вы, бедованья перелётные, Серафимы-Херувимы бесплотные! Да где ж вождь ваш, Архангел батюшка Михаил, што по небесам вас крутил-водил? А и вон он, Архистратиг, всею землёю велик, надо мною, во эмпиреях-перлах, плывёт-летит! То ево бессмертный хор, бесстрашный ход! Он все тьмы поборет, людие, поцелует там, где болит, а все праздничные светила - разом возожжёт...
А вижу, всё провижу, всё знаю: не казнят мя враз, сперва сошлют. Бросят мя, насельницу Вселенских Времён, в безвременный сирый закут. И не будет простору мне хватать. Буду воздух, яко просфору, голодным ртом ловить, рыба безмолвная; и звезда во лбу моём будет гореть-чадить, негасимая, бессонная. Какова она будет, тюрьмища моя?.. яма, пещера, кирпич или сруб? И будет вся моя семья - лишь песня, и бьётся у губ. Уста для песни отверзи!.. она у тебя одна. Струятся слезыньки со ланит на перси, обжигают ладони и рамена. Вас, людие, заточали во темницу когда-нибудь? Там одинок человек, как Бытия в начале; там все вопли внутри и внутри все печали; там всё тише вздымается грудь. Там всё страшнее мысленно читать письмена во многоочитой Серафимской Книге, гладить пергамент телячий, яко живую возлюбленную щеку; там принесут тебе пытошные вериги, обмотают ими, и будешь чугунное горе таскать, суждённое на веку. А век весь - в один год, в один день вместится! Эх, черница, подбитая птица... И бумаги у тя нет, и пера писчево нет, так стоны-вздохи лепечи-бормочи, выпускай невесомо на свет, - а они мгновенно исчезнут, никто не услышит, песнею рот истерзан, дождь молотит по крыше...
И што? Велено мя будет посечь аль повесить? То ли год в застенке томить, а может, все десять? А в чём же пред вами, людие, мои властители, повиниться? Была вашею кормилицей, целовала ваши румяные лица... Целовала песнею, ковригой воскресною, жаркими, суриком крашенными устами! За што же во сруб?.. вода, хлеб - мимо губ... а мя ждёт голодное пламя...
Взалкало мя пламя. Сгорю меж вами! А вы округ мя безъязыко столпитесь... Огонь, то не проклятье: златое то платье, парчовое, красно-блескучие нити! Наш Царь нынешний мя казнить попускает - да, я не такая, и я не сякая! Властям неудобна, гостям неподобна, откуль забрела во Время оно? Руки не секите, глотку певчую пощадите, лучше сожгите - до пепла, до тихого звона...
Я только Вирсавья пред Временем моим, царём Соломоном! Я только Мария Магдальская перед белым, вьюжным хитоном Исуса! Белее млека улыбка моя, скула от слёз солёна, очи горят, высокую выю объемлют бусы! Даром што старуха! Час пробьет - обратно рожусь. Стану лилейною девой у сребряново, плывущево в горьком тумане зерцала. И всею младостью, всею забытой радостью ярко во мгле отражусь: смело жила, безсмертия не искала! Всюду-превсюду шла, воздевши длани, одна! А за мной бежали толпы народу, мя не чуя, не видя... одинока берёза, ветла, одинока в морозе жена, облепляет мя, древо живое, иней, пурга ко мне царственно снидет! Всех сожгли, вы же помните! всех пророков пожгли! Авраама, Исайю, Иеремию и Даниила! Всех на вертеле жарили, бичевали, клеймили, пекли, изрубали в куски... это - помните! это - было! Сколько ж надобно нам ищо виселиц, крючьев, огня, раскалённых железных прутьев и волчьих кованых зубьев?! Мы жестоки. Без ненависти не прожити и дня! Ну, а вы без любови попробуйте, вышейте златом хоругви!
Я Вселенскую Церковь проповедовать было взялась. Я Вселенскую радость выкричать слабою глоткой пыталась. А меня - взашей! а меня - по щеке, наотмашь! и в грязь! И ногами топтать... где ваша, люди, милость и жалость... Што, всяк из вас, што ль, Олоферн, Понтий Пилат, шедше в Мiръ лишь со злобой там, в подрёберном мраке? Моё Время, вместе со мной, никто не вернёт назад. Што ж вы лаете так без умолку, вурдалаки, рыжие вы собаки?
Вижу день и час, когда возгласят мне: ныне сожжём! А я тихо шепну: ныне отпущаеши, Владыко, рабу Твою по глаголу Твоему с Мiромъ... Люди, люди так вопят, как по сковороде ножом, я Антихриста зрю и зрю Христа, и всё бормочу: жалость, жалость и милость... Только жалость и милость, да, только любовь одна! Ну не может, не может древо добро плод зол творити! Вы пошто раскололись, люди? Ни яви, ни сна, только небо, - а зрите ево отраженье в лохани, в корыте... Вы пошто мя хотите в том древлем срубе сожечь? Што я сделала вам таково безчестново, чем досадила?
...разве тем, што на полмiра - крылами - раскинула гордую жаркую речь, мою Песнь о том, што будет, што есть и што было...
Сруб древняный. Сработан из лиственницы крепчайшей али корабельной сосны. Следы веток спилённых аки бабьи сосцы. Может, бревна дубовые тут плотно друг к дружке уложены, с ободранной корою-кожею, уж никогда не пустят вон побег, человечьей избе служат вовек. Я сама этот сруб. Не инкуб, не суккуб, Мiръ со мной оказался пьян и груб, ну, а я ему - лишь молитву из губ. Вижу. Видеть мне до конца дано. Вижу подслеповатое, льдиной тающее окно. Всё то будет - иль было давно? Всё равно. Вьётся вьюжное веретено. Не пророчица. Не святая. Льдиной не хрустну и не растаю. Начнусь ли сначала, немая, малая, нагая, младенцем молочным, безпорочным у бабьей груди играя? Сруб древняный. Палач, плач безымянный. А может, их много, округ бедного сруба моево, нанятых палачей, и безсчетно в кулаках их факелов-свечей, и жгут их, во тьме звёздново вечера жгут, как на службе, с огнём стоят, ни шагу назад, ни шагу вперёд, скоро приказ, эта бабёнка скоро умрёт, вернётся ль обратно, знать бы наперёд, нынче на широкой холодной реке встал намертво лёд, приговорённую душеньку Геенна ждёт, али Райский Сад подплыл ко срубу, золотой плот, мандариновый грот, межпланетный полёт, а правда ль, што осуждённая умела на заморском рояле, на железном драконе-варгане играть?.. нет, люди, она умела лишь умирать...
...умирала - то пела, без края-предела, без раскола-раздела, без труда-дела, пела как дышала, пела как заклинала, пела как молилась... где вы, где вы, жалость и милость...
...палач, поднеси ко срубу огонь. Заплачь. Видишь, Время твое несётся прочь, вскачь.
...и блестит в последней улыбке полоска зубов...
...где ты, где ты, любовь...
Пламя вверх взвилось. Звёзды не сдержали слёз. Палач, он ведь тоже трудник, а не грешник, хищник и блудник! Он на службе государевой... гляди, страшное зарево... Я зарево то будто сверху, из поднебесья, вижу. Ближе, ближе, ближе, ближе. Пламя взлетает, машет крылами. Пламя уже повсюду над нами. Мне больно! Кричу в голос!
И тут вдруг, Господи, земля - раскололась.
Раскол зазмеился трещиной жадной, длинной. Я, огнём охвачена, молилась Отцу и Сыну. И Духу Святому, и Богородице Деве, огненным плодом на огненном древе! Раскол шёл всё глубже, разламывалась хлебом землица, разымались надвое весь и столица, разрезал незримый Ангел незримым мечом небесную твердь и дымную почву, и мела метель, и стлала постель возлюбленному огню - нынче ночью! Да, вот ночка так ноченька! Распоследняя! Выдалась жарка! Мiръ, я у тя в горстях побыла нежданным подарком, а теперь мя у тя, дружок милый, Господь из рук вынимает нежно, напоследок крестя, напоследок целуя в вихрях невестиных, снежных! О, я невеста лишь нынче ночью! Брачный чертог, осиянный порог зрю воочью! Это зима-кутерьма, и в ней огонь-не-тронь, и внутри мой Бог мя держит - вопреки нечеловечьей муке - на широких руках, оснежённых полях, зальделой речной излуке!
А мощный Раскол всё глубже вонзался, всё мрачнее шёл, уходил звериным разломом туда, где всё страшнее, во преисподние тьмы, во хляби подземныя тюрьмы, петлёй, захлестнувшей земную шею! Кони ржали! Мя Ангелы держали - справа и слева, сверху и снизу, я зрела их лики! Штобы я не стонала, не хрипела-кричала, штоб утишить последние крики! Загасите мя, яко свечу... тако выстанываю им, шепчу... а они мя крепко держат, аки кузнецы - молот...
...а Мiръ мой внизу лежит, расколот...
...и стонет, и вопит - сильнее мя!
...возлюбите бешанство святаго огня...
...возлюбите последнее торжество...
...пойте, людие, Последнее Демество.
И раскололась земля до основанья ея. И раскололась неба синяя ектенья. И раскололись люди, теряя руки-ноги, красавцы и убоги, а мнили, што они Боги, несли наслажденье на блюде, задирали носы, выпячивали груди, а на деле - вот оно, пламя: Раскол под ступнями, перстами, Раскол под ногами, сердцами, под объятьями и венцами, призри на ны и помилуй ны, Господи, Тебе одному верны, Раскол под рекою, горою, согрешили перед Тобою, расколол Ты землю старым ржавым кадилом, могуче она Тебе, грозному, не угодила, да Ты полон любви, Ты же сердце Мiра, Господи, сохрани, прости и помилуй!
Господи, верни нам нас всех, постылых! Господи, умоляем, сотвори все, как было! Господи, может, ищо Мiръ не пребудет Тобою проклятый - хромой, слепой, немой бесноватый...
Господи, штоб Мiръ не умер, кричу, дай горящее сердце открою! Мертвый Мiръ покропи живою водою святою! А может, не люди мы вовсе, а злобные диавола дети, ежели сами себе врём, што - ни за што ни в ответе! А всё, што содеем - то факелы огненной казни! Забыли про Воскресения Светлаго праздник! Забыли про супружеску ласку... безкорыстие верного друга... напялили волчьи, лисьи маски... из колдовского не выбежим круга...
А теперь... разбегаются земли, кипятком брызжут моря, рты кричат: всё зря было, зря!.. я, казнимая, последнему хаосу внемлю, да не раз я то в виденьях видала, да не раз просила: начни сначала, ну давай, Господь мой, начнём сначала, ведь земля последних мук не искала, заверни ея снова в ребячее одеяло, укачай, убаюкай, начни сначала, я ж Распятому ноги Тебе целовала, со кровавого льда убийцыно копьё поднимала, я с Тобой умирала, с Тобой воскресала, - о, начни же сначала! Изошла из живой земли кровь Раскола. Истекла кровию любовь! Встала босой-голой! Не собаки, не волки мы, не свиньи, не черви, не стрекоза на плече! О, мы люди, Господь, лишь люди, вышивкой на лесной парче! Так прости нас, о, прости, ежели можешь! Ты пройди нам казнящим морозом по коже, и огнём пройди, и железной плетью - сперва осуди, накажи, а потом обними: мы же дети...
Како тя, Всемiрный Разлом, да остановлю?! Како твою, Вселенский Раскол, змею-трещину наново склею?! Неужто тем, што люблю, лишь люблю, одно лишь - люблю, а другово не умею, не смею?! Дивна моя обречённа любовь для мя самой! Изумлённа моя, осуждённа любовь из груди вылетает! И парит над Расколом, реет, и шелестит ему листьями: возвращайся домой, домой... с разъятой душой съединись, с распятой роднёй обнимись, взахлёб помолись, и я за тя помолюсь, я, бродяжка грешная, не святая...
Раскололся мой Мiръ! На молчащих праведников и орущих поганцев. На бояр надутых да на холопов, што нещадно бьют Господа за провинность ногами. На торговцев и малеванцев. На память и забвенье. На голодуху и наслажденье. На возмездие и преступленье. На сраженье и замиренье. На грохот боя, кто рубится под пауком, кто под звездой, кто под крестом, и на сиротскую, макову, юную кровь под бинтом. На целованье-прощанье на страшном распутье и на воровские парчовы лоскутья. На ярую песнь из глотки и на очи, сомкнутые кротко. На веру, што завтра жить не престанем, и надменное отверженье Причастья и покаяний. На людей, што братьев убивают дико и просто - и на пламена над белизною холодных полей, неизречённые, равнодушные звёзды...
Не сыграть на рояле Раскол! Не выколотить стальным кулаком из органа! Это жизни моей крупный грубый помол, а мой Мельник седой и пьяный, а руками, башкою дрожит мой старик Винодел, хлеб-вино навсегда исчезнет... о, не канет! о, никогда! отыди, расточись, разорвися, беда! лучше стану Причастием-песней! Лучше хлеб и вино Господне громко-тихо я вам спою, перед трещиной той, ползучей змеёю, Дары Святые по небу, подобно полоумному соловью, разбросаю из глотки звездами, превыше покоя и боя! Вы, орудья безсмертной музыки моей, златобрюхий кит, окиянский рояль, плот-орган сребряный, по морю слёз плывущий, вы валитесь в разлом, в последнюю боль и жаль, и последний вопль ваш - о земных, погибающих Райских кущах!
Не сыграть! Не обнять мою музыку исполать! После страха нынешня - не быть несчастней!
...пусть я стану последней, безследной музыки мать, лишь, мой Мiръ, не уходи, о, не гасни...
Только шёл Раскол, надвое Мiръ разымая, и Господь по небу шёл, наша судьба немая, мы не видим Ево, мы хохочем над верой, открываем ногою нечестивые двери, поглощаем волчино заморские яства, жадно теша утробу, зрим могильную яму, пялим, трудники, колом встающую робу, у родново гроба плачем, безутешно рыдаем, а завтрашней стыдобы, грядущаго ужаса не ведаем, не знаем, и вот пробил час, нас охотничьим Царским рогом скрутило, вот Раскол, от рождения нам до могилы, выворачиваются потроха и души наружу, о, страдать доколе, а порядок Вселенский я не нарушу, я лишь пою, пою взахлёб, безполезно, пою у Мiра на краю, истошно блажу над угольной многозвёздною бездной, во срубе ярко горю, косточки во пламени уж истлели, а мой кондак повторю сожжёнными устами, из последних нищих силёночек, еле-еле, а мое Великое Демество шепчу, имеющий уши да слышит, пою, жгу тонкой кровавой глотки свечу, всё нежней, всё потайней, всё тише, а потом закричу - да на весь Мiръ мой, надвое Богом расколот: я так хочу, Боже, я орган Твой, орлан, рояль, златая печаль, крылатый корабль, серп Твой и молот! Я лишь слабая музыка-баба, в обречённом срубе сожжённа! Я лишь блеск ледостава, оврага приречново травное, млечное лоно, я лишь тёплое небо Пасхальное в сияньи предвечной лазури, небо справа и слева, поверх изуверской безумной бури, поверх безповоротново, бешаново Раскола, небо сверху и снизу, глядит страшно и голо, всё яснее, всё ближе, поверх отчаянья и надежды, поверх боли и дыма, пока не сомкнулись вежды, пока любимые любимей любимых.
***
(мною спасённый)
Все случилось. Все взаправду случилось. Я пред плахою огненною. Костёр горит. Отченька там, в костре. Он молчит. Не кричит. Во срубе крыши нет, только стены. Я рвусь туда, во сруб, в огонь. Пытаюсь выломать дверь. Открываю. Огонь летит вон из двери. Опаляет мне лицо и власы. Он молчит, а кричу я. Меня оттаскивают прочь, я вырываюсь и опять бросаюсь ко срубу. Я всё равно развяжу ево цепи. Вытащу ево из огня. Грязная, в ожогах, перед разверстой дверью во сруб, в Геенну огненную, во огнище святое, казнящее, я кричу надсадно и хрипло, и сама себя не слышу:
- Я беру этово человека в мужья!
Не слышу лес криков, он поднимается округ меня.
Меня больше нет; я вся перелилась в последний крик.
Они согласны?! Не согласны?! Обычай такой! Древлий! Обычаи надо соблюдать!
Кто входит, втекает во сруб, во пляску пламени? Я али кто другой? Я обратилась во всех и в каждово. Моими ли, чужими руками цепи разомкнуты, прочь отброшены? Тяжелы. Чугунны. Я бы такие не подняла тонкими слабыми ручонками. Нет! Не верьте! У меня руки сильные. Тяжелей земли. У меня руки Матери Земли.
Матери Смерти. Матери Жизни.
Я оставляю ево жить. Яко Апостола Иоанна оставил жить Исус, возгласив во всеуслышание пред всеми Апостолами: хочу, штобы он пребыл, доколе Я не прииду.
Я вынула тебя из огня. Из сердцевины горящих Мiровъ. Из перекрестья, безумья лучей, казней, воцарений, костров. Ты болен? Здоров? Читаю твои ожоги на теле твоём. Не надо слов. Есть только знаки. Знаки это боль. Кровь: знак пребыть самим собой. Я, видишь, отче, пребыла самою собой. Твоею листвою, корнями и корой. Твоё Евангелие, отченька, напиши. Скрежетом зубовным. Кровью души.
Ты вынут из сруба. Выпростан из огня. Ты стоишь предо мной и глядишь на меня. В саже, ожогах, крови, смоле - ищо хоть немного поживи на земле.
- Я говорю, доченька, а ты помни, помни и пиши, пиши кровью, улыбкой, на помин души, воздыханьем любовным, погребальною литиёй, осмогласием кровным, ключевою водой, грохотом ледохода, обвалом войны, кричи голосом народа, зри ево горячие сны, зри ево широкие парчовые луговины, выходи на бой со врагом в ево полку, молись вместе с ним Богу Отцу и Сыну и Святому Духу, сужденному нам всем на веку! Я - народ, ты - народ, дочка! За землю нашу! Ея защитим! Не поставишь в кровавом Писании точку! Зри, голубь летит, и Солнце над ним! То Дух Святый! Враг ево не сжигает! Вражина ево, помни, никогда не сожжёт! И под ними небом одна молитва нагая пущай обожжёт тебе сердце и рот! Ты есть весь твой род, вся родова святая. Ты вынула, вытащила мя из огня - родила яко младенца... а жизнь всё одно истает, не наживусь на свете, мало, мало времени для меня! Но вот тебе руки мои! Вот я, дважды рождённый! Вышел, перекрестяся, войны изнутри! Я тобою меченый, дитя! Тобою спасённый! Ты теперь мя во всю жизнь твою - во небесном чертоге - зри! Я Солнце твоё, Луна! Полночная вьюга шальная! Мною единым сочти все твои ночи и дни! А ты у меня одна, а како тя звати, не знаю... ты хоть на ушко мне, тихонько... шепни...
Огонь выл-завывал, не хотел утихать во срубе. Батюшка стоял на снегу. Я на снегу стояла. Молчал апрель. Солью горели мои обожжённые губы. Далеко, на краю света, нежно пел свиристель. И пред нашими широко раскрытыми слепыми очами проплывали картины Иной Жизни, Бытия Иново. Дни сменялись огненными ночами. Богомаз малевал морозные фрески светло и сурово. Старость и Смерть были равны Детству. Кровь, текущая вольно, была равна Богу. Прошлое, Настоящее и Грядущее варились в едином котле, по соседству, в одном котелке рыбацком: стерлядь, белужина и сорога. Аввакум, а может, ты пророк, ты и есть Нострадамий! Пошто с маслом розы не ходишь средь чумных, бесноватых! Пошто ты снежною тенью мечешься, дымом летишь меж нами... над нами... Преодолей страданье веков, годов, дней проклятых! Зри, война опять, война навалилась! Шкурой волчьею обхватила... не сбросишь... не вспорешь... Помолися за нас всех, отченька, сделай милость! За народ твой, восставший на зло, гудящий лютым огнём на великом просторе!
А может, отче, Время-то само есть пророк?! оно одушевлено, оно заливается Божией птицей в ветвях! Парит в облаках! Да, отче, воистину так! Время - Пророк, Кровь и Бог, и мы вытираем Время-слёзы с лица, отрясаем с ног Время-прах! Оно меняется, исчезает оно на ходу, внезапно является, рождается из пустоты... оно бормочет в чужом сне, мёрзнет родными ладонями на холоду, оно стреляет в чюдовищ, идёт босиком по снегу от версты до версты! Оно многолико, многослойно, многочюдно... многокровно, многострадально, многогласо, оно Осмоглас... оно плачет в яме казнимой болярыней, умирать так трудно, умирать так земно, то солёное, тёмное действо не для небесных нас!
Задери башку! Застывают во облацех, на громадной фреске в огне, облитой суриком-кровью, Богородица-Матушка в синем небесном хитоне, и батюшка Аввакум, мученик, со звездою Чагирь во изголовье, а красный конь пасётся у ног ево, и там, вдали, идут ищо кони, кони... И слышно конское ржанье! А за конями идут люди, люди... Идёт великий Крестный Ход, движется воинство силы, идёт на войну со Злом великий родной народ, и, руки раскинув, летит над людьми в зените Господь Бог, от рождения до могилы! Летит наш Господь, наш душистый ржаной ломоть, наш сладчайший кагор, от Рожества до Пасхи, и молится весь народ: напоследок дай Тебе помолиться хоть, вкусить Твоей, Господи, пожизненной и посмертной ласки! Народ, век и год, глаголет пророчий рот, идёт, возвращается, неистовыми, вихрясь, утекает кругами, идёт по весенней Реке Мiровъ расколотый человечий лёд, последний наш Царский народ, безумен, счастлив и строг, единым ликом своим яко Бог, расколот на Тьму и на Свет над нами.
***
(Последний Раскол)
Сотворил Господь небо и землю. Ненависть не приемлю. На небе возвышается престол Божий, а Царёв престол - во грязи, во бездорожьи, во вьюжном острожьи. Под небом Ангелы тихо стоят, Серафимы на страже молчат, Херувимы нежную, сладкую песнь припевают: ты, мол, живой, человече, и ты, баба, живая. Богу ликуя, Ему лишь служи, а всё одно взденут тя на ножи. Юзы - навеки твой приговор; железы гремящи, сребряный хор. Родил тя Господь из небытия в бытиё, нацепил на тя снеговое бельё, дал вкусити мудрости, а затем погрузил в льдяное море забытья. И стоит близ тебя Богородица, и беззвучно поёшь ты устами дрожащими псалом во имя Ея.
Рек Бог: буди небо, и явилось небо. Рек: да восстань земля, и стала земля. Рек: плыви, текучая вода, исчезай без следа, такоже и жизнь человечья течёт, в рыданьи кривится рот, в тихой молитве поминаю род. Тяжёл Времени ход. Да хочу не отстать. А то желаю вперёд забежать! Время, не смейся. Тебе исполать.
А мне всё равно, земелька-земля, по воде ты плывёшь али стоишь на живущих китах; сгоришь ли до пепла, уйдёшь ли во прах; испытаю ль ищо раз смертный страх али встану в небесах у Бога Господа на часах, - всё одно, согласен сплошь со всем, ибо, Господи, ничево о смерти не вем.
Тяжка вода, да ведь тяжела и земля. Лёгок воздух, и лёгок огонь. Он летит быстрей всех погонь. Воздымается, красный лес, выше башен всех, всех небес. Огнь жив и на небеси: да пощады у нево не проси. Огнь землю поедом ест, людей с ног сбивает окрест, обнимает орущих женихов и невест, - огнь лишь единый наш Небесный Крест!
Это огнь землю надвое расколол. Надвое разрубил людей. Ево - Раскол. Лишь огнищем единым - владей!
А вы-то мыслили: огонь - колыбель, огонь - родильная постеля, огонь - ложе любви?!
А ты не рядом с ним - в нём поживи!
Што?! Не хочешь?! Не смогаешь?! Огнь из груди голою дланью вынимаешь... огнём целуешь... огнём благословляешь... што станет на земле после Раскола, не знаешь...
Расколется наново земля. Расколется надвое синь-окиян. Разыдутся горы и долы. Всяк предстанет пред Богом голым, от голода чёрен, от стыда пьян. Грешники, кромешники!.. Адовы приспешники... Да, вдумайтеся, Мiръ-то расколот на Рай и Ад! И нету пути-дороги назад!
По правую руку - трава густая. По левую - земля выжженная, пустая. В водах солёных земля тонет, прянет на дно, к судьбине своея пригвождённа, яко камень тяжкий. Одета земля, яко младенец новорождённый, во снегов злую рубашку. А время приспеет - ни рек, ни морей, ни травы, ни цветов, ни в печи берёзовых дров; и надвое раскололась любовь, раскололась моя любовь!
Не пяль, баба, пред зерцалом-стекляшкой чюдных украшений. Не делай движений. Не прибрасывай к бренным телесам блажные наряды. Зри, Ад-то, он рядом. Далёко в небесах Златово Рая корона. Ледяные дожди льют с небосклона. Густые снега твою жизнь засыпают. И душа твоя... сонная... пред казнью... во застеночке... робёночком... спит... засыпает...
Раскол Новый грядёт! Последний! На землю и воду! На звезду и кромешную тьму! На Потоп и Спасенье! Людие, неохота ведь вам всем разом тонуть, вам охота сладостей и веселья, вам охота в чистое небо глядеть, песни петь заревые, а не забиться в железную клеть, не гнуть пред новым чюдовищем свои жалкие выи! Разверзнутся хляби небесные, и хлынет забвенная, белопенная вода на грады и веси, на леса и долины... Раскол, он опять нас обнимет! Воплем неистовым! Стоном долгим, длинным! Всё помрёт в земляном Разломе, в Потопа бушующих водах: и не будешь бормотать ничево, кроме... последней, хриплой молитвы поверх общево плача народа...
Сколь времён Последний Раскол на земле будет длиться? Сколь царствовать будет? Слёзы склеивают мне веки. Залепляют ресницы. Дрожу, яко в погребице, в могильной остуде. Над жизнью трясуся: ах, люди мои, скоты, гады подземные, блохи-стрекозы, и звери, и птицы! То мне ваша общая жизнь снится?.. или вам - моя - мнится-блазнится?..
Да!.. видите вы меня. И надвое расколюсь я под мечом пламенным Ангела Рая! Изгоняют прочь мя, я всево лишь человек, от созерцанья Бога моево умираю! Я умираю, из Рая на брюхе ползя, на Рая пороге... ты, слышишь, даже ежели нельзя, ну помоги хоть немного...
Я не праведник! Не Ной я брадатый! Вовек не спасуся! Я лишь во смерть иду, как во солдаты, бормоча торопливо: Господи Исусе... День - на пиршество да на работу каторжну, нощь - на покой... а после опять бысть ясное утро, и снег на Солнце заиграет, зажжётся яхонтом и перламутром, и лица людей румяные по вьялице-льду красными яблоками раскатятся, да, навеки... на горе и счастье снова расколемся мы, человеки!
Вечерня, полунощница, заутреня, часы, литургия... Раскололась Церковь. Значит, и мы другие. О, нет! Нет! Нет! Мы-то, людие, всё те же - лисы, волки, зайцы, медведи, невежи! Жестоко, хищно на загривке, на глотке у ближнего клыки сжимаем! Всё идём-бредём, да никак не дойдём до Рая, а уж так взыскуем тово желаннаго Рая, што тоске нашей по нём нету ни конца, ни краю...
Яко ставец древняный, миску-жизнь в застолии расколи! А она вдругорядь со стола в люди покатится - со вершины горы, на краю земли!
Мы всё такие ж: гнутые-битые, поутру неумытые, с молитвою слиты, проклятьями перевиты! Мы себя хвалим-хвалим, да и обожжёмси об похвальбу... мы себя любим-любим, да и напоремся в темноте на судьбу! На ея вострый нож-тесак... на ея мощный клык... ах я старик-дурак, я-то ко моей старости не привык! Не пообвык ищо я жизнь мою на младость и дряхлость молотом расколоть - а глянь, уж за плечом стоит моим молчаливый Господь! За другим плечом - Архангел свет-Михаил: што, бает, Аввакуме, шастаешь повдоль древлих могил?! Не хочешь ли пополнить сонмище безвестных мертвецов? Давным-давно на забытом кладбище твоя забитая батогами, забытая, ветхая деньми любовь!
В полунощи восстах исповедатися на судьбы правды моея... Опять не сплю, опять на часах. При мерном, железном ходе бытия.
И раскололся надвое мой сияющий временной круг, и осыпалась иглами осенней лиственницы моя цифирь, ожерелья узорных дыр - удержать тя, Время моё, не хватит рук, а Раскол и есть мой, людие, суждённый Мiръ...
Надо нам восплакать о наших грехах! Надо побороть Времени страх! Тот счастлив, кто, Времени не убоясь, упал ликом в придорожную волглую грязь! Солнце в сердце дня! Луна на груди ночи моей! Раскололось Время на время людей - и время без людей; раскололось, разбилось на вневременье и времён Ход Страстной - душа, ты хоть одна там, в вечной ночи, не забудь, што тут стряслося со мной!
Прорастают травы, зело красивы, цветиками цветут; червонны, лазоревы, снежнобелые, небесные, всякому по нраву, под ноги любовно ложатся там и тут; а мы-то, злыдни люди, их косим, косим... косу остро наточим, на Солнце блистает, по травам ходит, звенит... Мiръ вечно погибаем, непрощаем, невозвращаем, не подымется боле в зенит... Древеса сладчайшие! што тебе чащи Райскаго Сада! яблони, плоды в соку, малина, спелая услада, черника у светлово луга на боку... Не может, людие, быть таково, штобы весь возлюбленный мой окоём взял да погиб, истёк кровию снова... тогда дай, Боже, с ним вместе помереть, вдвоём!
Раскол! Ни благоуханья. Ни цвета. Ни кедра. Ни берёзы в молчаливом лесу. Раскол! Разымутся недра. Землю держит Господь на весу. На руках... реки с гор срываются водопадами... птица Сирин и птица Рух воспарят в синеву... не надо громко плакать, рыдати за двух...
Раскололась жизнь на Женщину и Мужчину. Раскололась на пищу и глад. Нет теперь у людей притину. Лишь глаза обречённо горят. Всякой твари невнятно Слово. Всякой птиченьке. Всякой змее. Умереть никогда не готовы. Ни на небе. Ни на земле.
Может, людие, я Адам?.. никово из вас не обижу, не предам. Никово за грязную монету не продам. Мне отмщение! и аз воздам. Только не идите кланяться мне в пояс и земно; не пластайтеся предо мною никто! Я лишь ваше разбитое зеркало. Не преподобный я, не святой. О, не святой я! Вы слышите! Слышите! Пусть во срубе приговорён стою, в бескрылой избе... Што карябаете там гусиным пёрышком... што тамо пишете... сказку новую, о новой голи-сарыни-голытьбе... Я Адам, пущай, а и где же Евва моя? Верная моя жёнка?.. а, вот ты, Настасья... раскололи и нас с тобой, раскололи... Слышу издаля, ты плачешь, инда робёнок, мышино, тонко, ни памяти, ни вьюги, ни песни, ни боли... Ни твоей колыбельной у новой младенческой зыбки... ни твоих рук-ног горячих, во постеле, под холщовою рубахой... я изранен весь, избит, а кровь засыхает липко, запекается, яко в ночи, в печи, твой пирог, похожий на плаху...
Тесто... тесто... хлеб... мы, всяк, тоже тесто... грубо нас валяют и месят... в печь швыряют... на жадном, диком огне выпекают... так, Жених я святой тебе... а ты мне святая Невеста... ты ждала мя месяцами, годами, веками... Ты ждала мя закатными лучами, заливными лугами, ты вязала имя моё рыбакам таинственным бреднем... ты бежала ко мне, спотыкаясь, неслушными босыми ногами, за верстою версту, за обедней обедню...
Душа моя - лесной студенец... бьётся-вьётся ключ... видать начало, а где же конец...
Настасья ли?.. эй, как зовут тя, девица?.. Лице твоё не знаю... неведома мне, незнакома... Болярыню - знаю... сестрицу ея, Авдотью Урусову, знаю... а ты кто, шальная... немая, босая... внезапней града и грома... пьяней голубиной сизой браги... крепче ягодной ярко-алой настойки... исполнена дикой зверьей отваги... стремленья безумней во вьюге скаканья праздничной тройки... куда ты, куда ты, от мя куда ты... Раскол, ты же видишь!.. земля плывёт под ногами... Раскол, то рушатся твердокаменные палаты, сосновые избы, еловые шалаши... и рыбье Время идёт по воде кругами...
Круги по воде... круги по воде!.. Круги, девчонка, по звёздному небу... Гляди, мы с тобой на кромке огня... без огня не прожить и дня... подпалит, и не охнем, примем судьбину... Никогда не хотел я быть, яко Бог, да и ты глядишь таково ясно, нежно, што зрю - нету страха в тебе, а есть лишь молитва Отцу и Сыну... И Духу Святому; держи Ево Слово во рту, выдыхай в мя последнею лаской - последний мой Ангел, бабью, девью твою красоту расскажи мне тишайшей последнею сказкой...
Я не лев, не змий, не бык!.. к тебе, яко к живой водице, приник... очами пью тя, душой испиваю... стоим на кромке огня, Раскол на излёте дня, сей миг и помрём, а вот душа, душа-то живая...
Стоим на краю Огня! Боле не живи без меня! Не живи без мя, девчонка, старуха, юница! Лишь любви для живём! дышим ея огнём! лишь любовью движима во мраке земля, расколи, а всё такая ж она сохранится... Всё такая ж приснится!.. летят лица, лица... я твоё-то забыл, девчонка, лисёнка... птица вещая ты моя... на краю бытия спой мне, птиченька, весело, звонко! Спой... да што хочешь спой!.. Сердце мне открой. Отвори душу. Распахни голые руки. Стой на ветру так - Христовым Крестом! Всё сей час! Всё потом! Всю великую смертную муку!
Вот, зри, свещи уж несут! Пламя дымное! Это наш с тобой, девка, Страшный Суд! Эх, и возгоримся же! Эх, и полетим по ветру огненными языками! Да, огненный мы, святой Народ! И, ведай, никто никогда не умрёт, ни до нас, ни после нас, ни меж нами!
Ты робёнком знала мя. Ты мой снег и моя земля. Ты мелькала мимо глазёнок моих, у мя под ногами, когда я бежал... когда тяжко, во хвори-жару, трудно дышал... когда Раскол предо мной расходился кровавыми, чужими кругами... Ты мой круг! Не разомкну крепких рук! Да не руками тя обымаю, слышишь ты, не руками! Но едино - душой! Задыхаюсь... постой... вот огонь, и рвётся-ползёт, и блажит между нами! Это он нас объял! А мы крепче скал! А мы-то стоим, а он гудит, гудит красным кровавым гулом! Это, милая, так наша кровь гудит стократ. Это звенит наш набат! Штобы душа наша, ленивица, сонливица, ни на миг не уснула!
Како Христос Бог сказал: молитесь и бдите! Да вяжутся пламени нити! Да свяжут нас, юница моя, дитёнок мой малый, детонька, Ангельчик милый, крепко-накрепко... а где и где ж мальчонка-то твой?.. Што шепчешь?.. уж звездою над головой?.. уже в небесех?.. уж там, в горнем сиянии, за могилой...
Нет могилы и нет! Есть только вольный, непомерный Свет! Ево побороть хотят, расколоть - а Он всё сияет, нетленный! Этот Свет, девчонка, он везде, он здесь! Может, то ты и есть! Ты - над бездною, над расколотой во брызги Вселенной!
Ну, а я-то с тобой! Царь Космос я с бородой! Аввакум я, протопоп аз есмь грешный, измождённый! Не отринь же мя! Не сведи с ума! Мы-то в пламени вечном, рабочем, подённом!
Ты работай, огнь чермной, жги-трудись! Вся такая наша жизнь! Только пламя! Только огнище! Для владыки-Царя! для смерда! для бунтаря! для последней - на торжище - нищей!
Я уж боле не ясырь. Я ныне сам себе богатырь!
Челобитные кровию поздно писать. Господь, Тебе исполать! Ты наш огненный Царь! Ты наше пламя! Обними крепче, дочка, отца своево! Это наше навек торжество! Это мы в народе воссияем кострами!
И пройдут века... и Сирин-птица в небеси воспоёт... и народится на свет Божий новый народ... и рассеется по расколотой земле, по осколкам ея, по кускам дымным, кровавым... и сберёт пепел наш в кисет, и мощам нашим даст обет, и споёт нам Иже херувимы и Вечную славу... Да, не Вечную память, а Вечную Славу; во Славе - наш кровоток; Слава живая, ей больно; Слава - основа и уток; ты прижмись, не вопи, больно будет недолго... мы люди... станем Ангелы... вознесёмся... не загрызут нас желтоглазые волки... боль перевяжут нам Адом и Раем... власы вьются костром... вспомяните нас, людие, молитвой-добром... мы горим!.. мы горим... горим!.. и сгораем...
***
(держись крепче)
Тебе сказати, как народ наш обнимается со смертию? Не знаешь. Забыл уже. А я помню! Санки, салазки за бечёвку бери! Тащи! Зимний день перламутровый изнутри. Во печи, в чугуне, мамкины кислые щи. Айда с горы кататься! Внизу река ледяная. Мы ищо дети. Мы не жили на свете. Вот сей час, тут живём. Холодно! Голодно! Весело! Стоим на ветру, на юру. Снега белый огонь. Гора над рекой крутая. Ты не святой. Я не святая! Я просто девчонка! Ты просто малец. Далеко во сугробе крест-голубец. Войне, ведьме, конец! Солнце злато льёт! Белая круча. В небесах туча. Нежный снег. Синий лёд. На салазки - верхом! Ты мальчишка? Старик? Тебя вниз столкну! Катись! Катишься?! Мимо мелькает жизнь. Быстро! Ищо быстрее! Ищо! Сердцу горячо. Девчонка! Смелей! Снегирь на ветке поёт, дуралей. Несёмся! Бешано! Вперёд! Нельзя назад! Лишь вперёд! Только вперёд! Разбиться не хочу! Боль под пятой! Санки! Розвальни! Стой! Нет! Нет!..
...никто. Никогда. Не умрёт.
Аще бо во Іеросалиме возрастет от Духа Святаго вера и тамо первее распространися, везде в правоверных возрасте, а не приде; от Іеросалима изшедше учаху языки, но и паки возвращахуся от востоку и до полудне и от запада во Іеросалим апостоли, и тамо прибежище им бе; во Іеросалиме бо и гроб Господень и Пречистая Богородицы Девы Марии, житие и успение и гроб ея чюдотворный на месте, нарицаемем Гепсинании, пребывает; но и в день воскресения на всяко лето преславно огнь с небеси сходя, на гробе Господни во Іеросалиме свещи вжигая православному патриарху с причтом поющим: Воскресение Твое, Христе Спасе, ангели поют на небесех. Воистинну благословен Господь от Сиона живый во Іеросалиме. И святый убо Захарий рече: обращуся и вселюся посреде Іеросалима. На Сион сниде Іоанн Дамаскин воспеть: радуйся Сионе святый, мати церквам, Божие жилище. В том бо Господь Бог тайну вечерю апостолом подаде, разумей же церковь, и нарече ю в жилище себе до века. Аще бо и чрез триста лет истинныя церкви во Іеросалиме не бе, одержания ради мучителей царей, до великаго царя Констянтина; но сих ради святыя места не погибоша. Пуста бо бысть церкви Іеросалимская за неистовство жидов; но благодати Божия не лишишася: от всея бо земли и моря преходят вси и благословение кипящее от Іеросалима взимают, о нем же пишет Феодорит на псалом сто перьвый: трилюбезен бо есть нам Сион, аще и зело пуст бысть, любима же и камения разореная и персть раскопанная ратными: память бо сих любезна есть нас ради содеянных в нем великих таин и благодатей. Но скращу за умножение свидетельств: в Книге бо о вере, в первом слове, ясне узрит кто.
Челобитная Александра, епископа Вятскаго,
к царю Алексею Михайловичу

Новые рукописи
- Берегите мужчин! Автор: Шелейкова Нина Жанр: Публицистика
- Утки Автор: Виктор Верин Жанр: Проза
- Долина царей Автор: Крюкова Елена Жанр: Проза
Книжные новинки
- "Осенние откровения" Ларисы Каменщиковой Автор: Информационная служба РОСА Жанр: Книги РОСА
- Заметки фенолога – 2024 Автор: Фирсов Геннадий Жанр: Книги РОСА
- Владимиров А.А. "Формирование микрогеометрии поверхности при вибрационном точении" Автор: Информационная служба РОСА Жанр: Книги РОСА


 Видеогалерея
Видеогалерея Фотогалерея
Фотогалерея Аудиогалерея
Аудиогалерея Магазин
Магазин