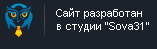Пленники поневоле и добровольные затворники. часть1
Дата: 24 Апреля 2020 Автор: Шелейкова Нина
Опыт жизни в условиях изоляции, физических и духовных испытаний.
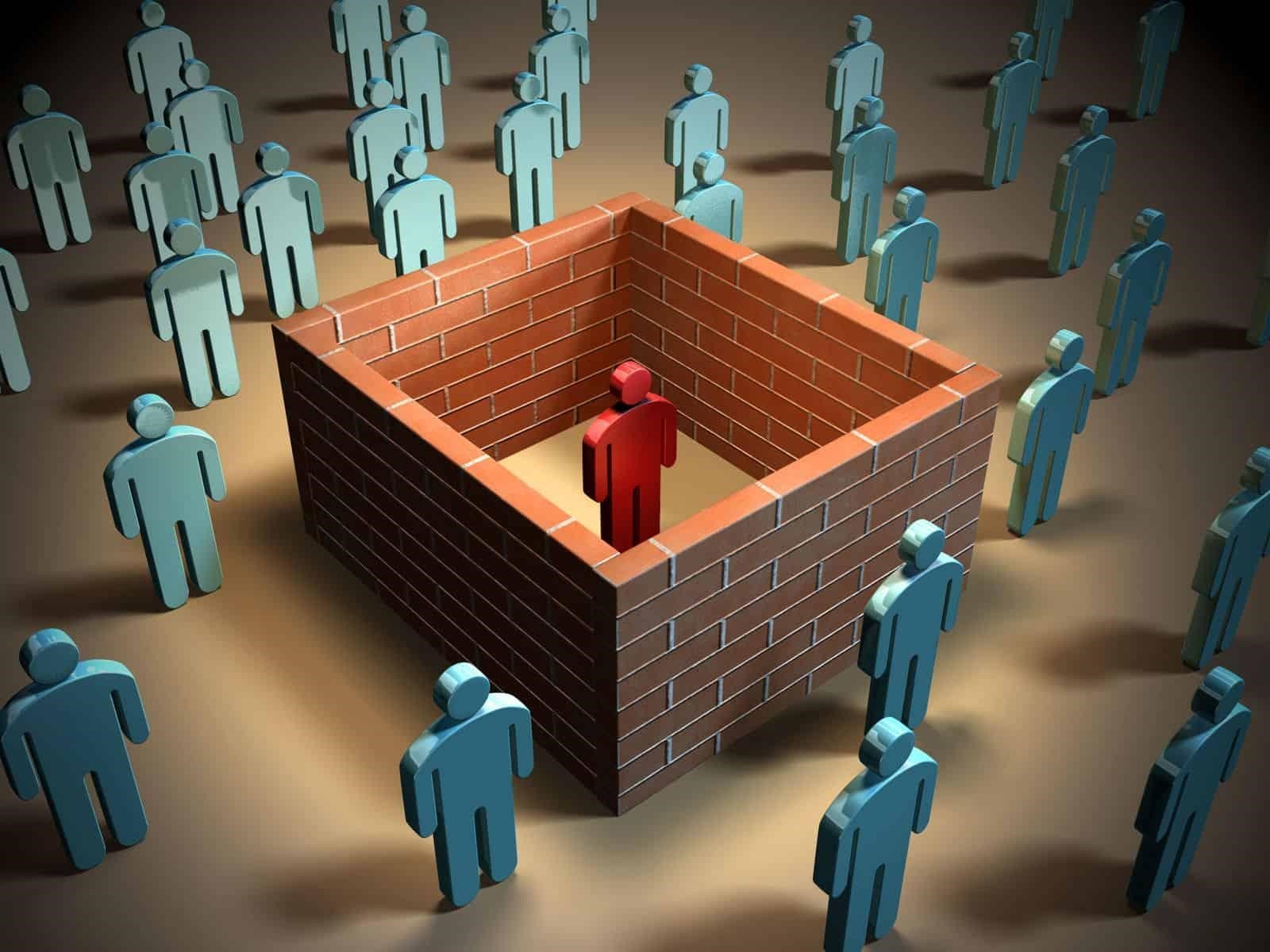
В первой части книги анализируется практический опыт выживания конкретных людей в условиях изоляции, физических и духовных испытаний: в тюрьме, ГУЛАГе; при социальной изоляции по причине «инакомыслия», новаторства или выбора пути духовного подвижничества и монашества; из-за физической или душевной болезни; в результате потери очень близкого человека.
Во второй части книги разнообразный опыт выживания в сложных жизненных условиях анализируется с позиций стресса и изменённых состояний сознания, способа включённости человека (реальной и воображаемой) в Единое Пространство Жизни (ЕПЖ). Представлен анализ широкого спектра духовных практик, методов и средств современного психоанализа, психотерапии, разнообразных подходов к управлению психикой и овладением эмоциями в сложных жизненных ситуациях. Автор комментирует представленный материал с позиций разнообразия «моделей мира» и излагает собственный «спектральный подход» к анализу и организации жизнедеятельности человека и общества на основании методология «Спектральная логика» В.П. Грибашёва.
Книга может быть полезна как людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, так и профессиональным психологам, психотерапевтам и политикам.
Посвящается Александру Александровичу Вакуленко и его дочери, Алёне Вакуленко
«ПЛЕННИКИ ПОНЕВОЛЕ И ДОБРОВОЛЬНЫЕ ЗАТВОРНИКИ»
Опыт жизни в условиях изоляции, физических и духовных испытаний
Часть первая
Введение.
1. Неисповедимы пути Господни. Конкретный опыт выживания людей в условиях изоляции, физических и духовных испытаний
1.1. Изоляция в тюрьме
1.2. «Враги народа», преступники, предатели и изгои
1.3. Крест творческого и социального новаторства («Тернистый путь людей, идущих впереди»)
1.4. Монашество и святость
1.5. Преодолеть или покориться? Трудная участь больных
1.6. Неприкаянные души, сумасшествие и тюрьма одиночества
1.7. Расплата за любовь. Вдовство, потеря родных и близких
Часть первая: введение
«И я говорю Вам: где бы вы ни увидели людей, какими правит
тайна, в этой тайне заключено зло. Если дьявол внушает, что
нечто слишком ужасно для глаза, - взгляните. Если он говорит,
что нечто слишком страшно для слуха, - вслушайтесь…И если
вам померещится, что некая истина невыносима, - вынесете её»
Г. Честертон. Тайна отца Брауна.
На первый взгляд может показаться, что все люди делятся на две категории:
1) те, кто ищет причину своих бед и благополучия вовне, в окружающем мире и обществе;
2) те, кто ищет причину своих неудач в себе и приписывает себе самому успех свершений.
Но в действительности, оба пути тесно переплетаются. К тому же на разных жизненных этапах тот или иной человек отдаёт предпочтение либо «внутреннему», либо «внешнему» поиску. Поскольку у автора отношение к жизни складывалось, в основном, пессимистическое, а собственный жизненный путь долго не просматривался, так как душа и разум не могли мириться с существующим порядком вещей и довольствоваться осязаемой реальностью, начался поиск глубоких, скрытых (эзотерических) знаний о себе и мире, подлинных учителей и новых друзей. Однажды, благодаря старшей подруге, удалось прочитать рукопись по «Агни-йоги». Меланхолия вдруг сменилась эйфорией, которая со временем угасла, но упрочила религиозные и философские искания, которые, как и сама жизнь, были трудны и не однозначны, но без них я вряд ли дожила бы до своего возраста. Благодаря «эзотерическому самоиздату» в СССР в 70-е и 80-е годы множество людей разных возрастов, прежде всего в Москве, как и автор, получили возможность значительно раньше, чем стало доступно сейчас всем желающим, соприкоснуться с теоретическим и практическим наследием христианства, йоги, буддизма, эзотерики, с книгами по здоровому образу жизни. Несмотря на официальный запрет издания и распространения подобной литературы, власти это увлечение преследовали лишь в крайних случаях. Нужная литература распространялась тогда в форме машинописных или ксероксных копий книг и брошюр, изданных в дореволюционное и раннее советское время, некоторых переводных и отечественных работ современников. Полученной информацией, знаниями обменивались на базе клубов и групп здоровья, копии материалов покупали у тех, кто имел возможность копировать; существовали даже библиотеки. Была распространена практика организации лекций и встреч с «продвинутыми» на пути знаний о себе и мире людьми на дому и в клубах.
Наиболее профессиональный и открытый обмен знаниями о человеке и мире, опытом здорового образа жизни осуществлялся на базе общественного Института Ювенологии (его занятия и лекции проходили в Клубе медработников в г. Москве на улице Герцена, ныне – улица Большая Никитская). Среди подвижников этого движения достаточно назвать основателя Института Ювенологии, доктора медицинских наук, психиатра Лазаря Марковича Сухаребского; специалиста по лечебному голоданию, профессора Юрия Сергеевича Николаева; философа А.Г. Спиркина; автора методики по волевой ликвидации глубокого дыхания (ВЛГД) доктора Константина Павловича Бутейко из Новосибирска; врача-нейрохирурга, ставшего натуропатом и замечательным лектором, Галину Сергеевну Шаталову; автора методики раскрытия биоэнергетических возможностей человека «Дуплекс-сфера» врача-психотерапевта Михаила Львовича Перепелицына; последователей оздоровительной системы и её своеобразных заповедей «Детка» Порфирия Корнеевича Иванова; основателя направления «роды без насилия» Игоря Борисовича Чарковского и многих, многих других. В ДК Академии имени Фрунзе моя подруга Валентина Ивановна Кувшинова в 80-е годы организовывала циклы лекций М.Л. Перепелицына, Ю.С. Николаева, Г.С. Шаталовой, В.Г. Ажажи, на которые устремлялись люди со всей Москвы. Благодаря такому, во многом стихийному, движению 70-х-80-х годов, мне, как и многим другим, стали доступны идеи Джона Лилли, Кришнамурти, Йоконанды, Шри Ауробиндо Гхоша, Осавы, Куши, Гурджиева, «Агни-йоги», труды отцов и старцев Русской Православной Церкви. В некоторых кругах пользовалась спросом экзотика некоторых полузапретных учений и систем - типа «Хари Кришна», Айванова и т.п. Люди с энтузиазмом осваивали рефлексотерапию, йогу, аутотренинг, различные формы медитации, фитотерапию, народную медицину, многочисленные разновидности натуропатии, то есть естественного оздоровления, включая лечебное голодание.
Я убеждена, что подобное приобщение к эзотерике и разнообразным формам, методам «здорового образа жизни», самосовершенствования не являлось формой социального протеста и «выпускания пара», полулегальным «хобби», как могут подумать некоторые, а представляло собой естественное дополнение официальной коммунистической идеологии, так как не противоречило её сути! Ведь для большинства адептов, последователей самых разных систем и учений таким образом осуществлялся «поиск себя» и оптимального образа жизни путём освоения многовекового опыта человечества, происходило «преодоление отчуждения человека от своей сущности», понимаемой, как совокупность всех человеческих отношений (почти по Марксу). Основной формальной (разрешённой властями) мотивацией, которая позволяла достаточно свободно изучать эзотерическое, философское и практическое достояние всех времён и народов, была идея формирования здорового образа жизни, с которой сочеталась идея самосовершенствования, включая самосовершенствование нравственное и духовное. И это не было для большинства искателей пустыми словами!
Между сторонниками комплексного самосовершенствования часто складывались неформальные, дружеские, почти братские отношения, возникали не только клубы по интересам, но и общины, поселения. Например, многие в г. Москве прошли в те годы через методику комплексного самопрограммирования Яна Ивановича Колтунова, участвовали в его воскресных пробегах в Подмосковье, регулярно посещали мероприятия клуба «Экополис» в Косино; участвовали в самодеятельности ДК «Каучук» на базе центра гармоничного развития личности под руководством Эльвиры Борисовны Семёновой; коллективно выезжали на сельскохозяйственные работы и стройки; ходили в походы (автор данной книги, например, в 1980 году совершила в составе группы из 6-ти человек под руководством врача А. Каткова поход на Тянь-Шань с десятидневным голоданием). Некоторые участники движения тех лет в последствии создали собственные школы и направления, сформулировали новые системы знаний о себе и мире, основали свои предприятия и фирмы. Среди них: астролог Александр Викторович Зараев, психотерапевт Михаил Львович Перепелицын, исследователь НЛО Вадим Чернобров, основатель первого Центра народной медицины Владимир Синьков, предприниматель Александр Геннадьевич Дмитриев, который на основе Центра МЖК при ЦК ВЛКСМ, а затем - павильона «Юные техники» ВДНХ (ВВЦ) и фирмы «Социальные инновации» в 1988-1992 гг. сплотил и организовал работу многочисленных подвижников здорового образа жизни и народной медицины (об этом автор написала и издала книгу «Это было так…История социальных новаций глазами очевидца: МЖК, фирма «СИ»). Часть социальных структур, созданных с помощью А.Г. Дмитриева в те годы, до сих пор работает.
Надо отметить основные тенденции, которые проявились в результате, во многом стихийного, но, наверное, неизбежного, социального движения по самосовершенствованию 70-х-80-х годов, которое, в той или иной степени, присуще российскому обществу и сейчас:
- формирование мировоззрения, психологических установок, ориентированных как на индивидуальное самосовершенствование, непрерывное обучение, здоровый образ жизни, так и на коллективный образ жизни, на идеи «космизма», «ноосферы», глобальной экологии (это мировоззрение можно назвать «космопланетарным»);
- стремление реализовать данные установки в повседневной жизни в форме неформального и сотрудничающего типа общения, путём самокритичного и требовательного, «рефлексивного» отношения к себе;
- создание на этой основе отечественных мировоззренческих и программирующих сознание («космопланетарных») философских и социальных теорий и практик, методик, систем представления о человеке и мироздании, которые в настоящее время известны в России и за рубежом;
- формирование, своего рода, духовной, эзотерической российской элиты.
Необходимо так же отметить двойственность, противоречивость этого движения как раньше, так и теперь. Но если раньше движение по комплексному самосовершенствованию человека и общества, даже будучи полулегальным, по своей сути не противоречило коммунистической идеологии, то в современной России приобщение к широкому комплексу знаний о человеке и мироздании противостоит фактическому «социальному заказу» на коммерциализацию сознания, рыночным отношениям, противоречит распространённому бытовому прагматизму и духовной монополии основных религий, поддерживаемых государством, либо приобрело уродливые, формы на базе многочисленных коммерческих фирм и центров.
Многие мои современники словно забыли, что надо удовлетворять потребность в познании мира и саморазвитии независимо от стремления к материальной прибыли, так как человек, мироздание в целом, всегда существовали и существуют в единстве духовных и материальных составляющих, а не за счёт их противоборства и разлада. Наиболее образно, на мой взгляд, это единство при всём его многообразии можно представить в форме «спектра» света. Но, благодаря «спектральной» природе человека и мироздания, в широких слоях российского общества по-прежнему существует насущная потребность не только во всех знаниях, которые накопило человечество о мироздании и месте в нём человека, но и стремление снова и снова овладевать новыми «измерениями» жизненного пространства, осваивать теорию и практику выживания в экстремальных условиях, при стрессе, которые с лихвой создаются социальными, экономическими, природными потрясениями и катастрофами. Обо всём этом свидетельствует не только оживление основных религиозных конфессий на территории России (православия, ислама, буддизма, иудаизма), строительство храмов, мечетей и синагог, возрождение монастырей и общин, но и издание многочисленных оригинальных и эпигонских, древних и современных работ философов, богословов, эзотериков, оккультистов, психологов и «народных умельцев» в сфере программирования человеческого сознания, формирования самого широкого мировоззрения и «нового» образа жизни.
Духовной элите России, взращенной на синтезе многих традиций, как и раньше, не удаётся в полной мере вписаться в сложившуюся социально-политическую систему и существенно повлиять на формирование мировоззрения российских граждан, но у неё по-прежнему есть свой благодарный почитатель, который вряд ли сможет выжить в условиях социально-экономического и природного кризисов без освоения широкого спектра средств выживания в различных жизненных ситуациях. Человечество за несколько тысячелетий истории накопило огромный арсенал средств, стратегий освоения разнообразных «параллельных миров» и «измерений полноты жизни», способов овладения «регуляцией», управлением самыми сложными психическими состояниями. Их предстоит научиться использовать для обеспечения дальнейшего выживания и, если получится, для достижения большей полноты жизни.
Надо отметить также неизбежность данного процесса во всём мире в свете необходимости формирования более целостного, системного взгляда на мироздание и место в нём человека с обязательным включением в него элементов эзотерического и религиозного знания, мироощущения и понимания высокой сложности и неоднозначности бытия и сознания.
Автор накопила немалый жизненный опыт, в теории и на практике изучила широкий спектр представлений о человеке и мире, не боится говорить на многие сложные и неприятные темы: о жизни и смерти; о болезни и здоровье; о любви и ненависти, о добре и зле. Я убеждена, что люди должны помогать друг другу и делиться не только радостями и горестями, но и жизненным опытом (для этого написала и издала несколько книг - все они указаны в аннотации на обложке данной книги). Упомяну лишь предпоследнюю работу: «Диалоги на вечные темы. Книга не для всех», так как она не только содержит информацию о различных системах знания о человеке и мире, излагает представления самого автора, но и послужила отправной точкой для написания книги нынешней.
По долгу службы я была составителем сборника «Письма избирателей во фракцию КПРФ в Государственной Думе в 2010 году», в котором есть раздел «Нам пишут из мест лишения свободы». Одному заключённому я послала свои «Диалоги» и получила ответ, что мою книгу будут там читать многие. Тогда я поняла, что мой читатель – это, прежде всего, неблагополучный человек, ограниченный в получении информации, пребывающий в физической или духовной изоляции, одинокий или несчастный, либо тот, кто вынужден размышлять на неудобные и сложные темы, искать себя, близкого человека и Бога… Так зародился замысел этой книги.
Моя книга, скорее всего, не для убеждённых оптимистов, жизнелюбов. Она, прежде всего, - для сомневающихся и уставших от жизни людей, и для тех, кто оказался в экстремальных, стрессовых, тупиковых условиях: в глубокой депрессии после утраты самого дорого в жизни или её смысла; в тюрьме – «за дело» или по судебной ошибке, навету недоброжелателей; на больничной или домашней койке без движения и без перспективы выздоровления; в повседневной суете борьбы за жизнь семьи; в завале рутинной и бесполезной работы; среди чужих по духу людей, превративших жизнь в настоящий ад…
Экстремальные, как и тупиковые, кризисные жизненные обстоятельства, на мой взгляд, тесно связаны со стрессом в различных формах его проявления, который описан в многочисленных трудах учёных и подвижников всех времён и народов. В этом случае меняется характер, психология восприятия мира, утрачивается прежняя «система координат», разрушается сложившаяся «модель мира». Стресс всегда сопровождается изменением (в той или иной степени) состояния сознания, характером восприятия реальности, то есть изменением внутреннего и внешнего пространства жизнедеятельности.
Иногда изменения, создающие стресс, непривычные состояния психики и соматики, душевные кризисы происходят в результате зримого перемещения в географическом, астрофизическом пространстве (например, при путешествии в открытый космос, на Крайний Север, при переезде в другой регион Земли и т.п.). Перестройка пространства жизнедеятельности, восприятия реальности возникает также при изменении социальных связей и взаимодействий (например, при тюремном заключении, смене места работы, уходе на пенсию, разводе и т.п.). Зачастую происходит комплексное изменение параметров жизнедеятельности, которые можно отнести как к внутреннему, так и внешнему пространству. Любое пространство жизнедеятельности при этом может или резко сужаться, «схлопываться до точки», или расширяться. Поэтому в экстремальных жизненных условиях, при стрессах и при любых перемещениях в физическом пространстве может, как усиливаться, так и ослабевать чувство изолированности человека от окружающей среды, как пропадать, так и нарастать способность к трансценденции, то есть склонность к расширенному восприятию времени и пространства жизнедеятельности. Дальше мы покажем это на конкретных примерах людей, оказавшихся в экстремальных условиях.
Меня интересует связь противоположных состояний сознания (изолированного, точечного и трансцендентного) не только с условиями, в которых находится человек, или с характером их изменений, но и со структурой, картиной или моделью мира конкретной личности. Ведь все «реальные» состояния экстремальной жизни, особых условий (тюрьма, изгнание из общества, изоляция из-за болезни и т.п.) имеют свои аналоги в психике человека, в его воображаемом мире. Психическое одиночество, изоляция переживается не менее, а, может быть, и ещё более остро, чем физическое и социальное разделение. Человечеству, наверное, предстоит более полно освоить пути, раскрыть методы перехода из одного состояние сознания в другое, научиться управлять своими состояниями сознания, освоить более сознательное путешествие во времени и пространстве индивидуальной и коллективной жизнедеятельности.
Но, читатели! Не ждите однозначных и всесильных рецептов. Наверное, их нет и быть не может! Каждый, кто уверяет, что знает единственный и самый верный путь к благополучию и преодолению любых страданий и стрессов, научился в совершенстве управлять своей психикой - во многом обманщик. Он либо скрывает свои кризисы и переживания, либо переоценивает свои возможности в их преодолении. Или просто не готов принимать жизнь в полной мере. Возможно, кому-то и поможет чужой совет, опыт, полученный в сложных обстоятельствах, но навязывать какие-то способы выживания и решения тех или иных проблем на основе своего опыта - не всегда правильно, так как каждый человек уникален. Ведь то, что помогает одному, часто бесполезно или даже вредно другому.
Если говорить о путях преодоления душевных кризисов и способах существования в экстремальных жизненных условиях, то они зависят от того, чем они вызваны, какие составляющие личности и в какой степени они охватили, на каком жизненном этапе находится данный человек, во что он верит и какой «моделью мира» сознательно или бессознательно руководствуется. Но почти каждый человек бывает вынужден самостоятельно, снова и снова, искать и находить, осваивать новые способы и методы выживания в сложных, стрессовых и экстремальных жизненных обстоятельствах, испытывать жизненные кризисы и трансформации, искать дорогу к более осознанной и полной жизни в предложенных ему Богом, природой и обществом обстоятельствах! Это, наверное, и составляет суть и смысл жизни, если они существуют!
Но в любом случае не вредно искать ответы в разных книгах, в теории и на практике изучать представления древних и современных людей о себе и мире. Поэтому цель моей книги – раскрыть многообразие выходов из жизненных кризисов и тупиков развития. Она – путь к пониманию себя и мира с опорой на огромный опыт человечества, на широкое разнообразие представлений о реальности, чтобы в океане жизни человек нашёл, по возможности, своё собственное место, которое, как говорил замечательный подвижник здорового образа жизни Порфирий Корнеевич Иванов, «никем не занято и не покупается ни за какие деньги».
Фактологической основой книги послужил, как личный опыт, так и опыт конкретных людей, перечислять которых отдельно нет смыслы, – их имена будут упоминаться по ходу повествования. Автор использует также сведения и знания, почерпнутые из религиозных, научных, художественных источников, список которых приведен в разделе «Литература»; ссылки на некоторые источники есть в самом тексте.
Концептуальной основой книги явились работы многих философов, психологов и психиатров (прежде всего, Антона Кемпинского и Леонида Александровича Китаева-Смыка), а также авторские подходы на основании методологии «Спектральная логика» Валентина Петровича Грибашёва.
Автором приводится также анализ путей преодоления самых разных стрессовых и экстремальных условий жизни, их классификация на основе методологии «Спектральная логика» В.П. Грибашёва, концепции «Регуляция полноты жизни» Н.И. Шелейковой.
В процессе написания книги у автора возникла проблема её завершения, так как вновь получаемый материал претендовал на включение в книгу, а у автора возникали всё новые и новые вопросы без ответов. Поэтому в незавершённости данного труда, открывающего всё новые и новые проблемы, наверное, и проявляется вечность самой жизни.
1. Неисповедимы пути Господни.
Конкретный опыт выживания людей в условиях изоляции, физических и духовных испытаний
«Wer immer strebend sich bemuht Den konnen wir erlosen.
/Спасти можно лишь того, кто неустанно борется за своё спасение/»
Гёте
Вынужденные лишения, ограничения свободы, изоляцию и неприязнь окружения, как и психические, духовные кризисы, в той или иной степени, испытали или испытывают все. Упадок сил, неблагоприятные состояния сознания, депрессия и резкое снижение интереса к жизни могут возникать у людей во время болезни, после утраты близких и любимых существ; при стрессах, связанных с потерей работы, утратой высокого или прежнего социального статуса (например, при выходе на пенсию); при переезде в другой город, регион страны или за границу. Не говоря уж о потере репутации вследствие уголовного преследования (в том числе, и незаконного), тех или иных протестных действий против существующей системы власти, либо вследствие новаторских исканий в сфере искусства, науки или духовной жизни.
В данном разделе автор покажет, как жестоко судьба, общество, власть предержащие, сама жизнь карают тех, кто не только нарушает законы, опасен для окружающих, но и попросту не вписывается в сложившийся регламент жизни, является назойливым «возмутителем спокойствия». Тюрьма и «психушка» – излюбленные места изоляции и наказания подобных людей. Хотя некоторые люди чувствуют себя в изоляции, «отщепенцами», «изгоями», даже находясь в гуще людей, так как их не удовлетворяют формальные или общепринятые отношения с окружающими, либо им приходится переносить тяжёлые гонения, презрение, непонимание своих близких и современников, даже не подвергаясь насильственной изоляции.
Болезнь, старость и дряхлость, психические отклонения, некоторые черты характера и особенности поведения (меланхолия, застенчивость, злобность, нетерпимость, зависть и т.п.) могут также способствовать изоляции от общества и даже стать причиной преступления, вести к насильственной изоляции.
В основе «отщепенства», в той или иной степени, лежит та или иная «инаковость» (по цвету кожи, национальности, взглядам на жизнь и устройство общества, способам мышления и образу жизни, по потребностям и возможностям). Источником и причиной неприятия, нетерпимости со стороны ближайшего окружения и общества в целом может стать излишняя, или, наоборот, недостаточная эмоциональность, отзывчивость, степень и способ включённости в те или иные социальные процессы, коммуникации и взаимодействия. Всем известно, что социум не жалует и разнообразных чудаков, социальных новаторов, изобретателей, которые, вольно или невольно, создают нагрузку на общество, заставляют его меняться. Ведь развиваться и меняться человеку почти всегда тяжело и даже больно! Во всех этих случаях вокруг подобного человека часто создаётся социальный вакуум, а его жизнь несёт печать одиночества или даже одичания, «отщепенства».
Крест одиночества несут нередко и люди избранные и знаменитые, богатые, хотя известность притягивает к ним массу самых разных людей. Но в ближайшем окружении далеко не всегда находится тот, кто по-настоящему может оценить дарование и стать адекватным партнёром, спутником жизни, верным другом на всю жизнь. Да и «закрученность», загруженность концертами, лекциями, работой, обязанностями и другими атрибутами повседневной жизни человека публичного и знаменитого часто мешает не только духовной жизни, но и не позволяет сменить или создать нужное окружение. Кроме того, контакты подобных людей отличаются неизбежным регламентом, заорганизованностью. В результате, в ближайшую «обойму» знаменитости попадают люди случайные или вообще откровенные проходимцы. А люди достойные и те, кто по-настоящему мог бы помочь преодолеть одиночество «звезды», пробиться к её душе и телу не могут, либо даже не хотят этого делать….Чтобы выбирать и, тем более, формировать сознательно своё окружение, необходимо иметь желание, волю и свободный запас времени и энергии для этого. К тому же надо оценивать не только себя, свои потребности и возможности, но и уметь выбирать и менять стереотипы своего восприятия мира и организации жизни.
Многие «звёзды» после окончания карьеры сознательно уединяются, уходят от мира, хотя далеко не всегда у них есть необходимый и душевный круг общения. Зачастую они чувствуют себя покинутыми и забытыми, несут печать обиды на общество, которое не оценило их заслуг, таланта, использовало и выкинуло на обочину жизни. Тем более что они привыкли быть в центре внимания, получать больший, чем обычные люди, объём энергии восхищения.
Автор убеждена: то качество, которое встречается иногда с лихвой в одном человеке, в той или иной степени всегда содержится в любом другом! Поэтому трудно отрицать, что почти каждый человек хоть немного «клоун», «дурак» и «депрессун». Конечно, важна мера содержания различных человеческих свойств, проявлений в структуре конкретной личности, как и их соотношение, взаимоотношение (так гласит «Спектральная логика» В.П. Грибашёва). Тем не менее, нет человека, который в тех или иных условиях не нарушал если не закон и общественную мораль общества, то их меру, что служило причиной его пусть временного, но «отщепенства» от окружающего мира.
Иногда уединения, изоляции хочется как единственного, лучшего способа обретения душевного равновесия, сохранения себя или достижения творческого вдохновения, либо как оптимального или единственного пути приближения к Богу. Некоторые выбирают этот путь на всю жизнь.
Данная книга позволит читателям узнать многочисленные примеры и способы жизнедеятельности людей в условиях изоляции от общества и себе подобных, в экстремальных, стрессовых условиях. Человек, оказавшийся в духовной или физической изоляции, в экстремальных условиях жизни, когда он испытывает зачастую сильные страдания, не только должен научиться их претерпевать, но ему нередко хочется получить однозначные и точные ответы на вопросы: «Почему я попал в эту ситуацию?» «Каким способом мне пережить данный жизненный кризис и есть ли ресурсы для этого?» «Что можно делать в сложных жизненных условиях?» «Что делать не нужно и даже нельзя?» «В чём моя жизненная миссия?»
В экстремальных жизненных условиях, как правило, возникает вопрос о смысле и бессмысленности жизни, предназначении человека и существовании Бога, о необходимости борьбы за жизнь любыми средствами и поиске особых методов и средств выживания. Поэтому надо попытаться ответить на ряд неудобных вопросов. Например, «Что лучше: «выживать» наперекор любым страданиям или «не жить вообще»? «Быть или не быть?» «Во всех ли случаях надо бороться за жизнь?» Выдержать страдания – это одно. Но какую цену приходится платить за это?
Зададимся также вопросом: как «безмерное» (на чей-то взгляд) страдание, инаковость, изгойность, замкнутость, отклонение от нормы вернуть к мере? Можно и нужно ли быть счастливым, испытав всю глубину страдания и отчаяния? Является ли счастье, успех и даже гармония обязательными и всегда желанными целями и достижениями человечества?
1.1. Изоляция в тюрьме
«Для тюрьмы характерно: нет будущего, либо оно страшит»
В. Буковский
Известный диссидент Владимир Буковский, которого в декабре 1976 года обменяли на первого секретаря чилийской компартии Луиса Корвалана, в своей книге даёт, своего рода, «методику» выживания в тюрьме, т.е. в насильственной и унизительной изоляции.
«… с древнейших времён привык человек считать, что всего страшнее на свете – смерть, безумие и тюрьма…Если безумие – это духовная смерть, духовная тюрьма, то и тюрьма – подобие смерти, а чаще всего и приводит человека к смерти или безумию… Эти вот три страха, живущие в человеке, используются обществом для наказания непокорных…»
В. Буковский констатирует: «…даже в тюрьме человеку должно быть не безразлично, что с ним станется…»
К опыту В. Буковского автор ещё вернётся.
Необходимо признать, что смерть, тюрьма и безумие – вечные спутники человечества, вечные угрозы и страхи, как и нищета, бедность, одиночество, те или иные формы изгойности, изоляции от общества. Тюрьма – «излюбленная» форма изоляции от общества не только преступников, но и людей неугодных существующему политическому, социальному устройству. Применялась тюрьма и заключение и в борьбе за духовную власть в рамках некоторых мировых религий (история инквизиции и старообрядчества – тому пример). Поэтому не могли избегнуть тюрьмы и даже смерти те, кто вступал в борьбу за власть или пытался сохранить её по праву высокого происхождения. Мемуары высоко поставленных заключённых могут поведать немало интересных подробностей жизни в изоляции.
Смена власти в той или иной стране никогда не происходит полностью бескровно. Жертвами переворота или революции почти всегда становятся монархи, президенты, генсеки и их окружение. Страдают от перемен и те, кто потерпел поражение в законной или незаконной борьбе за власть (например, Мария Стюарт и царевна Софья, сестра Петра 1). История античного мира, средних веков, как и Востока, изобилует описаниями убийств и изоляции цезарей, королей, принцев, шахов и духовных лидеров. Жертвами Великой Французской революции 1792-93 гг. стали Людовик ХV1, Филипп Орлеанский, Мария Антуанетта, которую в её скорбной доле поддерживала связь с возлюбленным Ферзеном и переписка с родными; потом через тюремные застенки и гильотину проходили сами творцы революции – Робеспьер, Дантон, Демулен…В изгнании в своё время на острове Елена оказался Наполеон. С честью перенесли своё низложение, изоляцию, заключение и смерть последние представители династии Романовых… Описания их страданий и способов поддержания душевного равновесия можно найти в соответствующей литературе.
Перечислим лишь несколько книг, в которые не вредно заглядывать тем, кто верит в торжество демократии, ищет рецепты идеальной системы правления или продолжает вещать от лица «абсолютной истины»:
«История инквизиции» в трёх томах;
И.Р. Григулевич «Инквизиция»;
Я. Шпренгер, Г. Инститорис «Молот ведьм»;
Т. Карлей «Французская революция»;
С. Цвейг «Мария Сюарт» и «Мария Антуанетта»;
Казанова «История моей жизни»;
Д.С. Мережковский «Наполеон»;
Е.В. Тарле «Наполеон»;
Е.Б. Черняк «Пять столетий тайной войны»;
«Последние дни Романовых»;
Р. К. Мэсси «Николай и Александра» и другие.
«История российского сыска» Петра Кошеля раскрывает много неприглядных страниц розыска, изоляции, пыток и наказания (вплоть до жестокой смерти) нарушителей нормальной жизни, преступников и неугодных властям людей (первая статья из череды законов о губной, территориальной, реформе об устройстве «лихих людей» появилась в 1555 году). На страницах книги П. Кошеля перед нами проходят описания мест для следствия и заключения: «Разбойная изба», «Преображенский приказ», застенки «Тайной канцелярии» (образована в 1702 году), «Тайная экспедиция», «III Отделение», ВЧК, ГПУ, наркоматы и министерства СССР и современной России. А также – их жертвы и затворники; палачи и провокаторы, революционеры и террористы всех мастей, следователи и идеологи. При этом жертвы иногда предполагают внедрение в жизнь не менее жёсткой системы наказания и борьбы с инакомыслием для случая, когда они придут к власти.
П.И. Пестель, например, в «Русской правде», в разделе «Записки о государственном управлении» прописывает функции охраны правительства, включая тайные розыски, шпионаж, систему денежного содержания жандармов, которая «должна быть втрое против полевых войск».
Вряд ли удастся взвесить на точных весах правосудия, общественного мнения или истории заслуги и ошибки Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК), созданной 20 декабря 1917 года. Во главе её встал Феликс Дзержинский. Необходимость создания такого органа была определена в письме Ленина к Дзержинскому от 7 декабря 1917 года. П. Кошель пишет в своей книге: «Выступая в тот же день с докладом на заседании Совнаркома, Ф. Дзержинский говорил: «Наша революция в опасности. Контрреволюция действует по всей стране, в разных места, вербуя отряды…Мы должны послать на этот фронт, самый опасный и самый жестокий, решительных, твёрдых, преданных, на всё готовых для защиты завоеваний революции товарищей». К опыту работы этой организации и описанию состояния её узников мы ещё вернёмся.
В современном мире список может быть пополнен именами Чаушеску, Милошевича, Саддама Хусейна, Каддафи… Смерти почти каждого из них предшествовала изоляция и заключение.
Тюрьма, конечно, бывает разная! Это может быть и грязная яма, холодная одиночная камера при голодном пайке; либо это каторжные работы, колония, поселение… Хорошие условия заключения могут отчасти облегчать стресс, депрессию, почти неизбежные при любой вынужденной и даже добровольной изоляции. Но даже удобная камера с телевизором или почётная ссылка – это, прежде всего, вынужденная (а не добровольная) изоляция, изгнание из привычной жизни, её разрушение, поэтому она сопряжена с тяжёлым стрессом и духовным, психическим кризисом. При этом важна не только причина вынужденной изоляции (бунт против существующего порядка вещей, жестокое преступление, неосознанный поступок, несправедливый донос или судебная ошибка), но и дальнейшая перспектива жизни заключённого (неотвратимость казни, её многолетнее ожидание или возможность скорого освобождения; возможность социальной реабилитации на свободе, полноценной включённости в социум или неотвратимость рецидива). Особая, наверное, судьба у осуждённых на пожизненное заключение (его исследование представлено в работе психолога В.С. Мухиной «Отчуждённые: абсолют отчуждения»).
Несомненно, что краеугольным камнем в условиях тюрьмы является состояние сознания и установка сознания. Ведь изоляция может быть добровольной (у монахов, духовных подвижников, например), а отношение к изоляции может колебаться от крайнего протеста, бунта и отчаяния до полного смирения и даже эффективного использования периода изоляции для интеллектуального и духовного развития, исследовательской работы.
В разделе «Ад на Земле» сборника «Поиски выхода. Преступность, уголовная политика, места заключения в постсоветском пространстве», подготовленного российскими правозащитниками (автор – Валерий Фёдорович Абрамкин), приводится такой отрывок из письма заключённого Бутырской тюрьмы: «Несколько раз, мне было так плохо, что я молил Бога о смерти…Я уверен, что настоящий ад не может быть настолько страшным, как этот ад, придуманный людьми. Ведь Господь милосерден, в отличие от людей…»
На мой взгляд, это высказывание отражает не только специфику тюремного заключения, но и состояние сознания конкретного заключённого (далее, на конкретных примерах мы покажем, каким разным может быть настрой заключённого, и от чего он зависит). Более того, состояние человека на свободе в силу тех или иных обстоятельств (психического расстройства, болезни, крайне выраженной формы одиночества или потери самых близких и любимых существ, отношений с соседями или сослуживцами) может быть не менее беспросветным, мрачным и бесперспективным. То есть физическая изоляция – вовсе не синоним изоляции духовной или интеллектуальной; далеко не всё в жизни конкретного человека (в том числе и заключённого) зависит лишь от внешних факторов, условий пребывания в том или ином месте. Не в меньшей степени, как мне кажется, состояние ума и сознание человека зависит от его волевого настроя, определяется индивидуальными особенностями и структурой личности, моделью мира.
Рассмотрим отношение к тюремному заключению и приёмы, способы выживания в его условиях на некоторых конкретных исторических и современных примерах.
Как сообщается в очерках русской истории 1700-1725 годов «Слово и дело», через важнейшую царскую тюрьму (Секретный дом Алексеевского равелина Петропавловской крепости, построенной в ХVIII веке) прошло несколько поколений непокорных людей, среди которых был А. Радищев, многие декабристы, участники польского освободительного движения, петрашевцы (в том числе Ф.М. Достоевский), М. Бакунин, Н.Г. Чернышевский, Д. Каракозов, многие шестидесятники, крупнейшие народовольцы, религиозные вольнодумцы, отвергавшие каноническое православие, а также – откровенные авантюристы и преступники. Были и совсем невинные жертвы.
Декабрист А.М. Бестужев так описывает момент заключения в камеру Алексеевского равелина: «Дверь, как крышка гроба, тихо затворилась, и двойной поворот ключа скрипом своим напомнил мне о гвоздях, заколачиваемых в последний дом усопшего…» В период своего заключения он не раз даже смерть «призывал, как единственную спасительницу от томительной неизвестности. Я находился в экзальтированном настроении христиан-мучеников в эпоху гонений. Я совершенно отрешился от всего земного и только страшился, чтобы не упасть духом, не оказать малодушия при страдании земной моей плоти, если смерть будет сопровождаться истязаниями». (Здесь и далее автор приводит цитаты из двухтомника «Алексеевский равелин»). В этих условиях священнослужители пытались добиться от декабристов чистосердечного признания, что с негодованием отвергалось многими. «Стены, выбеленные известью, - пишет Бестужев, - были все исчерчены надписями, иероглифами, силуэтами и прочими досужими занятиями живых мертвецов». Счёт шагов тюремщиков и перестукивание с другими заключёнными нарушали однообразие.
Декабрист Г.С. Батеньков в этих условиях «показываемым сумасшествием желает закрыть намерение своё лишить себя жизни истощением сил от неупотребления пищи и питья», - сообщается в одном донесении А.Х. Бенкендорфу. Батеньков пришёл к убеждению, что он должен отрешиться от мира, «с ноября 1827 до 1846 года» он испытал перелом, во время которого ему «было откровение, Слово Божие… , он стал чувствовать сильный пиитический восторг, непоколебимую веру Богу, стал выражать мысли обыкновенным размером стихов и ясно чувствовал, что это действие в душе высшей силы…» Батеньков был убеждён, что «…со мною происходит то самое, что происходило с пророками в день Пятидесятницы». Он начал слышать голоса, а «в день Пасхи, а может быть….в другой день Светлой недели, восторг достиг своей высшей ступени. Я почувствовал себя Творцом, равным Богу, и вместе с Богом решился разрушить мир и пересоздать». В последствии он пришёл от этих мыслей в ужас!
С точки зрения современной психологии, Батеньков испытал изменённое состояние сознания (ИСС), стадии которого описаны многими духовными подвижниками и исследователями (Тартом и Лилли, например). Процесс «откровения» длился у Батенькова 20 лет. В 1846 году он был выслан в Томск, хотя за время заключения «отвык жить и едва говорю». В 1856 году он вернулся в Москву. Тем не менее, многие его заметки той поры свидетельствуют о полной умственной свежести.
Декабрист А.О. Корнилович из крепости писал «благоразумные советы», которые, по мнению исследователей жизни заключённых в Алексеевском равелине, «характеризуют не его мировоззрение, а скорее влияние тюремного заключения на психику человека». «Корнилович посиживал в крепости и пописывал, а начальник Третьего отделения его писания почитывал. Отношения между узником и тюремщиком были наилучшие».
Описания каторжной тюрьмы в Сибири, а также условий ссылки декабристов содержатся в многочисленных их мемуарах, воспоминаниях жён декабристов, разделивших участь мужей, а также – их родственников и друзей.
Мария Волконская, жена декабриста Сергея Волконского, в своих воспоминаниях подробно описывает тюрьму на территории Благодатского рудника: «Тюрьма находилась у подножия высокой горы; это была прежняя казарма, тесная, грязная, отвратительная….Тюрьма состояла из двух комнат, разделённых большими, холодными сенями. Одна из них была занята беглыми каторжными; вновь пойманные, они содержались в кандалах. Другая комната была предназначена нашим государственным преступникам; входная её часть занята была солдатами и унтер-офицером, курившими отвратительный табак и никогда не заботившимися о чистоте помещения. Вдоль стен комнаты находились сделанные из досок некоторого рода конуры или клетки, назначенные для заключённых…Отделение Сергея имело только три аршина в длину и два в ширину; оно было так низко, что в нём нельзя было стоять; он занимал его вместе с Трубецким и Оболенским. Последний, для кровати которого не было места, велел прикрепить для себя доски над кроватью Трубецкого». Волконская только два раза в неделю ходила на свидание с мужем.
Тяготы заключённых иногда усугублялись разными «нововведениями». Так, например, вместо совместного обеда им назначили обедать в своих конурах «что будет подано», из экономии перестали давать свечи, и они оставались без света в своих клетках с 3-х часов пополудни до 7 часов утра зимой. В ответ декабристы объявили голодовку; возникла угроза телесного наказания, но после вмешательства жён, офицер, ужесточивший режим содержания декабристов, был уволен, заключённым разрешили вновь освещение и совместные трапезы.
На них нападали «клопы в таком количестве, что Трубецкой натирал себя скипидаром, и то не помогало».
Поскольку не везде были рудники, декабристов заставляли чистить казённые хлева и давно заброшенные конюшни, подметать улицы летом, молоть муку на ручных мельницах и т.п.
Кстати, в результате восстания декабристов на Сенатской площади в 1825 году пострадали не только дворяне. Более 1000 солдат, которые не понимали, что происходит, прогнали сквозь строй. Во время экзекуции умерло около 150 человек, о чём пишет В. Нагорный в книге «Родоведение» (Иркутск, 2013). Он также справедливо заметил, что про жизнь в тюрьме и ссылке дворян известно «всё до мелочей. А вот про сосланных солдат и унтер-офицеров, т.е. представителей простого народа, мы не знаем ничего. Их было сослано в Сибирь около 800 человек. Никто не считал, зачем их считать, ведь они от сохи». «Достоверно известно, что солдатки все поголовно пошли за мужьями в Сибирь, причём взяли с собой детей. И жили они там не как дворяне-декабристы, а в нужде великой».
Интересно отметить, что внук декабриста Сергея Волконского в своих воспоминаниях ставит под сомнение духовную преемственность между революционерами в лице декабристов и эмигрантами типа Герцена, Огарёва, Бакунина (их он относит к «отцам») и более поздними, молодыми революционерами. Два последних поколения революционеров к тому же резко различались между собой уровнем культуры: эмигранты типа Герцена были европейски образованными, с ними можно было не соглашаться, но можно было спорить. Вторые были «люди выкрика и насмешки, галдежа и хуления; люди, опрокидывавшие авторитеты и потому сами себя авторитета лишавшие». Критику старшего эмигрантского поколения революционеров декабристом Сергеем Волконским приводит его внук тоже Сергей Волконский: «… человек должен иметь мужество своих убеждений в своей стране, не выезжать за границу…он находил, что сидеть в Лондоне и на глазах Европы выносить сор из избы, как делал Герцен в своём «Колоколе», недостойно человека, который любит родину. Так думал мой дед, и так же думали декабристы». К тому же все декабристы были глубоко религиозными людьми, а последующие поколения революционеров отличались нигилизмом и безбожием. Критикуя, в частности, народничество, внук декабриста отмечает: «Только любовь даёт творческую силу, ненависть способна лишь разрушать», а «классовая закоренелость скрывала от их взора то, что есть в человеческой природе общего, единого…». (Но как в этом случае совершать любой переворот и революцию, ведь и Великая Октябрьская социалистическая революция, строительство СССР не обошлись без эмиграции некоторых носителей великих социальных замыслов и даже без зарубежных финансирований?).
После смерти Марии Николаевны Волконской (10 августа 1863 года на 58 году жизни), как свидетельствует её внук, «жизнь Сергея Григорьевича была постепенным физическим угасанием. Поездка за границу уже не помогала; он вернулся в Воронки, чтобы, как он выражался, «сложить жизнь рядом с той, которая ему её сохранила». Ум его не угасал… Конец его был тих». Таковы были русские аристократы, затворники хоть и поневоле, но со стойкими и благородными убеждениями!
В 1851 году в Алексеевский равелин попал М.А. Бакунин. Его делу придавалось особое значение: между ним и Николаем 1 был лишь один посредник – шеф жандармов и глава Ш Отделения, граф А.Ф. Орлов, который сменил Бенкендорфа. До этого Бакунин два года провёл в саксонских и австрийских крепостях, в кандалах и даже прикованным к стене. Два раза ему объявляли смертный приговор.
За что же так его преследовало самодержавие? Прежде всего, за то, что он публично, печатным (в «Воззвании к славянам») и устным словом, первым из подданных российского государства оскорблял царя, называл его «голштино-готторпским барином на славянском престоле, тираном чужеземного происхождения, расчётливым деспотом без сердца», призывал к ниспровержению существующего порядка, к созданию общего союза европейских республик, основанного на свободе, равенстве и братстве. За возмутительную речь против России в собрании польских выходцев в Париже он был выслан из Франции, но продолжал участвовать в подготовке польского восстания в южных губерниях России. Бакунин был и среди дрезденских мятежников, за что был арестован и приговорен к смертной казни. Он очень боялся выдачи в Россию, так как связывал это с невыносимыми условиями содержания, пытками и т.п. Два раза пытался уморить себя голодом. Но в 1851 году правительство Австрии передало его России, и по Высочайшему повелению он был заключён в Алексеевский равелин, где оказался в условиях полного одиночества, но без кандалов, с прогулками и чтением. Орлов предложил Бакунину написать исповедь всех прегрешений царю, как духовному отцу. Как пишут авторы книги «Алексеевский равелин», «в мертвящей тишине одиночного заключения создаются зыбкие психологические фантомы. Чувство действительности становится неверным: мечты сливаются с действительностью, между тем и другим теряется различие. В душе Бакунина смена или, вернее, подмена идеологии могла осуществиться с тем большей лёгкостью, что новая тюремная идеология была, в конце концов, не новой, а старой, привычной, патриархальной, в которой он воспитывался и рос». Как признавался сам Бакунин, «когда он был юнкером в Артиллерийском училище, он так же, как все товарищи, страстно любил Николая Павловича…одно слово «Государь едет» - приводило всех в невыразимый восторг, и все стремились к нему навстречу…» Поэтому Бакунин разразился подробнейшей, откровенной и весьма аналитической «Исповедью». (Я удивляюсь: неужели царь действительно внимательно прочёл её - современные «самодержцы» вряд ли способны на подобное!). В «Исповеди» Бакунин обрисовал общую слабость революционных движений Европы и тщету своих усилий. «Государь! Я преступник великий и не заслуживающий помилования!...», - писал он, но при этом просил заменить пожизненное заключение каторжными работами и разрешить проститься с семейством. Последняя просьба была удовлетворена, и он имел три свидания с родными в крепости.
Надо отметить, что Бакунин любил учить других, включая родных и близких, что делал во всех своих письмах. Покидая Россию, он разорвал отношения с отцом и семьёй (он имел трёх сестёр и пятерых братьев), но через 10 лет восстановил их. В крепости Бакунин не только писал (ему разрешалось иметь чернила и бумагу), переписывался с родными, но и читал – о его чтении заботилось Ш Отделение. Перед обедом ему давали рюмку водки, водили на прогулки, ему разрешались передачи и даже иметь деньги. В Шлиссельбургской крепости, в которую он был переведен 12 марта 1854 года (после закрытия Алексеевского равелина), Бакунин пользовался теми же послаблениями. С помощью родных Бакунин добился в 1857 году замены тюремного заключения ссылкой в Сибирь на поселение.
Н.Г. Чернышевский попал в Алексеевский равелин 7 июля 1862 года по «Делу о лицах, обвиняемых в сношениях с лондонскими пропагандистами», то есть Герценом, Огарёвым, Бакуниным. 20 мая 1864 года он был отправлен на каторгу. Чернышевский в равелине знал два положения – «сижу и лежу», и два занятия – «пишу и читаю». На прогулки он не любил ходить, написал очень много работ, включая известный роман «Что делать?». Большая часть работ не опубликована.
За покушение на Александра П попал в крепость в апреле 1866 года Дмитрий Каракозов, для воздействия на которого во время следствия, кроме предательства и обмана, была использована и религия. Трудно сказать, насколько раскаяние Каракозова и примирение его с Богом под воздействием отца Полисадова (оно включало и богослужение в присутствии заключённого) было искренним. Тем не менее, по некоторым свидетельствам, Каракозов переживал в Алексеевском равелине душевную болезнь, надлом, пересматривал основы своего мировоззрения.
Нам представляется это не предательством, а естественным изменением сознания, отходом от жёсткой позиции категоричного мышления «или-или», дуализма, бинарной модели мира, которая, по авторской концепции «Спектральной логики», не соответствует реальной структуре мироздания. Переход к более широкому мировоззрению иногда осуществляется не только под воздействием духовной, религиозной практики, но и через сильный стресс, которым всегда является тюремное заключение и угроза смерти. Тем не менее, Каракозов не до конца осудил своё дело, хотя признался в тяжком преступлении, но убеждал следствие, что совершал его ради блага народа. 2 сентября его казнили.
Уникальный опыт тюремной самоорганизации и противостояния судебной и тюремной системе представляет собой история содержания в Алексеевском равелине Сергея Геннадьевича Нечаева, арестованного в Швейцарии 19 октября 1872 года. На суде (его приговорили к 20 годам каторги) он отрицал любое право судить его. Несмотря на обвинение в убийстве Иванова, он считал себя политическим преступником, так как был убеждён, что за всем стоит стремление устранить его, как «беспокойную личность». На обряде гражданской казни на Конной площади Нечаев отказался выслушать напутствие священника и при входе на эшафот закричал: «Тут будет скоро гильотина, тут сложат головы те, которые привезли меня сюда!...» Когда его привязали к позорному столбу, он кричал из всех сил: «Долой царя! Да здравствует свобода! Да здравствует вольный русский народ!» Сами понимаете, что подобного человека Александр П пожелал навсегда поместить в крепость.
Главным интересом и поддержкой Нечаева в крепости были книги, «борьбу» за которые он вёл постоянно, даже путём голодовок. Сидел он тихо: много читал и писал. В своих работах он отвергал идею ненасильственного переворота и считал ненависть одной из важнейших сил общественного деятеля. Когда его лишили права писать на бумаге, он начал писать на стене чернилами из сажи. Возможно, это особое положение узника и привлекло к нему внимание стражников, которым было запрещено разговаривать с заключёнными. Для преодоления своей изоляции Нечаев разработал и реализовал целый план. Со страстью мученика он говорил и говорил тюремщикам о своих страданиях, о несправедливости суда и людей, апеллируя и к их собственной участи «скота несмысленного», поражал их прозорливостью грядущих событий, говорил о неотвратимости смены строя в России. В результате тюремщики стали служить ему, он сделал из них своих людей, ему открылась прямая дорога к их уму и сердцу! Ему не только стали приносить нужные книги и газеты, но и выполнять многие его поручения.
28 ноября 1879 года в Алексеевский равелин был внедрён новый узник, Леон Мирский (за покушение на шефа жандармов А.Р. Дрентельна), который отличался обилием жизненных сил и бесконечной любовью к жизни. Позднее, как убеждены историки, он и выдал деятельность Нечаева, который после заключения в каземат представителя «Народной воли» С.Г. Ширяева установил связь с этой организацией и стал готовить побег. Он разработал фантастический план: после своего освобождения заключить царя в крепость и провозгласить царём наследника…Но из-за необходимости реализации очередной, седьмой, попытки покушения на царя побег Нечаева был отложен. 1 марта 1881 года Александр П был убит и несмотря на нити связи «Народной воли» с Нечаевым, смену руководства тюрьмы, деятельность Нечаева по разложению её персонала была раскрыта, возможно, лишь с помощью Л. Мирского.
Масштаб разложения тюремного персонала Нечаевым иллюстрируется авторами книги «Алексеевский равелин» так: «Если бы кто-то из начальства неожиданно нагрянул в равелин, он мог бы остолбенеть от изумления. В дежурной комнате галдеж. Солдаты читают не только газеты, но и свежие прокламации, и последние номера «Народной воли», некоторые из них учатся шифровать письма по рецепту Нечаева; по коридору без всякой субординации ходят дежурные, а около двери камеры № 5, вынеся стул из дежурной, сидит жандармский унтер-офицер и наслаждается рассказом узника № 5. Или же узник № 5, который был лишён права писать,…усидчиво писал и зашифровывал за своим столом записочки на волю, а конвойные охраняли его: неровен час! А с вечера ходившие за старших в караул…выписывали из наряда фамилии часовых, которые должны будут на другой день стоять на часах у камеры № 5, и передавали списочек Нечаеву, Нечаев обдумывал списочек и давал наряд на работу. По временам производилась уплата гонорара солдатам…».
Нечаев получал деньги с воли, но раздавал их не сам, а через солдат, указывая лишь суммы. Но в декабре 1881 г. – декабре 1882 г. было привлечено к дознанию по делу о пропаганде 69 человек, большая часть которых была осуждена на каторжные работы и к ссылке. После этого Нечаев был окончательно изолирован (к нему даже не допускали священника), он умер в своей камере 21 ноября 1882 года.
26-27 марта 1882 года произошло невиданное наполнение Алексеевского равелина народовольцами, среди которых был Николай Клеточников, Александр Михайлов и Николай Морозов. Судьба многих из них трагична (некоторые умерли или сошли с ума). Народоволец П.С. Поливанов, написавший позднее свои воспоминания, отмечая поддержку Н.Н. Колодкевича, который из-за болезни «стоял уже одною ногой в могиле», писал о том, как пытался доказать ему, «что небытие предпочтительнее бытия, потому что оно составляет единственно реальное, единственно доступное человеку блаженство; что люди должны считать самыми счастливыми часами своей жизни те, которые они провели в крепком, глубоком сне, не нарушавшемся сновидениями…, хотя раз явившись на свет, человек жадно хватается за жизнь и упорно создаёт себе иллюзию за иллюзией, надежду за надеждой по мере того, как они друг за другом разбиваются действительностью…, в том случае, когда это зависело бы исключительно от его желания, - каждый, наверное, ответит: предпочёл бы не родиться…» Колодкевич возразил на это откровение Поливанову, что сам он «предпочел бы родиться и узнать, что такое бытие, что такое жизнь, чем не родиться и не знать этого». Вот такой, поистине сокровенный и вечно актуальный, спор!
Потрясающим примером выживания в условиях крайней изоляции является история известнейшего революционера-народовольца и учёного, 25 лет просидевшего в Шлиссельбургской крепости, Николая Александровича Морозова. Он был незаконным сыном (родился в 1854 году) состоятельного дворянина П.А. Щепочкина и дочери кузнеца, Анны Васильевны Морозовой, которая стала хозяйкой имения своего незаконного мужа, родив от него несколько детей. Морозов ещё в гимназии определил своё предназначение – служить человечеству через науку, но, соприкоснувшись с революционной литературой, науку соединяет с борьбой за «свободу, равенство и братство». Позднее он вступает в 1 Интернационал, встречается в Лондоне с Карлом Марксом; к нему с уважением относились Ленин, Луначарский. Советская власть увековечила его ещё при жизни (он умер в 1946 году, на 93 году жизни), вернула ему имение отца, которое после его смерти стало музеем.
В 1875 году Морозов был арестован в первый раз и, находясь в Тверской части города Москвы, потерял самообладание. Позднее он писал: «…у меня и действительно был тогда приступ острого помешательства, которое развилось бы в настоящее, если бы заключение без книг продолжалось несколько месяцев». Полученный тогда опыт позволил Морозову позднее, в суровых условиях Шлиссельбургской крепости, полностью сохранять самообладание. Будучи членом организации «Народная воля», которая после нескольких неудачных покушений уничтожила царя Александра П, Н.А. Морозов был арестован 28 января 1881 года при переходе границы, посажен в Варшавскую цитадель, затем перевезен в Трубецкой бастион Петропавловской крепости и осуждён процессом «20-ти» к пожизненным каторжным работам, которые были заменены Александром П содержанием в Алексеевском равелине Петропавловской крепости. Кроме цинги от голода у Морозова там открылось кровохаркание – начался туберкулёз. Чтобы не дать воздуху разрывать язвочки лёгких, Морозов кашлял в подушку, болели ноги, он почти не мог ходить. Но он решил - во что бы то ни стало выжить, хотя узники Алексеевского равелина были лишены не только прогулок, физической работы, но и чтения книг. Заключённые фактически были погребены заживо! Из 10-ти товарищей Морозова в живых осталось пятеро, включая сошедшего с ума Айзика Арончика. Затворники несколько лет не слышали человеческого голоса. «…Я почти разучился говорить и не узнавал своего собственного голоса», - писал позднее Морозов. Наверное, не последнюю роль в выживании сыграла и ненависть к своим врагам – самодержавию.
В 1884 году революционер был переведен во вновь выстроенную тюрьму в Шлиссельбургской крепости, где режим был таков, что смерть по сравнению с ним казалась желанной. Из крепости он вышел на пятьдесят втором году жизни. Но что же, помимо ненависти к врагу, помогло ему выжить, хотя он постоянно болел? Каждое утро, минут пять, вместо гимнастики, несмотря на боль в ногах, он танцевал мазурку. Он писал сестре: «Это был, могу тебя уверить, ужасный танец: словно бьёшь босой ногой по гвоздям…но зато через две недели такой гимнастики, ревматизм был выбит из ступни и более туда не возвращался! Раза три совсем приходилось умирать от разных острых болезней, но каждый раз с успехом выдерживал борьбу со смертью».
Морозов, обладая исключительной волей, сумел создать в себе самом внутреннюю жизнь, поэтому позднее на вопрос одной из сотрудниц Верхне-Волжской базы АН СССР: «Николай Александрович, как же вы сумели просидеть в крепости почти 30 лет?» он ответил: «А я не в крепости сидел, я сидел во Вселенной». М.Н. Тригони, просидевший в крепости также 25 лет, на аналогичный вопрос о Морозове ответил: «В крепости это мы сидели, а Николай Александрович в это время витал в облаках». Помогал ему и запас знаний, поэтому он в начале работал по памяти, усилием воли заставлял себя думать. На воле Морозов не любил шутить, но в тюрьме научился выдумывать смешные истории, мистификации. Позднее он производил на людей впечатление очень живого и даже смешливого человека.
Но богатая внутренняя жизнь, воображение, таили в себе и опасность, так как «грёзы безумные» способствовали власти подсознательных и бессознательных сил, которые во сне порождали кошмары. Позднее Морозов писал о состоянии человека, для которого вся жизнь на воле заключалась в общественной деятельности, а его живым и одиноким замуровали в гробницу: «Его мысль…вертится, как в заколдованном кругу, пока через несколько лет всё перемешается в его голове, и он впадёт в тихое или в буйное помешательство».
В этих условиях люди находятся в состоянии неустойчивого равновесия, при котором даже слабый внешний толчок может привести к безумному поступку – повеситься или сойти с ума. Безумный рёв, крики умалишённых, удары их кулаков в гулкую дверь являлись дополнительным источником невыносимых мук для заключённых. Поэтому, наверное, в этих условиях борьба за перестукивание между заключёнными превращалась в борьбу за жизнь. Некоторые приручали мышей и даже пауков, один заключённый вывел цыплят из яиц, которые ему приносили жандармы. (Кстати, в условиях тюрьмы известный революционер и учёный Пётр Кропоткин учился лаять по-собачьи; знакомые отмечали особую солнечность его натуры, отсутствие внутренней и внешней дисгармонии; во многом гармоничной была и его личная, семейная жизнь, творчество). Морозов ловил в камере мух, собирал их в баночку и выпускал на прогулке (их постепенно разрешили, как и общение, физическую работу, чтение и письмо, которое давалось в первое время нелегко – Морозову казалось, что он не сможет выдавить из себя ни строчки!) Хотя приходилось преодолевать и инерцию работы за столом – он усилием воли переключался на физическую гимнастику по своей системе. 26 томов рукописей по астрономии, истории, химии, математике и другим наукам вывез Морозов из крепости при освобождении! Среди них - многотомное сочинение «Христос», «Откровение в грозе и буре» (об истории возникновения Апокалипсиса) и множество других новаторских работ.
Психическими заболеваниями страдали не только заключённые, но и представители администрации, охраны, которые общались только с заключёнными и умалишёнными, были изолированы от внешнего мира. Они сходили с ума, их разбивал паралич, хотя среди них встречались почти «нелюди», в глазах которых отсутствовала какая-либо мысль.
Освободившись в 1905 году, Морозов не только сделал много для науки, как учёный и руководитель, опередив своё время, стал авиатором, но и счастливо женился на молодой девушке, дочери генерала, пианистке Ксении Алексеевне Бориславской, с которой прожил почти сорок лет. В научной работе находил он отдых и умел совершенно отрешаться от окружающей действительности, иногда даже путал дни недели, часы, не замечал близких людей, что не мешало ему быть гостеприимным хозяином и интереснейшим лектором и собеседником. Отвечая на вопрос о способе выживании в условиях, когда даже тишина была пыткой, Морозов заметил, что в этих условиях «одно только нужно: меньше думать о себе!». Даже в крепости он просыпался с радостью и начинал петь, так как мысленно улетал из стен своей гробницы в мир органической природы, в глубину веков или в далёкие мировые пространства. «В крошечное окошечко мне был виден клочок звёздного неба. Это помогало мне чувствовать себя пылинкой во вселенной! И тогда мои переживания казались мне ничтожными». И хотя Н.А. Морозов выступал против церкви, как политической организации, стоящей на службе у господствующего класса, он считал, что «учение о единстве сил вселенной есть в то же время и учение о нашем единстве со вселенной, о том, что наша психика и наше сознание не отделены от неё непроницаемой перегородкой…»
Мы все знаем, что те, кто совершал революцию 1917 года, в той или иной степени прошёл через множество испытаний, среди которых была вынужденная изоляция от привычного окружения, общества в целом (эмиграция, тюрьма, ссылка).
Будущий председатель ВЧК, «железный Феликс» Дзержинский имел довольно чёткое представление о будущем и сильную волю, был одержим идеей искоренения несправедливости, ради которой сознательно обрекал себя на страдания. «Я всей душой стремлюсь к тому, чтобы не было на свете несправедливости, преступления, пьянства, разврата, излишеств, чрезмерной роскоши, публичных домов…, чтобы не было угнетения, братоубийственных войн, национальной вражды…Я хотел бы обнять своей любовью всё человечество, согреть его и очистить от грязи современной жизни». Ради этого он готов был «делать самую чёрную работу…», а силы духа, отмечает Ф. Дзержинский в 1901 году, «у меня хватит на тысячу лет, а то и больше». Тем не менее, он никогда не мог жить без любящих его людей, абстракцией и, прежде всего, без любви к женщине. Любовь для него означала «слиться душой, взять у другого всё лучшее, пробудиться к жизни». Находясь в ссылке в селе Кайгородское с 1887 года, в которой очень многие не только отходили от общественной и революционной деятельности, но даже спивались, Дзержинский находит поддержку в переписке с любимой девушкой, Маргаритой Фёдоровной Николаевой, которая была его единомышленницей. Он постоянно читает, преодолевает свою леность, в чём помогает ему врождённое стремление и желание постоянно учиться и систематически излагать свои мысли на бумаге. Но при этом он отмечает необходимость какой-нибудь посторонней силы, уважение которой он невольно хотел заслужить (это ли не Бог?). Он составляет жёсткий график своего дня, изучает иностранные языки и читает самую разнообразную литературу – от П.Ж. Прудона, Г.В.Ф. Гегеля, С.Н. Булгакова, К. Маркса, Ф. Энгельса – до И.С. Тургенева, Д.Н. Мамина-Сибиряка, Э.Л. Войнич, И.В. Гёте. Многие книги он читает с карандашом в руке и пишет своей возлюбленной, что «умственная работа требует общества, в общественном споре голова лучше работает». Он ищет связь личной нравственности с общественной пользой, изучает становление капитализма, пишет Маргарите о низком уровне культуры у крестьян, резко критикует Тургенева, который, по его мнению, учит только созерцать. И всё же Дзержинский 27 августа 1899 года бежит из села Кайгородское, в котором он находился в ссылке, так как его «тоска замучила»! После повторного ареста в январе 1900 года его высылают в город Вилюйск Якутской губернии.
В своих посланиях из «Мёртвого дома» (это дневниковые записи, сделанные им в тюрьме и ссылке, в которых он пробыл 11 лет) Ф.Э.Дзержинский надеется, что его дневник дойдёт до друзей, которые поймут, что «я был спокоен, что я звал их в момент тишины, печали и радостных дум и что мне хорошо настолько, насколько здесь может быть хорошо в тишине и одиночестве с мыслями о весне, о природе, о них…» (сборник: Дзержинский. Цитаты). При этом он по-прежнему мечтает о будущем: «Где выход из ада теперешней жизни, в которой господствует волчий закон эксплуатации, гнёта, насилия? Выход – в идее жизни, базирующейся на гармонии, жизни полной, охватывающей всё общество, всё человечество; выход – в идее социализма, идее солидарности трудящихся». При этом он откровенно признаётся в письме сестре Альдоне из Седлецкой тюрьмы 8 октября 1901 года: «Я намного моложе тебя, но думаю, что за свою короткую жизнь я впитал столько различных впечатлений, что любой старик мог бы похвастаться. И действительно, кто так живёт, как я, тот долго жить не может. Я не умею наполовину ненавидеть или наполовину любить. Я не умею отдать лишь половину души. Я могу отдать всю душу или не дам ничего…не сердись на меня за мои убеждения; в них нет места для ненависти к людям. Я возненавидел богатство, так как полюбил людей, так как я вижу и чувствую всеми струнами своей души, что сегодня…люди поклоняются золотому тельцу, который превратил человеческие души в скотские…и изгнал из сердца людей любовь. Альдона, не сердись! Помни, что в душе таких людей, как я, есть искра…, которая даёт счастье даже на костре».
Снова, как и в период ссылки, Дзержинский целыми днями читает беллетристику, с трудом отрываясь от чтения, чтобы пообедать. Он пишет в дневнике: «…после этого чтения хожу, как очумелый, словно я не бодрствовал, а спал и видел во сне разные эпохи, людей, природу, королей и нищих, вершины могущества и падения…И только по временам этот сон прерывается, возвращается кошмарная действительность».
Дзержинский пишет о потере способности в этих условиях вести разговор, о протестах и голодовках заключённых, о целой системе сигналов между ними, о выражении любви заключённых друг к другу и взаимной поддержке при всеобщей подозрительности и замкнутости в себе, о нежелании вставать с постели по утрам («начинающийся день пугает меня»), о страшной дрожи и беспокойстве, которая охватывает, когда очередного приговорённого к смерти ведут в камеру смертника или на казнь, об условиях содержания в многолюдных камерах (более 71 человека) и в одиночных, о прогулках, об отсутствии медицинской помощи и скудном питании, о железных оковах и умалишённых, об издевательствах, унижениях и пытках, о строгостях начальства к жандармам (их «за всякий пустяк наказывают карцером или заставляют по два часа, вытянувшись, стоять в канцелярии с обнажённой шашкой в руке») и их напускной жестокости, о необходимости ежедневной работы ума как средстве против апатии; об особенностях поведения женщин в условиях тюрьмы, о нежелании жить в этих условиях, о своих мыслях о самоубийстве и ощущении близости смерти.
2 мая 1908 года после визита к нему полковника, который расспрашивал об условиях его содержания, он испытал приступ жуткой ненависти, физического отвращения и с горечью пишет в дневнике: «Я возвратился в свою камеру, чувствуя, что у меня сейчас не хватит сил на обычное моё спокойствие…Я почувствовал на себе грязь, человеческую грязь…Зло, словно раскалёнными железными клещами, рвёт и жжёт живое тело живого человека и ослепляет его. Оно заслоняет весь мир, чтобы каждую частичку, каждое дыхание, каждый атом наполнился болью, - ужасной болью. «Безумие и ужас» - так назвал войну Андреев; но жизнь – это нечто во сто раз худшее; вся жизнь, не только здесь в казематах». Не правда ли: парадоксальное прозрение «железного Феликса»?
Здесь хочу сравнить тюремное заключение в царское время и в период политических репрессий при ВЧК и Сталине. Воспоминаний и свидетельств об этом предостаточно! Н.М. Коняев в книге «Трагедия ленинской гвардии» отмечает, что, поскольку сам Ф.Э.Дзержинский до революции «ни разу не провёл на свободе более трёх лет подряд. Всего он провёл в тюрьме, в том числе и на каторге, одиннадцать лет, три раза был в ссылке и всегда бежал», в тюрьме, по сути, и сформировался его характер. Не без иронии рассуждает Н.М. Коняев о том, что «свою жажду свободы и тоску по красоте и справедливости Феликс Эдмундович выплеснул в дальнейшем в своей знаменитой инструкции по обыскам, допросам и правилам содержания граждан в тюрьмах: «Обыск производить внезапно, сразу во всех камерах и так, чтобы находящиеся в одной не могли предупредить других. Забирать всю письменную литературу, главным образом небольшие листки на папиросной бумаге в виде писем. Искать тщательно на местах, где стоят параши, в оконных рамах, в штукатурке». Этот «шедевр в своём жанре» перекрывал все щёлочки для послаблений, более жёсткой инструкции тюремщики ещё не знали. Будучи уже начальником ВЧК в 1918 году Дзержинский выпустил всю обойму в одного балтийского матроса, который послал его «подальше» в ответ на замечание начальника. Кстати, В.И. Ленин сравнивал его с горячим конём, а случай этот рассматривался 26 февраля 1918 года на заседании ВЧК. Н.М. Коняев цитирует протокол: «Слушали о поступке т. Дзержинского. Постановили: ответственность за поступок несёт сам и он один, Дзержинский. Впредь же все решения вопросов о расстреле решаются в ВЧК, причём решения считаются положительными при половинном составе членов комиссии, а не персонально, как это имело место при поступке Дзержинского».
Жена и вдова видного деятеля социалистической революции 1917 года и партийного деятеля, Николая Ивановича Бухарина, которого В.И.Ленин за его живой, деятельный ум, многогранность интересов называл «золотое дитя революции», и с которым сам Сталин был часто как бы на равных, Анна Ларина в книге воспоминаний «Незабываемое» приводит красноречивые примеры той боли и унижения, которые царили в застенках НКВД в новой России, построенной не без участия Ф.Э. Дзержинского. Не подтверждает ли это тот факт, что прогресс человечества в целом, как и прогресс общественных отношений – всегда относителен. Чего стоит только один разговор Лариной с первым лицом НКВД Л. Берией, который предлагал ей фрукты и чай, но при этом грозил расстрелом, если она будет помнить и говорить другим о муже Н.И.Бухарине. Она пишет в своих воспоминаниях: «Об ужасающих пытках в Лефортовской тюрьме я слышала от сидевших одновременно со мной в томском лагере жён сотрудников НКВД. Я не успела спросить у А. Свердлова /следователя НКВД и сына Я. Свердлова/ для какой цели хочет он меня подвергнуть пыткам, как вдруг,….я почувствовала, что теряю зрение… - Что вы симулируете! – крикнул Андрей…» (К тюремным и лагерным воспоминаниям А. Лариной мы вернёмся в разделе 1.2, как и к «последнему бою Феликса Дзержинского»).
В своём тюремном дореволюционном дневнике Феликс Дзержинский отмечает различие тактики тюремных заключённых: если анархисты ведут непрекращающуюся борьбу по каждому поводу, протестуют из-за каждого пустяка, то другие заботятся, прежде всего, о сохранении своих сил, избегают любых столкновений, хотя продолжают отстаивать свои права и достоинство. Во время суда он испытал полную отстранённость от происходящего («я словно присутствовал на каком-то торжестве, не печальном, не ужасном, - на торжестве, которое вовсе меня не касалось»). Он не стыдится признаться в неприятии одиночества и приступах тоски. Размышляя о предстоящей каторге, Дзержинский испытывает ужас и сомневается, выдержит ли он, хотя и «рождается гордое желание выдержать». При этом «горячая жажда жизни прячется куда-то вглубь, остаётся лишь спокойствие кладбища. Если не хватит сил, придёт смерть, освободит от чувства бессилия и разрешит всё. И я спокоен». В период очередного приступа депрессии (4 июня 1909 года) он пишет: «То, что я писал вчера о героизме жизни, возможно, и неправда. Мы живём потому, что хотим жить несмотря ни на что. Бессилие убивает и опошляет души. Человек держится за жизнь, потому что он связан с нею тысячью нитей, печалей, надежд и привязанностей». И ещё: «Живёшь потому, что физические силы ещё не иссякли. И чувствуешь отвращение к себе за такую жизнь». Он признаётся даже в необходимости «механически искать забвения и отгонять мысли», в том, что «необходимо принуждать себя следить за течением не своих мыслей и добиваться того, чтобы самому включиться в них» (в это время его сокамерник рассказывает о своих охотничьих приключениях в Сибири, и «мы совместно строим планы, как будем бродяжничать пешком по деревням, лесам и горам Голиции», сочиняя всё новые детали и подробности этого фантастического проекта). Несмотря на то, что «заключённые по большей части целыми днями лежат сонные, раздражённые, склонные к ссорам, мучаются ужасно», среди них встречаются парадоксальные исключения. 23 июля 1909 года Феликс пишет в дневнике о некоем рабочем, который сидит уже около года и сообщает ему о себе: «Сознаюсь вам, что после работы и после пережитого на свободе мне кажется, что только здесь я и дышу полной грудью, и я чувствую себя счастливым, что у меня есть возможность собраться с мыслями и углубить необходимые знания, которые я черпаю здесь из книг. Меня это так занимает, что день кажется коротким, и, если бы не забота о семье, я бы с большим удовольствием просидел ещё долго…»
Для освоения опыта тюремного заключения и способов преодоления изоляции вождя Великой Октябрьской революции и первого руководителя Страны Советов В.И. Ленина можно обратиться к обширнейшей биографической литературе, но я предлагаю ознакомиться с самобытной интерпретацией его жизненного пути, представленной в книге Льва Данилкина «Пантократор солнечных пылинок». Если Вас не испугает название книги («пантократор» - от греческого «всевластитель» - это поясное изображение Христа, благославляющего правой рукой, и держащего Евангелие в левой руке; а «пылинки» - это то, что не позволяет, по теории немецкого астронома Ольберса, сияющим на небосклоне бесчисленным звёздам, образовать единое световое пространство; то есть космическая пыль является причиной ночной тьмы между бесчисленными звёздами, хотя современная физика сомневается в таком объяснении). Что хотел сказать Данилкин таким названием своей книги – думайте сами. Но книга его, на мой взгляд, очень своевременная, глубокая и познавательная, хотя многим не понравится: ведь у каждого человека – свой образ Ленина. Любые изменения сознания чреваты непредсказуемыми последствиями. И всё же упомяну лишь две темы повествования о Ленине из этой книги. Тюремное заключение, например, в одиночной камере в г. Санкт-Петербурге на улице Шпалерной, 25, в декабре 1895 года, ссылку в Шушенское (1887-1900 год) и затяжную эмиграцию в Лондоне, Париже и Швейцарии Ленин проходил стоически и, в основном, активно. В первом случае его четыре раза допрашивали, два раза в неделю он виделся с родными и работал над книгой, поэтому после освобождения даже отметил: «Жаль рано выпустили, надо было ещё немножко доработать». Ленин прекрасно плавал, много ходил вместе с Н.К. Крупской (в том числе они совершали горные восхождения), катался на коньках, ездил на велосипедах на большие расстояния…При этом очень много читал и был всегда в курсе основных мировых политических событий. Зато период своей вынужденной болезни и изоляции в Горках (1922-1924 гг.) он, «больной, изолированный и заживо мумифицированный», переживал очень мучительно. Его умирание Данилкин сравнивает с умиранием героя Л.Н. Толстого в «Смерти Ивана Ильича» . У Ленина оно не сопровождалось «воскресением души»: «это было не толстовское, а чеховское умирание – долгое, сознательное, очень русское: умирает чиновник, в русском пейзаже, над речкой и среди курганов вятичей, в коконе, вокруг которого – безумие теперь уже советской «палаты номер шесть». Жизнь даже гениального человека – это лишь отдельный эпизод или «пылинка» вечности.
Революция 1917 года не только освободила многих политических и даже уголовных заключённых, но и привела их к вершинам власти, хотя среди них были очень разные люди. Например, красный комбриг Котовский до революции был, наверное, настоящим криминальным авторитетом, лидером преступного мира юга России. Он совершал разбойничьи набеги не только на помещиков, за что был даже приговорен к смертной казни через повешение. Позднее он объяснял своё криминальное прошлое стремлением бороться с эксплуататорами. При Советской власти он стал красным командиром, (хотя тандем «Фрунзе-Котовский» внушал опасения не только Троцкому, поэтому Котовский погиб при странных обстоятельствах – возможно, его застрелил бывший подельник, который был выпущен из тюрьмы уже через 2 года после убийства). При Советской власти Котовский участвовал в жестоком подавлении Тамбовского крестьянского восстания.
Через ссылку прошёл и главный вождь СССР И.В. Сталин, с именем которого связывают самые массовые политические репрессии, тюрьмы, ссылки и преследования инакомыслящих. В 1913 году после трёхмесячного тюремного заключения Сталин был сослан в далёкий Туруханский край, где прожил четыре года. С.Ю. Рыбас в биографии «Сталин» достаточно подробно описывает его жизнь в ссылке. Сталин жил в простой избе, зимой у него была «личная прорубь» на Енисее, в которой он ловил крупную рыбу. Он много рыбачил и охотился в тайге, сам себе готовил пищу, рубил дрова, кипятил чай в чайнике на железной печке; местные жители его охотно навещали, часами просиживали у него; особенно он любил детей, с которыми часто играл, угощал их конфетами; предпочитал простую музыку, любил петь и танцевать; иногда лично заливал больным йодом раны, давал порошки; инородцам советовал мыться, бриться, стричь волосы; с людьми был вежлив. Мылся Сталин в курной (по-чёрному) бане у соседа; много читал и писал при керосиновой лампе; не боялся пройти по горло в ледяной воде к лодке, отрезанной половодьем.
Жертвами смертоносных репрессий и тюремного заключения в СССР становились многие выдающиеся революционные деятели, профессиональные революционеры и разведчики, имевшие немалые заслуги перед Советской властью. Революция, как известно, имеет свойство «пожирать своих детей». Мы видим это даже на примере «майданных» переворотов на Украине в 2013-2014 годах. Так, например, уникальный разведчик, которому отводилась ведущая роль в деле устранения Льва Троцкого, Наум Эйтингон (генерал госбезопасности и еврей по национальности; был женат на красавице-парашютистке Музе Малиновской, которую знала вся страна), которого сам Сталина уверял в своём особом расположении (впрочем, был ли Сталин всесилен, не пал ли он сам от рук своего окружения?), после Великой Отечественной войны просидел три года в тюрьме по обвинению в космополитизме.
В своих мемуарах «Спецоперации. Лубянка и Кремль. 1930-1950 годы» выдающийся руководитель советской разведки П.А. Судоплатов отмечает особую роль Эйтингона в организации сложнейшей операции по устранению Троцкого, так как он владел многочисленными агентурными зарубежными связями. При Н.С. Хрущёве Эйтингон провёл в тюрьме немало лет (в сумме его тюремное заключение составило 12 лет). Н.С. Хрущёв предлагал ему, как и Судоплатову, оговорить других людей, но они оба отказались. Кстати, оба остались верны идеям коммунизма, а к ним в заключение для консультаций приезжали сотрудники КГБ. Как сообщалось в одной телевизионной передаче, когда Н. Эйтингон узнал о формировании отрядов особого назначения в США, он предложил создать в СССР «Спецназ». В тюрьме, чтобы не сойти с ума, он шлифует знание иностранных языков. Жена Эйтингона и её дети все эти годы бедствовали, бывшая гордость страны Муза Малиновская работала уборщицей, постоянно беспокоилась за судьбу детей, вела предельно аскетический образ жизни. После освобождения в марте 1964 года Эйтингон был, как и Судоплатов, реабилитирован, работал в издательстве «Международные отношения», умер в 1981 году.
По политическим и по другим мотивам в тюрьму и изоляцию люди попадали и попадают при любом правительстве и режиме. После того, как в России в 1917 году установилась Советская власть, большевики получили в наследство царскую систему организации содержания заключённых, которую развивали, в основном, за счёт иcправительно-трудовых лагерей.
В современной российской тюрьме, как сообщается в книге «Тюрьмы и колонии России», подготовленной под редакцией Президента Гильдии российских адвокатов, доктором юридических наук Г.Б. Мирзоевым, «Статьёй 56 УК установлено пять режимов содержания осуждённых, лишённых свободы:
- колония-поселение;
- исправительная колония общего режима;
- исправительная колония строгого режима;
- исправительная колония особого режима;
- тюрьма».
«Для несовершеннолетних осуждённых (в возрасте до 18 лет) установлены следующие виды колоний:
- воспитательная колония общего режима;
- воспитательная колония усиленного режима».
Режим и условия содержания каждого заключённого определяется судом в соответствии с совершенным преступлением и приговором.
Условия отбывания наказания в колониях общего режима:
- Осуждённым, отбывающим наказание в обычных условиях в исправительных колониях общего режима, проживающим в общежитии, разрешается расходование денежных средств, находящихся на их счетах, в размере 50 процентов минимального размера труда; разрешается иметь по 4 краткосрочных и по 4 длительных свидания в течение года; в течение года получать по 6 посылок и по 6 бандеролей.
- Осуждённым, отбывающим наказание в облегчённых условиях и проживающим в общежитии, разрешается расходование денежных средств, находящихся на их счетах, в размере минимального размера труда; иметь по 6 краткосрочных и по 6 длительных свиданий в течение года; в течение года получать по 12 посылок и по 12 бандеролей.
- Осуждённые, отбывающие наказание в строгих условиях, проживают в запираемых помещениях (это общежития со спальными комнатами на 10-15 человек, с комнатой для воспитательной работы, приёма пищи, раздевалкой, туалетом, комнатами для организации труда). Им разрешается: расходование денежных средств, заработанных в период лишения свободы; иметь по 2 краткосрочных и по 2 длительных свидания в течение года; в течение года получать по 3 посылки и по 3 бандероли.
В РФ 215 исправительных колоний общего режима (т.е. 28,8% от их общего числа).
Условия отбывания наказания в колониях строгого режима:
- Осуждённым, отбывающим наказание в обычных условиях в исправительных колониях строгого режима, проживающим в общежитии, разрешается расходование денежных средств, находящихся на их счетах, в размере 40 процентов минимального размера труда; иметь по 3 краткосрочных и по 3 длительных свидания в течение года; в течение года получать по 4 посылки и по 4 бандероли.
- Осуждённым, отбывающим наказание в облегчённых условиях и проживающим в общежитии, разрешается расходование денежных средств, находящихся на их счетах, в размере 80 процентов минимального размера труда; иметь по 4 краткосрочных и по 4 длительных свидания в течение года; в течение года получать по 6 посылок и по 6 бандеролей.
- Осуждённые, отбывающие наказание в строгих условиях проживают в запираемых помещениях. Им разрешается: расходование денежных средств, заработанных в период лишения свободы; иметь 2 краткосрочных и одно длительное свидание в течение года; в течение года получать по 2 посылки или передачи и по 2 бандероли; пользоваться ежедневной прогулкой продолжительностью полтора часа.
В исправительных колониях особого режима заключённые содержатся в условиях строгой изоляции от других зданий. «Оборудуется также прогулочный дворик». Телефонный разговор осуждённым может быть разрешён лишь в исключительных обстоятельствах. Расходование денежных средств, свидания и посылки им разрешены в меньшем объёме по сравнению с заключёнными, содержащимися в колониях общего и строгого режима.
Ещё более строгий режим содержания назначается для осуждённых к пожизненному лишению свободы в исправительных колониях особого режима.
В колониях-поселениях осуждённые содержатся без охраны, но под надзором администрации и могут более свободно перемещаться в пределах административно-территориального образования, могут носить гражданскую одежду, иметь при себе деньги и вещи, без ограничения получают посылки и свидания. Проживают, как правило, в специально предназначенных для них общежитиях. Конечно, и для этой категории заключённых существует целый ряд ограничений.
В тюрьмах устанавливается общий и строгий режим. Заключённым разрешается расходование денежных средств, свидания и посылки. Около 75 % заключённых в тюрьмах – злостные нарушители режима исправительных колоний. В особых случаях в тюрьме заключённые содержатся в одиночных камерах.
В сборнике «Поиски выхода. Преступность, уголовная политика, места заключения в постсоветском пространстве», подготовленном российскими правозащитниками, приводится статистика, характеризующая не столько уровень преступности в разных странах, сколько отношение к ней, с позиции наказания, среди форм которого в России доминирует изоляция от общества. Автор сборника В. Ф. Абрамкин сообщает: «В конце Х1Х – начале ХХ века среди европейских стран Россия занимала одно из первых мест по уровню преступности и одно из последних мест по относительному количеству заключённых.
В конце ХХ века уровень преступности в России в 3-8 раз ниже, чем в развитых странах; по количеству заключённых на сто тысяч населения мы прочно удерживаем лидерство, доставшееся нам в наследство от СССР, опережая даже такие страны, как Китай и ЮАР». (На 100 тысяч населения в начале ХХ века в России было 60 заключённых; в конце ХХ века – уже 740). И если за 100 лет количество убийств на 100 тысяч населения увеличилось примерно в 2 раза (это наиболее благоприятный показатель в мире), то за это время число заключённых выросло в 13 раз. Увеличился и средний срок наказания.
Характеризуя условия содержания в тюрьмах современной России, вдова писателя А.И. Солженицына, Наталья Солженицына, признала, что в них хуже, чем в царских, и даже в советских тюрьмах.
Анализируя идеологию общества в аспекте «ГУЛАГа», то есть насаждения концентрационных лагерей и изоляции одних людей от других, В.Ф. Абрамкин отмечает, что «миллионы жертв…были бы невозможны без внутреннего согласия огромного количества их современников, что человечество можно разделить на людей и нелюдей. Неважно, какое имя даётся этим последним – враг народа, еврей, красный, белый, чёрный, мразь-уголовник, неверный, нехристь…» То есть, миром правит, в основном, дуалистическое мышление. В 2008 году в России вступил в действие закон об общественном контроле за соблюдением прав человека в местах принудительного содержания. Во многих регионах страны были сформированы общественные наблюдательные комиссии, которые регулярно посещают колонии, СИЗО, ИВС, полицейские участки, спецшколы и т.п. Российский исследовательский центр по правам человека предложил идею международного проекта со структурами Совета Европы. Он предусматривает поддержку независимого мониторинга МПС посредством обучения общественных наблюдателей. По данному направлению были проведены конференции (сборник «Право на жизнь и достоинство в местах принудительного содержания: материалы международных конференций «Пути преодоления трудностей общественного контроля в Российской Федерации», С-П.: Алетейя, 2012).
По данным ФСИН РФ на 01.01.2019 г., в России 707 исправительных колоний общего и строго режима (для мужчин и женщин); 123 колонии-поселения; 7 колоний для пожизненно осуждённых; 211 – следственных изоляторов (СИЗО) и 97 помещений, функционирующих в режиме СИЗО при колониях; 8 тюрем (статья «Кому на Руси сидеть хорошо?», газета «Собеседник», 13-19 февраля 2019 г.).
В тюремных условиях, наряду с воздействием на психику человека и личность изоляции и отделения от привычной жизни, окружения, близких и родных людей, сильное воздействие оказывает и новая, тюремная среда. Она обусловлена, прежде всего, иным образом жизни, новым ритмом существования, перестройкой многочисленных потребностей и возможностей человека, оказавшегося в заключении, включая информационный обмен.
Мы уже приводили цитату из книги Владимира Буковского, которую имеет смысл дополнить более подробным описанием состояний сознания заключённого: «… с древнейших времён привык человек считать, что всего страшнее на свете – смерть, безумие и тюрьма…Если безумие – это духовная смерть, духовная тюрьма, то и тюрьма – подобие смерти, а чаще всего и приводит человека к смерти или безумию… Эти вот три страха, живущие в человеке, используются обществом для наказания непокорных… даже в тюрьме человеку должно быть не безразлично, что с ним станется…
Человек, не дисциплинирующий себя, не концентрирующий внимания на каком-либо постоянном занятии, рискует потерять рассудок или, во всяком случае, утратить над собой контроль. При полнейшей изоляции, отсутствии дневного света, при монотонной жизни, постоянном голоде и холоде впадает человек в какое-то странное состояние, полудрему-полумечтательность. Часами, а то и целые дни напролёт может он глядеть невидящими глазами на фотокарточку жены и детей, или листать страницы книги, ничего не понимая и не запоминая, или вдруг заводит с соседом бесконечный, бессмысленный спор на совершенно вздорную тему, как бы застревая на одних и тех же доводах, не слушая собеседника и фактически не опровергая его аргументов…
Странное что-то происходит и со временем. С одной стороны, время несётся стремительно, поражая этим твоё воображение…Сами дни неразличимы, полностью стираются из памяти…С другой стороны, это же самое время ползёт удивительно медленно: казалось уже год прошёл – ан нет, всё еще тот же месяц тянется, и конца ему не видно.
Опять же становится человек страшно раздражительным, если что-то нарушает его монотонную жизнь…
Самое же неприятное – это ощущение потери личности, точно проволокли тебя мордой по асфальту и совсем не осталось никаких характерных черт и особенностей. Словно твою душу со всеми её изгибами, извивами и потайными углами да узорами прогладили гигантским утюгом, и стала она плоская и ровная, как картонная манишка. Затирает тюрьма».
Неспроста после тюрьмы многие начинают ненавидеть тех, кто не сидел и не знает, то, что знают бывшие заключённые. Подобное испытывают и надзиратели. На них, спьяну, как и на бывших заключённых, нападает тоска и злоба.
Но случается, что человек, переживший заключение, как бы заново рождается, то есть отрицательное состояние сознания, которое он испытал в тюрьме, сменяется положительным. Человек после трудного тюремного заключения либо разрушается, либо становится почти святым, достигает вершин человеческого сознания. И примеров такой «насильственной трансценденции» в результате ограничения свободы с последующим достижением вершин духовности в нашей истории немало!
Надо отметить, что в абсолютной, полной изоляции заключённый почти никогда не находится. Даже в одиночной камере, как минимум, его посещают тюремщики. Иногда бывают свидания с близкими или представителями правоохранительной системы.
«Кентавром тюремного дистресса», по выражению компетентного исследователя стресса Л.А. Китаева-Смыка, является обоюдное страдание узников и тюремщиков, образующих своего рода целостное «психосоциальное существо». Поэтому, создавая комфорт для заключённых, тюремщики могут жить комфортнее сами. Охранники подвержены большему стрессу, чем «простые» работники тюрем.
В диалоге между Его Святейшеством Далай-ламой и известным американским психологом Полом Экманом (Далай-лама, П. Экман. Мудрость Востока и Запада. Психология равновесия. СПб.: Питер, 2011) упоминается случай, когда один из сподвижников Далай-ламы, долгое время проведший в китайской тюрьме, поведал ему, что часто испытывал там сильный страх: из-за «опасности утратить чувство сострадания к…охранникам китайской тюрьмы». «Это означает, что когда такой человек имеет подобный взгляд на ценность сострадания, то он никогда не позволит себе отдаться во власть какой-либо злобной эмоции», - констатировал помощник Далай-ламы. Тем не менее, даже сострадание должно быть уравновешено «практикой здравомыслия». Как заметил Далай-лама: «Если вы просто сосредотачиваетесь на страданиях других людей, то это может оказать на вас депрессивное воздействие». Сострадание должно сопровождаться проявлением отваги, то есть действием. То есть, например, медицинская сестра детского онкологического отделения, как и охранник тюрьмы, должна держать определённую дистанцию, позволяющую исполнять свою профессиональную роль. Анализируя проблему прощения, в том числе и лиц, нанесших нам непоправимый вред, Далай-лама выделил «три основных обоснования наказания». Первое - это возмездие, месть. Второе – превентивная мера с целью избежать более вредоносное действие. И, наконец, можно наказывать, чтобы видели другие.
Л.А. Китаев-Смык рассматривает феномен «выгорание персонала», («выгорание личности» - это «болезнь общения», возникающая от вынужденного профессионального общения). Это явление распространено среди психотерапевтов, учителей, врачей, продавцов, администраторов; в полной мере ему подвержены и тюремщики. Отмечено три формы «выгорания»: «уплощение эмоций» (начинается с гиперэмоционального сопереживания, которое сменяется равнодушием с всплесками негативных эмоций); «конфронтация с клиентом» (обида на несправедливость, стойкая неприязнь к клиентам, выплескивание озлобленности), «потеря ценностных ориентаций» (навязчивое недоверие к высказываниям, навязчивая критичность, утрата представления о ценностях жизни). На мой взгляд, «выгорание личности» возникает не только в результате вынужденного общения, но и по причине отсутствия нормального развития личности, связанного с образованием устойчивых стереотипов восприятия и поведения, то есть с формализацией модели мира, её излишней статичностью и определённостью. Это явление в той или иной степени свойственно каждому человеку, но оно часто усиливается с возрастом и под ударами судьбы.
«Выгорая душой», человек лишается иллюзий наличия веры, надежды, любви. «Выгорание» заразительно для окружающих. Есть разные пути «выгорания»: из-за психического истощения; из-за длительного конфликта душевных, интеллектуальных потенций человека с окружающей средой (несоответствие требований и возможностей; ограничение условий деятельности; несоответствие вознаграждения ожиданиям; отсутствие или утрата поддержки окружения; ущемление чувства справедливости; несоответствие профессиональной деятельности морально-этическим нормам исполнителя). «Выгорание души» может происходить и после тяжёлой личной потери.
Можно предположить, что есть предел возможностей для человека и долгое, профессиональное общение с людьми – противоестественно. При массовом «выгорании» люди начинают «поедать» друг друга. Массовое «выгорание» - болезнь социума, ведущая его к «предсмертному состоянию». Существуют разные концепции «выгорания»: ослабление адаптационных возможностей, эмоциональная ригидность в экстремальных ситуациях и др.
У сотрудников ОВД происходит психологическая деформация личности при работе с правонарушителями. Притупляется способность к самостоятельному мышлению, наблюдается формальный подход к работе, происходит «огрубление чувств», ослабляется контроль над чувствами, словами, мыслями, возникает усталость и депрессия, возможно уподобление преступнику, гипертрофируется право на насилие.
В сборнике «Поиски выхода. Преступность, уголовная политика, места заключения в постсоветском пространстве» сообщается, что только «в 1995 году 41 сотрудник пенитенциарных учреждений покончил жизнь самоубийством». Тем более что в переполненных учреждениях нагрузка на персонал увеличивается в 2-3 раза, оплата труда и его условия не соответствуют нагрузке и специфике работы.
Американский психолог Арлин Одергон (книга «Отель «Война». Психологическая динамика вооружённых конфликтов») приводит высказывание выдающегося африканского политического лидера Нельсона Манделы о времени, проведенном им в заключении: «В те долгие годы одиночества жажда свободы для моего народа переросла во мне в жажду освобождения всех людей – и чернокожих, и белых. Я понял с исключительной ясностью, что угнетатель нуждается в освобождении ничуть не меньше, чем угнетённый…Как угнетённый, так и угнетатель лишаются своей человеческой природы».
В условиях обычной тюрьмы или колонии, само общение заключённых между собой создаёт массу новых поводов для стресса и может стать даже угрозой для жизни. Особенно, если в тюремной среде присутствует блатной мир.
Образно проблему совместимости в тюрьме охарактеризовал В. Буковский: «Вообще же всё человечество делится на две части: на людей, с которыми ты мог бы сидеть в одной камере, и на людей, с которыми не смог бы».
Стресс скученности, который определяется минимальной плотностью индивидов, как и значение индивидуального пространства для нормального существования, будет более подробно рассмотрен нами в разделе 2. В сборнике «Поиски выхода…» российские правозащитники отмечали, что с 1991 года численность российских тюрем и изоляторов сильно возросла. Исполнительный директор Национального тюремного проекта (CША) Элвин Бронстэйн в своём интервью по поводу посещения Бутырской тюрьмы в годы «перестройки» так охарактеризовал условия содержания заключённых: «Переполненность настолько большая, что заключённые вынуждены спать по очереди. В камерах темно, сыро и жарко. Повсюду торчат оголённые провода. Туалеты и краны текут. Заключённые битком напиханы в эти ужасные камеры…»
Особенно красноречиво В.Буковский описывает сознание «вора в законе», которое во многом и формирует тюремную среду. Он утверждает, что эти люди быстро распознают в других слабости, а в тюрьме могут предсказать, кто кем станет. «С одной стороны – фантастическое чутьё, хитрость, с другой – поразительная наивность, доверчивость и жестокость, как у детей… В «блатной идеологии» сконцентрировались молодеческие, удальские порывы и представления о настоящей, независимой жизни… В отношениях между собой они редкостно честны, и кража у своего, как и вообще кража в лагере, - худшее из преступлений… Первая и основная их идея – непризнание государства, полная от него независимость. Настоящий «вор в законе» ни под каким видом не должен был работать – ни при каком принуждении. У него не должно быть дома… Жить он должен кражами, причём каждый настоящий вор уважал свою узкую «специальность» … дань никогда не должна была делиться поровну на всех – она поступала атаману - «пахану», и он уже распоряжался ею… паханы никогда не выбирались. Они признавались в силу своего воровского авторитета (точь-в-точь, как политбюро). В воровском мире существует сложная иерархия, и она тоже устанавливается не путём выборов, а путём «признания» авторитета…Тяжба почти никогда не разрешается примирением – одна из сторон оказывается виноватой, и выигравшая сторона должна лично получить с потерпевшей… Человек, хоть когда-либо бывший в связи с властями,… уже никогда не будет «в законе»…Тюрьма для вора – дом родной. Он должен там жить с роскошью, иметь слуг-шестёрок, педераста в качестве подруги, а все не воры должны платить ему дань добровольно».
Однозначно и категорично писал о тюремной среде и проблеме общения в ней Варлам Шаламов. Анализируя преступный мир, он противопоставляет своё мнение описаниям Виктора Гюго (судьба Жан Вальжана в «Отверженных»), Достоевского (его герои – это «люди, столкнувшиеся с негативной силой закона, столкнувшиеся случайно»). Шаламов считает, что нет точных описаний наиболее типичных представителей преступного мира ни у Толстого, ни у Чехова, хотя последний столкнулся с ним на Сахалине, и этот мир его ужаснул. Шаламов против героизации преступного мира (как, например, у Горького в образе Челкаша или Васьки Пепла в пьесе «На дне»). Он утверждает: «Блатной мир – это закрытый, хотя и не очень законспирированный орден, и посторонних для обучения и наблюдения туда не пускают…Безудержная поэтизация уголовщины выдавала себя за «свежую струю» в литературе и соблазнила многих опытных литературных перьев». Это всё, по его мнению, нанесло обществу огромный вред. Шаламов убеждает читателей в «Колымских тетрадях», что «блатарь», по сути, перестаёт быть человеком! Блатарями редко становятся, ими рождаются, они выходят из среды и семей себе подобных. И, несмотря на вызываемый ими страх, «блатарь – весьма истеричная особа». Они - сплошь истерики и неврастеники, находятся в неразрешимом конфликте с окружением, обществом и государством, к которым у них личные счёты. Все люди для блатного делятся на категории. «Одна часть – это «люди», «жульё», «преступный мир», «урки», «уркаганы», «блатари», «жуки-куки» и т.п. Другая – фраера, то есть «вольные». Шаламов приводит прочие названия «фраеров» – «штымпы», «мужики», «олени», «асмодеи», «черти». В любом случае, это – не «люди», хотя далеко не каждый вор – «блатарь». Поэтому ложь, провокация по отношению к «фраерам» даже в том случае, когда человек спас блатного от смерти, - это даже особая доблесть, в порядке вещей. Мораль блатного мира – другая мораль, утверждает Шаламов. (То есть «преступный мир» - мир, параллельный обычному человеческому миру). Шаламов убеждён, что «в блатаре и нет ничего человеческого».
Как свидетельствует он в «Очерках преступного мира», в лагерях «блатари при полном одобрении начальства приступили к избиению «фашистов» - другой клички не было для пятьдесят восьмой статьи в 1938 году…Растленный дух блатарей пронизывал всю колымскую жизнь». А «возникшая из чисто умозрительных посылок теория «перековки» привела к десяткам и сотням лишних смертей в местах заключения, к многолетнему кошмару, который создали в лагерях люди, недостойные названия человека».
В жизни блатарей большое место занимает игра в карты, которые они умеют изготовлять в любых условиях. В условиях заключения распространены также устные натуралистические, сюжетные рассказы с сексуальным уклоном, а также – обмен опытом (среди блатных редко можно встретить любителя чтения, как и искусства, а их пение – исключительно сольное). Потомственный блатарь презирает женщину, за исключением матери, хотя, как считает Шаламов, даже чувство к ней лживо, служит «дымовой завесой».
Шаламов описывает так называемую «сучью войну» («суками» назывались воры, которые изменили воровскому делу), суть которой сводится к тому, что преступники, отправленные в годы Великой Отечественной войны на фронт, а затем взявшиеся за своё ремесло и попавшие в лагеря, не были приняты основным воровским миром, как и те, кто сотрудничал с администрацией несмотря даже на то, что среди вернувшихся с войны было много известных авторитетов. В результате начались войны, поэтому были «повсюду созданы отдельные зоны – для «сук» и для воров «в законе». Позднее появилась третья категория преступного мира – «беспредельщики», которые расправлялись с теми и другими, что, по мнению Шаламова, отвечало сути воровской потребности в сладострастном убийстве, «утолению жажды крови». «Карфаген должен быть разрушен! Блатной мир должен быть уничтожен!» - делает вывод Шаламов.
Нам представляется, что решение вопроса об окончательной победе одного мира над другим вряд ли сейчас находится в сфере человеческих возможностей, а интерес к «параллельному миру» (будь это «преступный мир» или мир НЛО) отражает не столько особенность психики интересующихся им людей, сколько является выражением потребности в трансцендентном, то есть в физической и духовной экспансии человека.
Более профессиональную и разветвлённую классификацию преступного мира, включая организованную преступность, можно найти в специальной литературе и книгах профессиональных исследователей преступности (например, в книге «первого и последнего» начальника 6-го Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД СССР Александра Ивановича Гурова «Красная мафия»). В наши задачи не входит анализ этих структур, а социально-психологический аспект мотивации отдельной личности и многих людей на преступный образ жизни и на организацию преступного мира, как и социальных структур борьбы с ними, требует отдельного рассмотрения. На мой взгляд, описание всех этих сфер общественной жизни должно восходить к единой методологии описания неоднородности Единого Пространства Жизни на основании «Спектральной логики», что вряд ли возможно в полной мере на данном уровне развития человеческого знания.
Что касается мотивов преступления, как и любого человеческого поступка, то он может быть разным. Мотивом может быть не только стремление к наживе, но и стремление к справедливости (понимаемой по-своему), это может быть желание власти, собственной значимости и устранение, ослабление конкурентов. Наконец, даже защита жизни и своих интересов может стать мотивом преступления. Но причина преступления с мотивом не совпадает. Наверное, она всегда имеет комплексный характер. В основе преступления могут лежать также «информационные перегрузки», нетерпимость к другому человеку и его деяниям, страх и слабость при преодолении тех или иных обстоятельств (возможно, когда сосед убивает соседа, а мать – незаконнорожденного ребёнка или ребёнка-инвалида, это делается из-за невозможности самостоятельно справиться с возникшей психической, информационной перегрузкой).
Психиатр и психотерапевт, исполняющий обязанности директора Клиники психиатрии и психотерапии Геттингенского университета, Борвин Банделов, считает, что «преступникам не хватает гормонов счастья» (этой теме посвящено интервью с ним «Они это умеют» в журнале «Профиль», № 9/11 от 03. 2013). «Центр удовольствия в мозге почти всё время требует еды, алкоголя и хорошего секса – в идеале незамедлительно, поскольку в результате происходит выброс эндорфинов, которые дают нам чувство эйфории. Но у пациентов с пограничными и асоциальными расстройствами личности эндогенная опиоидная система (ЭОС) даёт сбои…Либо не хватает эндорфинов, либо недоразвиты опиоидные рецепторы. Поэтому такие люди всё время пребывают в плохом настроении и чувствуют себя несчастными. Это причина, по которой многие из них впадают в зависимость: ведь алкоголь, героин, кокаин, конопля или амфетамины стимулируют ЭОС». Роль подобного стимулятора выполняет также «жёсткая голодовка», к которой прибегают некоторые, так как она приводит к эйфории. То есть причиной асоциального поведения является нехватка эндорфинов. Самые страшные преступники, например, серийные убийцы (в интервью журналу сообщается, что самому профессору «понадобился двойной виски, чтобы хоть как-то успокоиться после того, как выслушал историю страданий одной из жертв»), получают свою порцию эндорфинов, когда они ощущают свою власть над жертвой. Под воздействием страха сознание переключается на более низкий уровень также и у жертвы преступления (с желанием только выжить). Многие рок-звёзды получают эндорфины за счёт внимания публики. Как считает психиатр Б. Банделов, стремление избавиться от жутких состояний при нехватке эндорфинов может заставить мозг искать новый способ для их получения – так развивается креативность.
В книге Д. Гоулдмана «Деструктивные эмоции. Как с ними справиться?» (это научный диалог с Далай-Ламой в пересказе Дэниела Гоулдмана) приводится пример обучения заключённых буддийской медитации. Работа велась с закоренелыми преступниками, которые отбывали пожизненный срок и продолжали убивать друг друга, даже сидя за решёткой. «Один из них, главарь банды, решил пройти этот курс только ради развлечения. Так вот этот бандит сказал, что на каком-то этапе тренировки он вдруг ощутил, словно рухнула стена, которая отгораживала его от мира. Он понял, что до этого момента действовал, руководствуясь только ненавистью». Этот человек действительно приложил все усилия, чтобы освоиться с новыми ощущениями, пробовал делиться этим с другими. «К сожалению, через год его самого убили в тюрьме, но этот последний год он был совершенно другим человеком».
Далай-Лама так комментировал этот опыт: «В тибетском буддизме есть классическая медитативная процедура для культивирования сострадания, которая называется «обменяй себя на других», в ходе которой нужно представить себя на месте жертвы – поменяться с ней местами».
Сведения об организации контроля над пенитенциарной системой со стороны властей, записанные, возможно, со слов сотрудников КГБ, внедрённых по заданию в криминальный мир, содержатся в книге «Воры в законе» (авторы - Г. Подлесских и А. Терешонок).
В своё время «Приказ № 108/65 от 8 марта 1931 года предписывал органам ОГПУ проводить мероприятия по чистке личного состава милиции и УГРО (уголовного розыска), вести борьбу с засорённостью аппарата милиции и УГРО…», а также «привлекать классово близкие пролетариату и крестьянству людей для выявления чуждых элементов, проникающих в органы милиции и УГРО». В силу объективных причин ни один вор в законе не мог оставаться в лагере вне политики, приходилось выполнять инструкции чекистов. Именно этим контролем объясняют авторы книги «Воры в законе» тот факт, что «отца советской космонавтики» С.П. Королёва в заключении, на прииске, «тайно опекал вор в законе по кличке «Батя», так как ему было сказано оргработником госбезопасности, «что он головой отвечает за жизнь «Профессора» (кличка С.П. Королёва в заключении)». Тем не менее, эти авторы пишут: «НКВД когда-то способствовал образованию преступного мира, а затем, в угоду партийным интересам, устранился от контроля над ним, отдав его на откуп малограмотным и политически ущемлённым органам МВД», так как последним было запрещено под угрозой обвинения в измене Родине заключать с уголовниками какие-либо соглашения. В результате «органы милиции не могли и не пытались изучать среду преступного мира и имели о ней самое поверхностное представление».
В. Буковский в своих материалах откровенно и подробно описывает тюремный быт, проблемы его обитателей и способы удовлетворения самых насущных человеческих проблем. Например, в книге «И возвращается ветер…», он пишет, что все факты о пьянстве и даже наркомании на воле «по сравнению с лагерным пьянством бледнеют. Две тысячи человеческих душ, зажатых колючей проволокой на клочке земли в пол квадратных километра, жаждут забалдеть. Конечно, лак, политура, краска крадутся со складов неудержимо, но это роскошь – пьют ацетон (болеют потом, но пьют) и неразбавленную краску, глотают любые таблетки. – Нам что водка, что пулемёт – лишь бы с ног валило!...За неимением настоящих наркотиков выжигают какие-то желудочные капли…С отчаяния колют просто воду или даже воздух…, но самым распространённым возбуждающим средством в лагере является, безусловно, чифирь. Нелегальная торговля чаем приобрела в лагерях фантастические размеры…», хотя со всем этим власти отчаянно всегда боролись. Процветали также сексуальные отклонения – гомосексуализм и лесбиянство, так как тюрьма наказывает также изоляцией от противоположного пола. По советским законам, при которых даже заключённых заставляли получать среднее образование, в школе преподавали, в основном женщины из числа жён офицеров-надзирателей, поэтому учёба во многом была средством развлечься и поглядеть на учительниц, либо завести даже лагерный роман с ними.
Надо учитывать, что в тюрьму попадает много психопатов и нездоровых людей, а люди выделяют особые вещества, феромоны, которые воздействуют на других людей помимо их сознания.
Таким образом, пребывание в тюрьме, как и любая насильственная изоляция, является многофакторной причиной стресса. (Более основательно мы рассмотрим стресс в разделе 2). Причинами тюремного стресса врачу и психологу Л.А. Китаеву-Смыку представляются: инертность мышления из-за дефицита информации; однообразие жизни; нарастание конфликтности общения; развлечения сводятся в основном к «унижению слабого»; непрерывное психическое напряжение, тотальное недоверие ко всему; атмосфера страха; агрессия как следствие деформирования образа жизни. В своей монографии о стрессе он приводит данные другого исследователя стресса, Ф. Зимбардо, который основными факторами тюремного стресса считал: 1. Власть (при этом у подчинённых нарастает пассивность, а у людей, наделённых властью, – стремление демонстрировать власть). 2. Время (заключённый отрывается от прошлого и будущего и пребывает в настоящем). 3. Обезличенность (условия тюрьмы снижают чувство собственной уникальности, вынуждают делить мир на «моё» и «не моё»). 4. Правила (в тюрьме растёт количество правил).
Л.А. Китаев-Смык считает, что в условиях трудно терпимого стресса происходит «угасание» эффективности социально-психологического взаимодействия. Появляются: отчуждение друг от друга; утрата мотивов совместной деятельности; общественная и деловая апатия; изменяется социальная ментальность, возникает неприкрытая лживость декларируемых общих целей. В условиях тюремного заключения ухудшается, прежде всего, положение пассивной части сообщества. При тюремном стрессе происходит консолидация социального сообщества при жёсткой социальной стратификации. Условием объединения является истощающий страх перед внешней опасностью. Сплачивают даже садомазохистские наклонности. Захват власти недостойными маргиналами также может сплачивать. По мнению Л.А. Китаева-Смыка, может возникать состояние социально-психологической гиперактивности, которое разрушает тюремное сообщество (возникает «беспредел», который уже не сдерживает уголовная «законность»).
Становится возможна и запредельная форма проявления стресса, разрушающая изнурённое сообщество. Например, может происходить активный прорыв вовне социального или территориального пространства из того пространства, где стресс уже не терпим, либо может происходить самоуничтожение (распыление) группы («бунт бессмысленный и беспощадный»). Может возникать и активная массовая протестная суицидальность, наблюдаться общее пассивное пренебрежение здоровьем и жизнью. Важными причинами низкого уровня переносимости узниками фашистских лагерей стресс-факторов, приводивших к смерти, были чувства: несвободы, позорного плена, стыда и горечи. Обречённость на смерть лишала воли к жизни.
Л.А. Китаевым-Смыком был разработан способ определения уровня критичности коллективного стресса. В российских тюрьмах ХХ века, в зависимости от эмоционально-поведенческих особенностей узников, им были выделены основные пять групп: 1) с дисфорически-злобным поведением, пренебрежением к внутреннему распорядку, правилам (7%) – деструктивные агрессоры; 2) активно протестующие борцы (с менее деструктивным влиянием на других); 3) «безропотно-пассивные страдальцы» (60%); 4) «пассивные невротики» (4%) с чрезмерной тревожностью и навязчивыми страхами; 5) «искатели оптимальных путей» (с болезненно неустойчивой формой поведения и непредсказуемостью в конфликтных ситуациях; они обладают широким диапазоном поиска).
Л.А.Китаев-Смык перечисляет «принципы» развития революционно-стрессовой активизации общения, консолидирующей группу в лагерных условиях: 1. Исчерпание потенциала терпения. 2. Определение позитивной цели. 3. Совпадение групповой и индивидуальной цели. 4. Осознание реальности «первого шага». 5. Наличие импульса, побуждения.
На примере расстрела парламента России в 1993 году он изучил психические реакции москвичей на экстремальное событие. Подавляющее число людей было индифферентно, то есть жило своей привычной жизнью. Многие испугались (исследователь разделил их на категории: «амнезирующие трусы» и «агрессирующие трусы», «оптимизирующие трусы»). Были и такие, которые страстно тянулись к опасному месту («центростремительные»). Эти делились на 4 группы: «интеллектуалисты» (рассказывали о событиях другим); «визуалисты»; «игроки собой» и «отважные герои». Население, вовлечённое в стрессовую круговерть, отбрасывает свои социально-иерархические связи, становится асоциальным. Происходит снижение интеллекта. Люди нуждаются в предводителе. Толпы чаще всего преступны. Уплотнение места и времени предельно обостряет чувства.
Выжить в условиях тюремного заключения, как мы уже видели из отдельных примеров жизни заключённых, помогает не только общение с себе подобными, но и с представителями животного мира, даже с насекомыми или рыбами. Но особая заслуга в спасении наших душ и ума, наверное, принадлежит кошкам. Так, например, в петербургской тюрьме «Кресты» вместе со своими хозяевами мотают срок их братья меньшие.
Стрессором может стать не только интенсивность начала тюремного заключения, но и близкое освобождение, так как само освобождение в условиях социального неблагополучия создаёт массу новых проблем, к решению которых готов не каждый. Например, полковник Ю.Я. Афанасьев, начальник колонии в Орловской области, рассказывал случай, когда бывший директор завода из г. Ленинграда после досрочного освобождения (в заключении он активно трудился на стройке и не падал духом) повесился, так как его не приняла ни жена, ни дочь (статья «Коня на скаку остановит, на строгую зону пойдёт», газета «Известия», 15 августа 2000 г.). Он красноречиво описывает состояние людей, освобождаемых из подопечной ему женской колонии: «…выходят люди, а им ехать некуда, ни кола ни двора. Её освобождаешь, а она стоит и не знает, куда идти: толи направо, толи налево…» Среди распространённых нарушений в тюрьме не только употребление наркотиков, мелкое хулиганство, воровство, неповиновение администрации, но и сексуальные отклонения (мужеложество и лесбиянство). Подводя итоги беседы с журналистом, полковник Афанасьев констатирует: «Мы принимаем на себя все язвы нашего общества. Человеку на воле портят жизнь, а нас тут вынуждают его добить и после отсюда выкинуть в никуда. Мы занимаемся воспроизводством преступности, вот чем!»
Известный писатель и политик, Эдуард Лимонов в статье «Будет ли он мстить?» (газета «Известия», 6 ноября 2012 г.), который сам просидел некоторое время в тюрьме (ему дали 4 года, но он вышел раньше, хотя и убеждён, что «тюрьму я раскусил и в характер её проник. Я в ней научился жить, я в ней жил и не зачеркивал с остервенением дни в настенном календаре»), комментируя возможный скорый выход на свободу Платона Лебедева, осуждённого по делу «ЮКОСа» вместе с Михаилом Ходарковским, задаётся вопросом о дальнейших перспективах его жизни, когда тот выйдет на свободу. «Он уже классический зэка, постный, - разглядываю я его фотографию в Интернете. С впалыми щеками, выдубленный в нечистом воздухе тюрем и лагерей, в сыром мареве промзоны. Элитный бизнесмен растворился в жёстких чертах. Выйдя, он навсегда останется зэком, бизнесмен стёрт, ведь сильное, а это тюрьма, во всех случаях побеждает слабое». Лимонов проводит параллель с писателем Юлием Даниэлем (был осуждён в 1966 году, вышел на свободу в начале 1970-х): «Выпив, Даниэль немедленно превращался в хмурого, постного зэка, и словарь его был соответствующим». В то же время Андрею Донатовичу Синявскому, отсидевшему семь лет, как свидетельствуют парижские воспоминания Лимонова, снятся цветные и хорошие сны про лагерь и блатных. И всё же Лимонов убеждён: «Лебедев будет навсегда привязан к опыту неволи. Поскольку это самый экстремальный опыт его жизни. Вряд ли у него будет когда-либо ещё столь тяжёлый опыт». (На наш взгляд, преодолеть привязку к отрицательному опыту может помочь лишь положительный опыт, но столь же экстремальный по силе энергетики). При этом, как отмечает Лимонов, «после десятилетий, проведенных в аскетической близости с высшими категориями, земные обиды представляются тусклыми. Линяют на глазах», поэтому версия мести по типу графа Монте-Кристо А.Дюма ему кажется неправдоподобной.
Судьба легендарного Вадима Туманова, многолетнего узника самых страшных колымских тюрем и лагерей в течение восьми с половиной лет (родившись в 1927 году, он был в 1948 году осуждён за «антисоветскую деятельность»), откуда неоднократно пытался бежать, является примером выживания за счёт труда, работы. Газета «Столичная» (4 марта 2004 года) пишет об этом со ссылкой на «Парламентскую газету»: «Он взялся за работу – словно зубами вцепился – да так, что всего через год администрация лагеря пошла на ослабление режима содержания Туманова и он был переведен в разряд расконвоированных. В 1954 он впервые предложил свои услуги Системе. Вадим Иванович взялся руководить бригадой старателей: из таких же, как он, - осуждённых. Сегодня можно только недоумевать, как на бросовой технике, в заведомо невыгодных условиях и далеко не с лучшими специалистами тумановцам удавалось выдавать на-гора поистине фантастические результаты работы». Со ссылкой на «Информавтодор» в 2003 году газета «Столичная» констатирует: «А главное, совсем другим было отношение людей к работе. Контроль, спрос, дисциплина, - причём не из-под палки, а поддерживаемые всем коллективом, обеспечивали отличное качество объектов. Работали по 12 часов, без выходных. После каждых четырёх месяцев рабочим полагался двухмесячный отпуск». Сам Туманов в интервью газете рассказал, что Владимир Высоцкий именно от него узнал слово «беспредел» и, несмотря на то, что ему пришлось пережить многое, а не только создать за свою жизнь 14 артелей, обрести многих учеников и последователей, он сравнивал так называемую демократию в России в 2004 году с «беспределом». В своей книге «Всё потерять – и вновь начать с мечты…» В.И. Туманов рассказывает о том, как он выжил и победил в условиях заключения, помог в этом другим и предложил свои «рецепты» выживания на основе артельного, коллективного труда всей России. К сожалению, как отмечает Туманов, «на сегодняшний день всё сложилось так, что если человек порядочный, то на него смотрят как на юродивого». К счастью, ему посчастливилось также встретить настоящую любовь и идти с ней по жизни (статьи: «Всё потерять и вновь начать с мечты» и «Меня не обманула только любовь», газета «Слово», 1-14 сентября 2017 г.).
«Тюремный ад» в 95 дней в Камбодже пережил российский миллиардер Сергей Полонский в 2013 году. Было всё: унижение и предательство друзей и компаньонов, самоуправство смотрителей тюрьмы, невыносимая жара и скученность, плохая еда и вода, угроза уничтожения…Он и двое его компаньонов спасались чтением, передачами с воли; кто-то вёл дневник. Сам Полонский отстроил за свои деньги к тюрьме дорогу, улучшил условия содержания заключённых. Сейчас сидит уже в России.
Своё многолетнее исследование жизни (если так можно назвать существование в условиях заключения) осуждённых на пожизненное заключение провела известный психолог, Валерия Сергеевна Мухина. Она глубоко общалась более чем с сорока осуждёнными, обсуждая с ними проблемы: чувство личности, притязания на признание, половую идентификацию, психологическое время личности, социально-нормативное пространство личности и т.п., опубликовав, в результате, книгу «Отчуждённые: Абсолют отчуждения» (Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2010).
Несомненно, это была тяжёлая миссия – во многом «идентифицироваться» с ситуацией осуждённых на пожизненное заключение, «почувствовать, что значит жить в условиях абсолютного общественного отчуждения и лишения будущего». Тем не менее, с опорой на православную традицию и духовное сопутствие представителей Русской Православной Церкви, а также – понимание, поддержку сотрудников УФСИН РФ (Управления Федеральной Службы исполнения наказаний России) ей удалось осуществить свой труд. Вместе со всеми своими (известными и неизвестными, зримыми и незримыми) соавторами она донесла до читателей нелёгкую истину: «доколе человек жив, он должен трудиться душевно, не покладая рук». В работе с осуждёнными в 2002-2009 гг. В.С. Мухина использовала методы:
1) анализ документов (личных дел и т.п. материалов);
2) беседу;
3) анализ рефлективных отчётов – ответов на анкеты и т.п.;
4) анализ дневников, писем, эссе;
5) метод изучения морального сознания (модификацию метода А.А. Хвостова);
6) метод бесед и опросов экспертов (администрации).
В доверительном общении с осуждёнными В.С. Мухина использовала письменный и устный диалог, который позволил заключённым высказаться по множеству сложнейших тем: о привлекательных сторонах криминального мира; о пути к преступлению; об эффективности использования для борьбы с преступностью смертной казни (откровенно обсуждалась, в частности, статья социолога В.И. Добренькова, дочь которого и её жених были зверски убиты, поэтому он высказался за возрождение высшей меры наказания); о внутренней жизни заключённых и их автопортреты; анализ работы тюремных психологов и персонала; что лучше: пожизненное заключение или поселение на острове (кстати, большинство преступников не рискнули бы оказаться среди себе подобных на острове без законопослушной охраны); размышления: «Кто я?», «Кто мы?»; о стремлении быть и другие темы.
Склонность к преступным деяниям В.С. Мухина сравнивает с повреждением личности, ссылаясь на профессора белорусского университета А.К. Ленца, который называет лиц, опасных для общества вследствие своей недостаточной или плохой приспособленности к нормативной жизни, закону, «криминальные психопатические личности» или «социопаты». В.С. Мухина пишет, что для социопатов характерна патологическая реакция в форме агрессии на любое сопротивление и препятствие: замечание, выражение, отказ в явно недопустимых претензиях и т.п. Социопаты зацикливаются на своих врагах, при угрозе наказания они могут впадать в состояние очумелости, оглушённости. То есть они социально не приспособлены, зависимы от склонности к агрессии и болезненных влечений. Они искренне не понимают и не принимают своей вины. Если невротик причиняет вред, прежде всего себе самому, социопат «перекладывает большую часть страданий на других», то есть, по сути, он отчуждён от них.
В.С. Мухина постоянно подчёркивает, что преступник предельно отчуждён от своей жертвы. Я же предполагаю, что это достигается, прежде всего, путём его отождествления, идентификации с теми или иными литературными персонажами, киногероями или с реальными асоциальными лицами, под влияние которых он попал («воров в законе», хладнокровных убийц и т.п.), и даже – с фантастическими архетипами коллективного бессознательного (сатаной, дьяволом, нечистой силы и т.п.). В.С. Мухина в своей книге приводит сравнительный анализ личностных черт и мотиваций людей, совершивших разные виды преступлений, и людей законопослушных. Так, например, для переступивших закон характерны черты: застревание аффекта (регидность); импульсивность, подозрительность, злопамятство, гиперчувствительность к межличностным отношениям; авторитарность, цинизм, отчуждённость; нарушение социальной адаптивности. Мотивация жизненной позиции отмечена негативными нормативами и ценностями; мораль рассматривается как «дело вкуса»; для преступников характерна идентификация с незаконопослушными лицами, маргиналами; у них отмечается демонстрация позиции «цель оправдывает средство», часто отсутствует ценностное отношение к работе, труду. «Жизнь по страстям, по «хотям» выносит человека за пределы библейских десяти заповедей, гражданских законов и нормативно-морального самосознания». Можно выделить основные объяснения аморальных поступков, преступлений, убийств:
1) исключение жертвы из общей категории («Моя жертва – не человек»);
2) наделение себя особым правом на данный поступок;
3) возложение вины на саму жертву.
Некоторые психологи предполагают, что жертва сама может провоцировать преступника, привлекая его, например, своим неуверенным видом, осанкой или неосторожным поведением.
Кстати, моделей поведения человека (в том числе и преступного) много. Например, Курт Бартол в «Психологии криминального поведения» отмечает три основных подхода:
1) конформистский подход, при котором человек изначально является конформистом и стремится поступать «правильно» (при этом «правильным» считается общепринятое поведение, ценности общества);
2) по нонконформистской модели человек изначально является незаконопослушным и лишь социализация, общественный контроль удерживает его от многих неблаговидных и даже преступных поступков;
3) человек изначально нейтрален, а его поведение является продуктом научения и взаимодействия с другими людьми.
Наверное, для разных людей и ситуаций справедливы все эти три подхода.
К. Бартол, ссылаясь на некоторые авторитеты в сфере психологии, пишет, что наиболее склонны к преступному поведению невротические экстраверты (утверждение Айзенка). (Нейротизм – это, прежде всего, слишком эмоциональное, сильное и длительное реагирование на стресс). Айзенк предполагает также особую предрасположенность к преступному поведению у психотиков, для которых характерна жестокость, социальное равнодушие, низкая эмоциональность и неприязнь к другим при тяге к необычному (Айзенк связывает психотизм с большим содержанием мужского гормона тестостерона в сочетании с низким уровнем фермента окиси моноамина и нейротрансмиттера серотонина).
Психическое и физическое состояние заключённых, отмечает В.С. Мухина, определяется следующими условиями существования:
1) строгий режим;
2) бедность предметного мира;
3) сенсорная депривация;
4) скученность на малом пространстве;
5) специфические уставные формы общения администрации и охраны с заключёнными.
«Этот комплекс создаёт эффект застывшего стресса…Можно сказать: никакой вариативности условий. В этом наказание, в этом испытание».
«Лишиться навсегда жизненной перспективы – это экстремальная ситуация». Большинство заключенных считают, что наказание строгим пожизненным режимом «слишком жестоко»; это – медленная смерть. Но, по выражению В.С. Мухиной, общество лишь наказывает жестокостью за жестокость. При этом: «Наказывающая атмосфера тюрьмы одних заключённых ведёт к регрессу, других понуждает задаваться вопросом: «Я буду здесь умирать или жить?» Чтобы почувствовать глоток свежего воздуха «осуждённые нередко стремятся спастись в ином пространстве – в мире грёз и видений. Уходя в состояние аутизма, они ослабляют контакт с ужасной объективной реальностью…Жажда жизни уводит в грёзы». Из 200 осуждённых одного подразделения УФСИНа, с которыми общалась В.С. Мухина, по мнению сотрудников колонии, лишь 3-5% те, «которые стремятся удержать своё чувство личности». К сожалению, приходится признать, что многие преступники, обречённые на пожизненное заключение, - «просто-напросто дефектный человеческий материал», который с годами ещё более деградирует. Мухина работала лишь с теми, кто способен был «слушать и слышать», хотя подобные встречи с психологом для заключённого всегда сильный стресс. Борьба за своё «Я» даже в обычных жизненных условиях бывает изнурительной. Как написал Мухиной один заключённый: «нужно развивать в себе желание измениться», хотя тяжесть безысходности постоянно наваливается, от грусти тошнит. Выживает тот, кто не перестаёт видеть хоть что-то прекрасное и верит. Покаяние и вера в Бога – к, сожалению, - путь не для всех пожизненно осуждённых.
Тюремное заключение в современной России, как и в прежние времена, применяется для изоляции не только преступного мира, но и с политическими целями.
Авторы книги «Воры в законе» с уважением пишут о жизни в заключении председателя КГБ СССР с 1988 года, Владимира Александровича Крючкова, который был воспитанником Андропова. Он всегда отличался от многих аскетизмом, высокой работоспособностью, даже в тюрьме занимался спортом. «Крючков никогда не терял присутствия духа. Даже находясь в «Матросской Тишине» после провалившегося путча, он вёл организованный образ жизни. По утрам делал интенсивную зарядку в течение сорока минут, до пота. Много читал, работал над материалами уголовного дела. Охранявшие его спецназовцы, которые наблюдали всё это, невольно прониклись к нему уважением». Как отмечают авторы книги, именно Крючков в 1989 году возродил традицию борьбы КГБ с организованной преступностью независимо от МВД. В результате он разглядел связь политических сил, стремящихся свалить коммунистический режим, с преступным миром, преступным капиталом, который давно жаждал большой драки в государстве - между радикалами и консерваторами. Ему удалось «предотвратить многие трагедии и не позволить «крестным отцам» мафии овладеть государственными рычагами власти». При этом он сумел, находясь ещё в должности начальника секретариата КГБ и руководителя ПГУ (Первого главного управления внешнеполитической разведки), силами КГБ изучить сеть преступности и коррупции, поразившие страну, а также - освободить из заключения, реабилитировать сотни незаконно осуждённых сотрудников милиции, прокуратуры, суда, хозяйственных и партийных работников. Лишь август 1991 года погубил стройный ход его операции, а место Крючкова на посту председателя КГБ занял Вадим Бакатин. Как пишут авторы брошюры «Воры в законе», «многие полагают, что его назначение имело целевой характер - разрушение КГБ», а Министерство внутренних дел фактически заняло по отношению к преступному миру позицию нейтралитета. «В окружении Бакатина были зафиксированы крупные криминальные авторитеты».
Во второй части своих двухтомных воспоминаний В.А. Крючков подробно описывает своё задержание и тюремные впечатления в августе 1991 года. Он пишет: «Первый в жизни допрос оставляет глубокий след, а точнее рану, на всю жизнь. Дело не в следователе, он выполнял свой служебный долг. Первый допрос врывается в душу, в сердце, как совершенно противоестественное событие, задевает твоё человеческое достоинство, не считается с тобой как с личностью, ломает привычный образ жизни и, словно непомерный гнёт, заставляет согнуться, ввергает в состояние беспомощности, бессилия». После ареста в аэропорту в 4 утра он был доставлен в подмосковный Солнечногорск, а после допросов там – в следственный изолятор в г. Кашине Тверской области. «…Трое суток провёл в камере один», где проявилась жажда поговорить с родными; написал несколько писем жене и сыновьям, невесткам, внуку и внучке. «Пожалуй, так откровенно я никогда не разговаривал с собой и родными», - вспоминает В.А. Крючков. Одиночество не сломило его, а помогло собраться с мыслями. Затем заключённого перевели в «Матросскую тишину» в Москве. Поместили его в камеру, где содержалось уже двое, которые потеряли дар речи, когда Крючков представился, они помогли освоиться в камере и предложили отдохнуть. Он уснул моментально, хотя в 7 часов был уже на ногах, но его сокамерники не могли спать: обсуждали ситуацию. «Вообще первые свои тюремные ощущения вспоминаю как тяжёлый, навязчивый сон». Крючков испытывал постоянную тревогу за родных, чувство горькой вины перед сослуживцами и народом за то, «что не получилось так, как хотелось, ради чего рисковал», ежедневно фиксировал в дневнике примечательные события, общение с сокамерниками и размышления. Горевал он также и о смерти Сергея Фёдоровича Ахромеева и Бориса Карловича Пуго, которых очень уважал. «Неволя пронизывает все клеточки», - пишет Крючков. Ежедневные прогулки вскоре становятся обузой, так как углубляют ощущение неволи. Он описывает в своих воспоминаниях «шмон» в камере омоновцев, отмечает особую ценность для заключённого воспоминаний о жизни, которые являются, чуть ли ни единственным способом отвлечься, создать настроение.
Кстати, далеко не все заключённые видели в своём прошлом средство поддержания жизни, «подпитку» для настоящего. Так, например, известный биохимик, врач и крупнейший научный деятель СССР, Александр Баев, расшифровавший геном человека и умерший в 1994 году, оказавшись в заключении в годы политических репрессий, наоборот, поставил цель вытеснить прошлое из сознания путём создания иллюзорного мира на основе высшей математики. Ведь и безоблачное прошлое может травмировать психику своим контрастом с нынешним ущербным состоянием; да и не у всех прошлое – источник положительных эмоций.
В своих показаниях следственным органам Крючков старался показать необоснованность привлечения к уголовной ответственности, как своих подчинённых, так и участников ГКЧП, убеждал, что все они действовали в интересах Родины, стремясь остановить катастрофический развал страны. Изменение общественного мнения по отношению к ГКЧП сказалось и на отношении персонала следственного изолятора к заключённому. Конечно, тюремный режим влиял и на здоровье, но Крючков старался к врачам не обращаться. Однажды, когда врачи закапывали ему лекарство в глаз, он потерял сознание, а после его возвращения на час или два лишился зрения; сильно кружилась голова, ноги и руки свела судорога. Был поставлен диагноз – микроинсульт.
События в августе 1991 года в России, по мнению многих (в числе их – последний Премьер-министр СССР Валентин Сергеевич Павлов), были заранее запланированы за рубежом, чтобы потом все преступления свалить на КПСС, на рядовых коммунистов, мешавшим «новым хозяевам страны капитализировать СССР», - пишет в своей книге «В водовороте российской смуты» бывший в 1990-1991 годах руководителем высшего законодательного органа страны, Председателем Верховного Совета СССР Анатолий Иванович Лукьянов. В этой должности А.И. Лукьянов и был арестован (такого, по его убеждению, не знала и не знает мировая практика). Следствие по «делу ГКЧП» тянулось больше года; обвинение было сформулировано, как «заговор с целью захвата власти»; к январю 1993 года после окончания следствия все узники «Матросской тишины» были освобождены из-под стражи под подписку о невыезде. 6 мая 1994 года на всех подсудимых была распространена амнистия, а несогласный с этим решением генерал армии В.И. Варенников был 3 февраля 1995 года оправдан за отсутствием состава преступления.
А.И. Лукьянов пишет в своих воспоминаниях о тех, кто оказался в тюрьме по этому «делу»: «Выйдя из «Матросской тишины», Олег Шенин вполне обоснованно сказал корреспонденту: «Все, кто там сидит, держат себя очень достойно, никто, как говорится, не потёк, никто не молит о пощаде, никто не изменил своим идеалам, своей этике» («День», 15-21 ноября 1992 г., № 46).
Мне трудно кого-либо выделить, но я назвал бы мужественную и честную позицию маршала Дмитрия Тимофеевича Язова, уверенность и выдержку генерала армии Валентина Ивановича Варенникова, твёрдость Василия Александровича Стародубцева, который на первое свидание вызвал в тюрьму не жену и дочь, а своего колхозного заместителя и бухгалтера, чтобы расспросить о делах хозяйства». Лукьянов с убеждённостью констатирует: «Друзья-демократы просто-напросто забыли, что каменный мешок тюрьмы может высосать все жизненные соки из горстки коммунистов, но нельзя, невозможно загнать в казематы и задушить идеи социализма и братства народа, которые признаёт сегодня любой уважающий себя прогрессивный деятель нашей планеты!»
В разделе книги «Что даёт тюремный опыт» Лукьянов вспоминает афоризм Махатмы Ганди, который услышал в Индии, посещая его бомбейский домик: «Каждый, кто желает заниматься большой политикой, должен какое-то время посидеть в отечественной тюрьме». «Из тюрьмы многое предстаёт в ином свете, глубже оцениваются прожитые годы…Что касается условий содержания в тюрьме, то я прошёл нелёгкий жизненный путь. Долго жил в голоде, считая каждую копейку…» Лукьянов не красит тюрьму только в чёрный цвет, хотя последние полгода (из полутора лет тюрьмы) он провёл в одиночной камере, отказываясь давать показания. Испытания только ещё больше сплотили его дружную семью, члены которой получали поддержку коллег по работе и окружающих людей. Лукьянов получал письма от 85-летней матери со словами поддержки, в ноябре 1992 года имел с ней свидание. От разных людей к нему поступило более четырёх тысяч писем, в том числе с родной Смоленщины. Он не только не утратил прежних друзей и товарищей, но и приобрёл новых. Ему писали народные депутаты РСФСР и СССР, известные писатели, герои войны и труда, военнослужащие и пенсионеры; некоторые обращались к властям страны и следственного изолятора с требованиями и просьбами освободить А.И. Лукьянова, просили прислать сборник его стихов с автографом. Из тюремной поэтической тетради А.И. Лукьянова мы приведём лишь несколько строк:
«Человеком остаться
Под напором беды,
Не скулить, не метаться,
Сохранять для борьбы
Те последние силы,
Ту последнюю нить,
Что спасёт от могилы
И скомандует: «Жить!»
Политическую оценку событиям тех лет А.И. Лукьянов даёт не только в своей книге «В водовороте российской смуты», но и в ответах на вопросы, пришедшие в «Матросскую тишину» и опубликованных в его книге «Переворот мнимый и настоящий». Свидетельства А.И. Лукьянова подтверждают заинтересованность определённых политических деятелей тех лет, как и стран Запада, в падении социалистического строя и разрушении СССР как сверхдержавы. Гибельность для России и многих других стран навязанного в результате смены власти пути развития уже подтвердилась многочисленными попытками «оранжевых революций» в бывших республиках СССР и в других странах мира – от Югославии, Ливии, Ирака и Сирии до Украины.
В связи с августовскими событиями и арестами августа 1991 года особо хочется сказать о Генерале армии, Герое Советского Союза, лауреате Ленинской премии (за изобретение нового оружия), участнике Великой Отечественной Войны, Парада Победы в 1945 году на Красной площади, участнике военных событий в Анголе, Aфганистане и других странах, - Валентине Ивановиче Варенникове. Он был также главным организатором работ воинских частей по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Всех его заслуг перед Родиной и титулов не перечислить, поэтому советую ознакомиться с его биографическим изданием «Неповторимое» в семи томах. «Трагедию Отечества в 1985-2000 гг.» (так он называет период «перестройки» в России) В.И. Варенников излагает в 6-м томе. Издана также маленькая его брошюра «Судьба и совесть».
В.И. Варенников вспоминает об историческом заседании коллегии Министерства обороны в Генеральном штабе 22 августа 1991 года, когда Верховный Главнокомандующий отстранил его от должности Главнокомандующего Сухопутными войсками - Заместителя министра обороны СССР. Там же он узнал об аресте Д.Т. Язова и В.А. Крючкова. Почему-то ему вспомнилась тогда судьба ярого монархиста, Верховного главнокомандующего в 1917 году, Лавра Георгиевича Корнилова, который был арестован по приказу Керенского и по решению Временного правительства заключён в тюрьму в городе Быхове. Оттуда он бежал, чтобы возглавить Добровольческую армию на Кубани. В боях под Краснодаром он погиб.
Распрощавшись с коллегами по Главному штабу Сухопутных войск и сдав дела, В.И. Варенников поехал на дачу, где был в три часа ночи арестован без предъявления ордера на арест и доставлен в Москву в «Матросскую тишину», хотя приезд туда был не подготовлен. Там был составлен «Протокол задержания подозреваемого» и предъявлено обвинение по статье 64 Уголовного кодекса РСФСР «Измена Родине с целью захвата власти». «Первое ощущение – злость. Не растерянность и страх, а именно злость! Почему? Явная ложь и несправедливость. Какая измена Родине? Наоборот, желание спасти её от развала! Какой захват власти? Все, кто составлял основу ГКЧП, были при самой высокой власти», - вспоминает В.И. Варенников. Далее он пишет: «Для меня было особенно важно выдержать принципиальную позицию в отношении оценки всех событий и лично своих действий. И я её выдержал. На протяжении всех полутора лет нахождения в следственном изоляторе и на протяжении всех судебных следственных действий я не менял своей оценки всего того, что произошло, и, тем более, никогда и никому не давал повода считать себя виновным».
Варенников прошёл в следственном изоляторе множество унизительных процедур, а менять камеры («пещерного вида») ему пришлось семь раз «плюс около месяца был в тюремной больнице». Он пишет: «пребывание в нашей тюрьме – это жизнь по ту сторону жизни. Человека, попавшего в тюрьму, фактически отрезают от общества. Его здесь не воспитывают, чтобы избавить от пороков, которые привели его на нары, а тем более не перевоспитывают. Его угнетают. Конечно, если суд определил меру наказания, осуждённый должен морально и физически выстрадать, прочувствовать свою вину и справедливость кары. Но подавляться, как личность, он не должен». И если во многих странах мира окна тюрьмы обращены наружу, на улицу города, то в нашей тюрьме – лишь вовнутрь, что усиливает изоляцию.
Подробные показания на суде В.И. Варенникова опубликованы в шестом томе его воспоминаний «Неповторимое». Мы уже упоминали, что сам факт амнистии к членам ГКЧП В.И. Варенников воспринял как «недопустимый компромисс». Тем более что эта амнистия сопровождалась прекращением деятельности комиссии по расследованию событий 21 сентября – 4 октября 1993 года («Ельцин этим шагом решил закрыть свой позор с расстрелом Дома Советов»). «Но самое главное… - мир и согласие - сосредоточены в экономических реформах. Если они будут отвечать интересам народа – будет мир и согласие», - подводит итог своего противостояния судебной и президентской власти В.И. Варенников. И всё же он признаётся, что и спустя три года после освобождения «постоянно находился в тисках тяжёлых, гнетущих мыслей, порождённых предъявленным обвинением». Покоя не было, так как не прояснилась для большинства истина: «Фактически именно Горбачев организовал антинародный переворот!»
Как победу Ельцина и проигрыш народа расценивает события расстрела Дома Советов в 1993 году Председатель Верховного Совета Российской Федерации Руслан Имранович Хасбулатов. Этой теме посвящены два тома его воспоминаний и размышлений «Великая Российская трагедия». И ему пришлось побывать в «Лефортово». Там всё ему было в диковинку: например, особый знак (пощёлкивание пальцами, посвистывание конвоира, чтобы навстречу не попались другие заключённые), когда его вели тюремными коридорами. Но руки за спину по приказу у него не поворачивались, поэтому конвоиры это требование отменили. Р.И. Хасбулатову предъявлялись обвинения по статье 79 Уголовного Кодекса Российской Федерации – «Об организации массовых беспорядков». В ответ Р.И.Хасбулатов изложил свою версию о виновниках переворота, назвав имена Ельцина, Ерина, Грачёва, Филатова, Панкратова, Козырева и многих других. Свои оценки тех событий он повторял во время следствия не раз, вплоть до освобождения из «Лефортово» 25 февраля 1994 года. Он пишет в своих воспоминаниях, что в тюрьме у него было состояние, промежуточное между сном и бодрствованием, «явь переплетается с прошедшими событиями», а когда в камеру пришёл библиотекарь, Хасбулатов заказал «книг двадцать». Принесли 6 книг. Навещали его не только представители Международного Красного Креста, адвокат, но и жена, дети…В общем, как всегда в тюрьме. «К тому времени я уже добился права на кипятильник, заваривал сам себе кофе, чай – хоть какое-то облегчение», - пишет Хасбулатов. Долгую ночь он проводил наедине со своими мыслями, а днём много читал, делал записи, часть которых (о местном самоуправлении и история развития коммун как института народовластия) опубликована в его двухтомнике.
«Только слепой не видел, что депутаты во главе с Хасбулатовым и Руцким взяли твёрдый курс на отрешение Ельцина от власти. На этот раз Ельцин значительно лучше подготовился к рискованному шагу», - пишут журналисты Н. Гульбинский и М. Шакина в книге «Афганистан…Кремль…Лефортова», посвящённой Александру Руцкому, бывшему в то время вице-президентом России. Руцкой и Хасбулатов узнали о готовящемся Указе Президента о роспуске парламента заранее («в работе с документами в Кремле царила преступная, потрясающая небрежность»). За несколько часов до его оглашения в СМИ Хасбулатов собрал экстренное заседание Президиума Верховного Совета, а затем вызвал в Дом Советов всех депутатов. Верховный Совет тогда был убеждён, что на его поддержку и защиту поднимется вся страна: «ведь «уничтожают» законодательную власть, вводят «президентскую диктатуру»!, то есть депутаты не видели реальную обстановку в стране. Во время сессии Верховного Совета Хасбулатов предложил отрешить Ельцина от власти, Руцкой был избран на его место.
В наши задачи не входит описание тех волнующих событий – их можно найти в многочисленных материалах и книгах воспоминаний участников тех лет с разных сторон. Защитники Белого Дома вынуждены были сдаться после обстрела 3-4 октября 1993 года. Период пребывания большого количества разнообразных людей (от облечённых высшей властью до обслуживающего персонала и случайных защитников) в течение многих дней почти в полной изоляции, без света и связи является особым примером стойкости и может быть предметом особого исследования. Арест защитников производило специальное подразделение по борьбе с терроризмом, группа «Альфа». Главных из них, включая Руцкого и Хасбулатова, отвезли в «Лефортово».
В других странах мира, кроме России, тюрьма – это также основное средство изоляции нарушителей закона и общественного порядка во всех их проявлениях. После ареста в 2001 году, президент Сербии Слободан Милошевич не стал страдающим узником и безвольным подсудимым Гаагского трибунала, а был рупором борьбы за более справедливый мировой порядок, обличителем преступлений США и НАТО. На протяжении пяти лет он не только профессионально защищал себя и обличал своих судей, но и предъявил неопровержимые аргументы, видео и архивные материалы своей правоты. 11 марта 2006 года он умер в тюремной камере.
12 мая 2016 года я присутствовала в стенах Государственной Думы на встрече депутатов фракции КПРФ, сотрудников аппарата и молодёжи со знаменитой пятёркой Героев Кубы, пятерых офицеров, проведших по 13-17 лет в американских тюрьмах (Антонио Герреро, Рамон Лабаньино; Херардо Эрнандес, Фернандо Гонсалес и Рене Гонсалес). Встреча было организована фракцией КПРФ и Г.А. Зюгановым. Почти все эти кубинцы были приговорены к пожизненному заключению за «шпионаж», хотя целью их внедрения в кубинскую диаспору во Флориде было предотвращение терактов на Кубе. Они были освобождены по требованию общественности, Совета по правам человека ООН, других международных организаций; Госдума РФ в 2007 году также обратилась к Конгрессу США с призывом пересмотреть дело «пятёрки». Эта поддержка людей разных стран мира помогла им выжить. Эрнандес рассказал на встрече в Госдуме, что в одиночном заключении по английскому словарю выучил язык, стал читать, начал искать правду в книгах и нашёл её в произведениях Льва Толстого, Достоевского, Гоголя. В момент освобождения он вообще ничего не чувствовал (никакой радости, эйфории не было), так как длительное заключение выработало у него защитную психологическую реакцию бесчувствия, отчуждения от всего.
Помимо изоляции, тюрьма выполняет также и другие социальные функции. Профессор криминологии Университета Осло (Норвегия) Нильс Кристи пишет в книге «Борьба с преступностью как индустрия»: «Общество на Западе повсеместно сталкивается с двумя главными проблемами: неравномерное распределение богатства и неравный доступ к оплачиваемой работе. Обе они несут в себе потенциал возникновения беспорядков. Индустрия борьбы с преступностью способна справиться с обеими проблемами. С одной стороны, она является источником работы и прибыли, с другой – обеспечивает контроль над теми, кто мог бы стать источником социальных потрясений». Н. Кристи задаётся вопросом о степени допустимого контроля и пределе развития тюремной индустрии, которая может в пределе «столкнуть общество на тоталитарный путь развития». Тем более что для большинства индустриальных стран мира отмечается рост числа правонарушений, что, по мнению Н.Кристи, связано также с углублением одиночества человека, то есть с неизбежным пребыванием в среди незнакомых людей, что приводит к потере морального контроля над человеком со стороны его ближайшего окружения. Он даже высказывает парадоксальную мысль: «Преступлений как таковых не существует. Некоторые действия становятся преступлениями в результате долгого процесса придания смысла этим действиям. Особенную роль играет при этом социальная дистанция». «Большинство из находящихся под контролем правоохранительных органов – относительно молодые люди». Мужчины-заключённые составляют преобладающее большинство, «в США под контролем правоохранительных органов находится значительно большая часть населения, чем в любой из развитых стран Европы и Америки».
Таким образом, количество заключённых не объясняется только уровнем преступности. Как уже отмечалось, уровень преступности и отношение к преступлениям связаны с образом мышления. Ведь большинство осуждённых – не какие-то особые бандиты, а обычные люди. Влияние на число заключённых, несомненно, оказывают и политические события, существующий строй, экономическая и правовая система. «Количество заключённых определяется, скорее, общим уровнем уверенности в обществе и равновесием политических сил», - пишет Н. Кристи. Он приводит пример традиции терпимости в Нидерландах, где люди «научились искусству компромиссов». Терпимость укрепляет также изобилие. «Легче также стабилизировать ситуацию и в том случае, когда общество выделяет несколько критериев, по которым определяются цели жизни, когда тезис «бедно, но честно» вызывает искренне уважение, когда благородство и великодушие ценится выше полезности и рентабельности». Моральные основы общества всеобщего благоденствия подрывает также всё большее разделение труда, замена взаимопомощи страховыми компаниями и ослабление значимости личных отношений между людьми, а также – всё более полное проникновение менеджмента в государственные организации. В этом случае всё больший вес приобретают упрощённые цели – повышение производительности труда и получение конкретных результатов, всё чаще раздаются популистские призывы к закону и порядку. Профессор констатирует: «идёт давление на прежние университетские стандарты, предполагающие развитие критического мышления…размывается моральное влияние тех, кто задаёт вопросы». Постоянно растёт количество вещей, которые можно украсть, как и применение наркотиков. Рост свободной миграции при неравенстве доходов разных стран и слоёв населения также способствует изоляции людей друг от друга, в том числе, принудительной.
Нильс Кристи рассматривает также борьбу с преступностью как «продукт», то есть система наказаний – это структура, подвластная условиям рынка. Если раньше право наказывать было привилегией и показателем власти, то в современном западном мире, тюрьма и наказание – это, прежде всего, выгода и рост бюджетных расходов. «Тюрьма – это деньги. Большие деньги» (это и реклама строительства тюрем «под ключ»; оборудование для тюрем, которое постоянно модернизируется, появляются спутниковые системы отслеживания даже условно освобождённых и системы для определения физиологического и психологического состояния нарушителей, находящихся под домашним заключением и для заключённых тюрем; это и обслуживание тюрем). «Тюремный бизнес привлекателен тем, что количество заключённых растёт быстрее, чем бюджеты, отпущенные на содержание тюрем». «Причинение страданий является действием огромной экономической важности для тех, кто этим занимается». То есть преступность стала «источником дохода для правительства и для сотрудников частных фирм», в результате чего создаётся «исключительно сильный стимул к экспансии системы», и, прежде всего, за счёт частного бизнеса. Происходит заметный сдвиг в сторону частного бизнеса в системе контроля и наказаний (в США, например, даже смертная казнь иногда исполняется частными подрядчиками; появилась частная полиция, что свидетельствует о наличии частных центров власти, поэтому верхушка власти может легко откупиться от возможных неприятностей, а низшие классы становится всё более беззащитными). Н.Кристи категоричен в своём выводе: «Рабочий - безработный – преступник – каторжник, круг замыкается. А победитель один – крупный бизнес». «Для частного бизнеса труд заключённых – это кладезь. Никаких забастовок. Никаких профсоюзов». Более того: «Если экономический спад охватит все страны, тюрьмы будут только плодиться – иначе им не вместить всех пострадавших».
Н. Кристи отмечает также значимость для индустрии наказания и геополитического фактора. Так, например, после окончания «холодной войны» военно-промышленный комплекс западных стран вынужден был переориентироваться на внутреннего врага, поэтому «за пять лет, по прошествии которых распался Советский Союз, преступность в Соединённых Штатах возросла более чем на 30%». Более того, затраты на борьбу с внутренним врагом почти сравнялись с затратами на борьбу с врагами внешними. «Тюремная индустрия поглощает значительную часть потенциальной рабочей силы Америки…, в индустрии контроля над преступностью занято 4 процента от всей рабочей силы страны». Он предлагает ряд мер по совершенствованию системы наказаний. Прежде всего, необходимо ввести «шкалу определения тяжести преступления», так как вину усугубляет наличие высшего образования и высокий годовой доход, налаженные социальные связи; вину смягчает: минимум образования, жизнь за чертой бедности и серьёзные психологические травмы в детстве. Не менее важно и то, что обвиняемый в существующей системе правосудия чаще всего не рассматривается как личность. С официальной системой правосудия он сопоставляет также «сельское право, представительское право и независимое право».
Н.Кристи анализирует также развитие системы контроля над поведением людей. Он ссылается на книгу Зигмунта Баумана «Современность и проблема Холокоста» (Zygmunt Bauman, Moderniti and the Holocaust, 1989), который занимается проблемой концентрационных лагерей времён Второй мировой войны. Н. Кристи отмечает три «концепции», объясняющие появление этих лагерей: 1) они были созданы людьми, страдавшими серьёзными психическими расстройствами; 2) причина – в порочной социальной системе; 3) массовое уничтожение людей не рассматривается как исключительное событие, а как примета современного, рационального общества, так как жертвы не рассматривались как личности, а лишь как «материал для экспериментов» (сторонником этого объяснения является З.Бауман). При этом индустриализация не подразумевает социальный прогресс, а социал-дарвинизм (с его убеждённостью, что выживают лишь достойнейшие) и империализм порождает расовую и классовую дискриминацию. Поэтому есть опасность, что убийство в современном обществе может стать индустрией не только по судебным или политическим показаниям (уничтожение и изоляция социально опасных), но и по медицинским (эвтаназия безнадёжно больных и инвалидов).
Н.Кристи системно, то есть целостно, подходит и к определению места системы наказания и правовой системы в обществе. Ведь в современном обществе право часто ставят выше прочих общественных институтов и превращают в институт производства. Н. Кристи пишет, что Даг Остерберг выделяет четыре категории основных общественных институтов: институты производства, в которых главенствует рациональная установка; институты репродукции (главенствует забота и уход); институты политики и власти; научные и культурные институты (координирующие принципы и ценности общества, его образ мышления).
Как отмечают авторы книги «Тюремный мир глазами полит заключённых. 1940-1980-е годы» В.Ф. Абрамкин и В.Ф. Чеснокова, «тюремная субкультура или субкультура уголовного мира России оказывает огромное влияние на все сферы жизни нашего общества» (включая «правила и законы», жаргон и ритуалы), а люди, прошедшие через тюремную или лагерную школу борьбы за выживание, начинают играть всё более активную роль в обществе, так как, по выражению Фёдора Достоевского, «остроги России собирают самые энергичные слои общества».
Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко в интервью газете «Известия» 26 мая 2017 г. отметил некоторую «гуманизацию уголовных наказаний», «расширением спектра наказаний, не связанных с изоляцией от общества». Снизилось общее количество осуждённых, отбывающих наказание в виде лишения свободы: в 1990-х годах в исправительных учреждениях содержалось порядка 800 тысяч человек, теперь – приблизительно 520 тысяч. «Реальные сроки…получают в основном за совершение тяжких и особо тяжких преступлений – 86, 2%. По сравнению с 2000 годом практически в три раза увеличилось количество осуждённых за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков,- более 138 тыс., число осуждённых за убийство возросло с 93 тыс. до 106, 5 тыс. человек». А число осуждённых за кражи сократилось почти в три раза. «Осуждённых за преступления в сфере экономической деятельности у нас всего 919 человек». 30 тысяч осуждённых - граждане других стран, большинство которых - мигранты; 80-85% - мужчины в возрасте от 20 до 49 лет; свыше 60% не имеют семьи; 75% имеют среднее образование, но 5 % не окончили даже среднюю школу. Почти 4% не умеют даже читать и писать. 60 % заключённых не имели на свободе определённой работы; 25% - не имели профессии; 44,8% больны социально значимыми болезнями (туберкулёз, СПИД, психические расстройства, алкоголизм, наркомания); каждый десятый склонен к суициду и членовредительству; каждый пятый имеет склонность к деструктивному поведению, демонстрируя при этом слабые волевые качества, повышенную внушаемость и агрессию.
И, конечно, те или иные экстремальные жизненные обстоятельства, помимо проблем с властью и правопорядком, также могут создавать ситуации вынужденной изоляции (например, это пребывание на подводной лодке, тем более, затопленной или окружённой врагами).
В числе наиболее экстремальных ситуаций, создающих, наверное, самый сильный стресс, сопровождающийся иногда длительным периодом вынужденной изоляции, является война. Не зря фраза «Лишь бы не было войны» является нарицательной. Надо отметить, что осада, как средство изоляции противника (как в военной форме, так и мирного жителя), с целью его капитуляции или уничтожения, проверено тысячелетиями человеческой истории, сведения о котором можно найти в любых учебниках истории, как и описания крепостных сооружений для отражения врага. В разделах 2 и 3 мы приведём некоторые примеры подобных ситуаций (например, Ленинградская 900-дневная блокада в годы Великой Отечественной войны) и проанализируем их. Здесь же мы отдадим дань стойкости мирных жителей и 10 тысячам бойцов каменоломен посёлка Аджимушкай под городом Керчь в Крыму («Великая Отечественная война». Энциклопедия для школьников. М: «ОЛМА-ПРЕСС», 2001, с. 165).
Мне удалось в сентябре 2013 года посетить это памятное место. Конечно, трудно назвать «жизнью» пребывание всех этих людей (среди них были и маленькие дети) в разветвлённом и холодном пространстве каменоломен (температура в них была не выше 12 градусов, а в некоторых подземельях не превышала 6 градусов) в течение нескольких месяцев (май-октябрь 1942 года). Бойцы Красной Армии должны были защищать Керчь, но вынуждены были укрыться в каменоломнях, откуда совершали дерзкие вылазки, во время которых захватывали оружие противников, пополняли запасы воды и продовольствия. Борьбой руководил штаб обороны во главе с полковником П.М. Ягуновым, которая осуществлялась строго по Уставу РККА (за время осады 800 человек из 10 тысяч защитников были расстреляны за его нарушения, что было продиктовано экстремальностью ситуации). В каменоломнях какое-то время было даже электрическое освещение, работала операционная (в ней проводили даже ампутацию конечностей), размещался госпиталь с железными кроватями без матрацев. Продовольствия не хватало, поэтому ели даже крыс и добываемую на воле траву; колодцы неоднократно подвергались уничтожению немцами, поэтому население каменоломен добывало воду по каплям непосредственно из камня (экскурсанты могут видеть такой водосбор и даже испить водички из железной солдатской каски). На каменоломни обрушивались минные и танковые атаки, падали авиабомбы, но защитники не сдавались. После того, как фашисты 20 мая 1942 года применили против осаждённых ядовитый газ, запрещённый международными конвенциями, в каменоломнях осталось лишь 2000 человек, которые сумели продержаться до октября, оборудовав защитные укрытия от газовых атак. Конечно, среди них были не только нарушители Устава, но и те, кто сходил с ума. Наверное, были и случаи самоубийств, но были и те, кто оставил на бумаге или на стенах каменоломни записи, что они не сдаются врагу, верят в победу и торжество коммунизма…
Надо отметить, что в современном обществе, помимо тюремной изоляции, в качестве наказания нарушителей часто применяется насильственное лечение, которого многие боятся больше тюрьмы. Так, например, уничтоживший многих людей швед, неонацист Бревик, получив срок 21 год (при минимуме отсидки 10 лет) только рассмеялся при чтении протокола. Теперь жить ему придётся в тюрьме в трёхкомнатной камере с компьютером и тренажёрами, а не в психушке, куда он боялся попасть. Суд признал его вполне вменяемым.
Но, рассуждая о вынужденной изоляции в тюрьме, о сложном общении в тюремном пространстве, при вынужденной изоляции, мы должны признать, что жертвой изоляции можно стать и на свободе. И не только по причине болезни или из-за своей особой «инаковости», благодаря предельно «новационному» или диссидентскому подходу к проявлениям жизни или творчества. Жертвой изоляции можно стать и на обычной работе, в том или ином коллективе. Так, например, «в России жертвами офисного террора становится от 5 до 20 процентов работников», - сообщает нам статья «Моббинг дик» в «Российской газете» от 24 марта 2010 года. И «офисная травля» - явление не только российское. Первым его начал изучать шведский психолог Ханц Лейман в начале 1980-х годов. Он выявил 45 «методик» превращения жизни жертвы в невыносимую. Среди них: утаивание информации; социальная изоляция, клевета, несправедливая критика, сплетни, окрики, высмеивания и т.п. В результате у жертвы формируется не только заниженная самооценка, возникают проблемы со сном и нервные срывы, бывают инфаркты и депрессии, 10% самоубийств связано с подобной травлей.
1.2. «Враги народа», преступники и изгои
«Привычная жизнь, вообще, наверное, - большая иллюзия и страдание, как утверждает большинство религий,
а человек своей деятельностью часто усугубляет эти страдания»
Автор
«Отщепенцы» от любого установленного сверху или большинством порядка были, есть и будут всегда. Наверное, в природу некоторых людей протест, как и тяга к нарушению всех мыслимых и немыслимых правил общежития, бывает заложена в избытке, как бывает иногда заложена и особая склонность к послушанию. Влияет генетика, гормоны, избыток жизненной силы, воспитание и образованность, ближайшее окружение, социальный строй и степень совпадения личной судьбы с тенденцией исторического развития.
Не последнюю роль играет и гороскоп человека, то есть положение планет в знаках Зодиака на момент рождения. Эту тему надо рассматривать отдельно. Здесь мы лишь отметим, что неблагоприятные аспекты Урана, Марса и Плутона между собой и с другими планетами, как и наиболее сильное влияние их на того или иного человека, создают особые предпосылки для дисгармонии между человеком и обществом, формируют если не революционера, то упрямца. Например, такие знаки Зодиака, как Скорпион, Овен и Водолей, как наиболее подверженные влиянию вышеназванных планет, как правило, непокорнее и упрямее Весов, Рыб, Дев, Близнецов, агрессивнее Тельцов, хотя сфера упрямства может лежать как в бытовой сфере, в межличностных отношениях или в сфере политики, так и касаться интеллектуальной и духовной жизни. Упрямство, противостояние и «отщепенство» может проявляться как в активной форме, так и в пассивной, поэтому ту или иную форму агрессии, протеста могут демонстрировать все знаки Зодиака, самые разные люди, хотя делают это по-разному.
С «нарушителями общественного спокойствия» поступают как по закону, так и по сложившейся традиции. К ним зачастую проявляют ту или иную меру терпимости, гуманности и даже понимания. Эта мера, как и наказание, зависит как от личности самого нарушителя, его «назойливости», так и определяется политическим режимом, идеологическими и духовными установками общества. Зависит она и от социального положения «отщепенца», принадлежности его к тому или иному социальному слою, касте или профессии. Так, например, знатные участники восстания декабристов на Сенатской площади 1825 года хотя и были жестоко наказаны, но благодаря заступничеству своих жён и родных, принадлежавших к высшей аристократии, получили, за редким исключением, ряд послаблений по сравнению с простыми солдатами.
В среде разведчиков, высших партийных лидеров и тайных обществ «отщепенцы» караются жестоко, если они нарушили высший приказ; но между разведками и правительствами разных стран, наверное, существует договорённость, по которой провалившихся профессиональных шпионов часто обменивают.
Открытая борьба с общественным мнением чревата для нарушителя проклятиями, ненавистью, злобой со стороны большинства и власть предержащих, а также – тюремным заключением и физическим уничтожением. И в этом случае масштаб личности «отщепенца», как и его прежние и любые заслуги перед Отечеством, не в счёт! Более того, он ещё яростнее станет подвергаться нападкам, скорее будет изгнан из общества, станет жить в изоляции. Вспомним, как изменилась судьба французского писателя Эмиля Золя после того, как он вступился за обвинённого в шпионаже офицера Дрейфуса, обнаружив в судебном процессе антисемитский след. По некоторым свидетельствам, его не только избила толпа, поносила пресса, но ему «помогли» расстаться и с жизнью.
Примером фанатичного стремления к обнажению своей позиции крайнего неприятия существующего политического строя России является офицер М.С. Бейдеман, который стал своего рода «таинственным узником» Алексеевского равелина в 1861 году. В документе для Ш Отделения о причинах своего ареста, написанном в крепости, он выразил всю свою ненависть к правительству, существующему строю России, цензуре. Примером предельно критического отношения (по сути, «тоталитарного мышления», при котором с убеждённостью в собственной абсолютной правоте изобличается тоталитарный утопизм устройства российской жизни) является текст Бейдемана «Нечто об утопии». Ставя вопрос об «утопизме» Стеньки Разина, Пугачёва, Огарёва и Герцена, других революционеров, об «утопизме» честности и справедливости, он спрашивает генерала Потапова «что такое нелепое самодержавие, как не величайшая утопия?...Что такое весь нынешний порядок вещей, как не утопия?...г. Потапов. Вы – утопист потому, что вы должны или отказаться от здравого смысла, или оставить Ш Отделение. Я называю утопией желание принести пользу русскому народу, служа в Ш Отделении…» Болью за русский простой народ, крестьянство пронизаны написанные Бейдеманом в крепости поэма «Ванюша» и «Славянофильство как принцип». Никакого следствия по его делу не велось, никакого суда не было! Несмотря на прошения, в течение шести с половиной лет он оставался единственным узником Алексеевского равелина. На девятом году заключения и на третьем году абсолютного одиночного заключения ему изменил разум, по свидетельству врача он впал в идиотизм. Лишь в 1881 году (через 20 лет!) было принято решение о «помещении его на испытание в Окружную лечебницу всех скорбящих в Казани».
Условия содержания на каторге в царской России были отчасти представлены в разделе 1.1, так как тюремное заключение зачастую переходило в посмертную или временную каторгу (как у декабристов, например); была распространена также ссылка и поселение в отдалённые регионы России не только для политических заключённых, революционеров всех мастей и даже провинившихся представителей власти (князя Меньшикова, например, сослали в Березово), но и для религиозных протестантов (типа «раскольников», старообрядцев, о которых мы скажем в разделе 1.4).
Многие места ссылки неугодных и социальных отщепенцев сами по себе являются наказанием даже для вольнонаёмных и местных жителей. А.П. Чехов красноречиво описал жизнь на Сахалине в своих одноимённых очерках (на острове он скрупулезно занимался переписью населения): «когда природа создавала Сахалин, то при этом она меньше всего имела в виду человека и его пользу». После визита к начальнику острова Сахалин, генералу В.О. Кононовичу, А.П. Чехов записал: «Узнав, что я намерен пробыть на Сахалине несколько месяцев, генерал предупредил меня, что жить здесь тяжело и скучно. «Отсюда все бегут, - сказал он, - и каторжные, и поселенцы, и чиновники. Мне ещё не хочется бежать, но я уже чувствую утомление от мозговой работы, которой требуется здесь так много, благодаря, главным образом, разбросанности дел». Даже при относительной свободе передвижения каторжных и поселенцев Чехов отмечает, что в праздничный день, несмотря на музыку оркестра и стрельбу из пушек после торжественного обеда у генерал-губернатора А.Н.Корфа «на улицах было скучно. Ни песен, ни гармоники, ни одного пьяного; люди бродили, как тени, и молчали, как тени». Чехов отмечает почти повсеместную нищету, убожество и отсутствие самых элементарных удобств жизни (люди живут даже в юртах-землянках, спят в полушубках, редко или практически не моются) и антисанитарию (отсутствие отхожих мест и мусорных ям); многие женщины промышляют развратом. В ссыльно-каторжной тюрьме нет даже постелей, заключённые спят на нарах, одеты почти в лохмотья, ходят в общую парашу. «Люди, живущие в тюремной общей камере, - это не община, не артель, налагающая на своих членов обязанности, а шайка, освобождающая их от всяких обязанностей по отношению к месту, соседу или предмету», «виноваты в этом все, то есть никто». Чехов отмечает ябедничество, наушничество, самосуд, кулачество среди заключённых. Наиболее тяжкие преступники содержатся прикованными к тачкам (Воеводская тюрьма).
На Сахалине мало людей, способных на систематический тяжкий труд. Вынужденное безделье перешло в привычное; от скуки люди смеются или начинают плакать. Это – лишние люди, которые всё перепробовали, «выбились из сил, которых у них так мало, и, в конце концов, махнули рукой…» Тем не менее, Чехов отмечает исключение из общего правила: «В Дербинском живёт каторжная, бывшая баронесса, которую здешние бабы называют «рабочею барыней». Она ведёт скромную рабочую жизнь и, как говорят, довольна своим положением».
Местное коренное население Сахалина, гиляки, никогда не умываются, но при этом бойки, смышлёны, веселы и свободны в общении с другими, не признают ничьей власти, у них отсутствует даже понятия «старший» и «младший», брак считают пустым делом, женщин никогда не ласкают. Есть и другие коренные народы, которые приспособились к жизни.
На Сахалине А.П. Чехов пробыл 3 месяца и 3 дня; он осуществил подробную перепись всего населения (около 10 тысяч каторжных и поселенцев). Он писал А.С. Суворину 11 сентября с парохода «Байкал» в Татарском проливе: «объездил все поселения, заходил во все избы и говорил с каждым; употреблял я при переписи карточную систему…». 9 декабря 1890 года, уже в Москве, А.П. Чехов снова писал А.С. Суворину: «Знаю я теперь очень многое, чувство же привёз с собою нехорошее. Пока я жил на Сахалине, моя утроба испытывала только некоторую горечь, как от прогорклого масла, теперь же, по воспоминаниям, Сахалин представляется мне целым адом…Бедность, невежество и ничтожество, могущее довести до отчаяния». Кстати, не менее рельефно предстаёт в письмах А.П. Чехова дореволюционная жизнь русского и других народов Севера и Дальнего Востока во время его пути на Сахалин. Он восторгается природой этого края, но отмечает: «Хорош божий свет. Одно только не хорошо: мы. Как мало в нас справедливости и смирения, как дурно понимаем мы патриотизм!...Вместо знаний – нахальство и самомнение паче меры, вместо труда – лень и свинство…Работать надо, а всё остальное к чёрту. Главное – надо быть справедливым, а остальное всё приложится».
Таким образом, сам быт, как и природа, некоторых отдалённых и суровых мест проживания, является естественным средством наказания людей. Прежде всего, по отношению к некоренному населению того или иного региона Земли, страны, географического пояса. Не менее важен социальный аспект бытия людей.
Тем не менее, коренное население суровые природные условия воспринимает как естественные, поэтому с тревогой, неодобрением рассматривает наступление современной цивилизации, которая несёт разрушение привычного образа жизни. Об этом пишет, например, профессор кафедры национальной экономики Тихоокеанского государственного университета из Хабаровска Юрий Сергеевич Салин в своих книгах «Иная цивилизация. По стране оленных людей» и «Пизанская цивилизация» (раздел 3.2 нашей книги). Именно поэтому наиболее продвинутые этнографы ставят под сомнение непререкаемость линейного подхода к эволюции человечества, так как каждая цивилизация обладает уникальными качествами, а прогресс в одном отношении всегда сопровождается регрессом в другом.
История сталинского ГУЛАГа запечатлена во множестве художественных, документальных изданий, в многочисленных мемуарах бывших заключённых, прошедших свой путь до конца. Она является примером системного, планомерного подавления инакомыслия, практикуемого на протяжении многих лет существования СССР. Тем не менее, во всех странах мира в то же время, как и сейчас, существовали и существуют примеры яростного преследования инакомыслия (это есть и было, например, в США и в Германии). Миром правили и до сих пор правят тоталитарное и дуалистическое мышление, то есть осуществляется планомерная борьба со «злом», врагами, отождествляемыми, чаще всего, со своими идейными противниками и конкурентами в борьбе за мировое господство, которое с позиций признаваемой нами «спектральной» модели мира не достижимо! Кстати, «большевики», пришедшие к власти в 1917 году, на самом деле были в меньшинстве, хотя и выражали интересы, возможно, наиболее сознательной, но малочисленной части общества. Да, они были за прогресс и развитие для большинства. Но какой ценой это могло осуществиться, какими непомерными усилиями обычных граждан, простых «обывателей»?
В коллективном труде историков «Наше Отечество. Опыт политической истории», том 2, раздел «Тоталитарная система власти и идеология сталинизма» говорится: «Сталинизм существовал как цельная, исключительно жёсткая, авторитарная идеология, охватывающая собой все сферы духовной жизни общества. Другое дело, что сама по себе она не была ни логически последовательной, ибо сопрягалась с прагматической сталинской политикой, которая, в зависимости от обстоятельств, способна была поворачиваться на 180 градусов, ни научно обоснованной, хотя Сталин…не упускал случая сконструировать ту или иную «теоретическую» базу для оправдания своих действий. По этим же причинам идеология сталинизма была крайне эклектичной: она вбирала в себя элементы иногда несовместимых идей и представлений – вплоть до выдвинутых теми, кто был объявлен «врагами народа» и уничтожен в ходе массовых репрессий». Но на практике во многом преобладало «дуалистическое мышление». Поэтому, как справедливо отмечается в вышеупомянутом коллективном труде историков, даже новый поворот к уже послевоенному террору в 1948 году («Ленинградское», «Мингрельское», «дело врачей» и другие дела) народ принял на удивление легко, то есть трудности послепобедных лет во многом были списаны на «врагов», «шпионов», «убийц» (то есть осуществлялся поиск «козлов отпущения»).
Тем не менее, без ограничения инакомыслия, как по форме, так и содержанию, невозможно поддерживать стабильность жизни большинства населения любой страны, оберегать представителей сложившейся власти от непрерывных переворотов и революций, невозможно чётко идти к намеченной цели и выстраивать ту или иную линию технического и даже интеллектуального прогресса. Тем более что новая идеология, иное мнение, как правило, не только разрушает прежние представления, но и сложившийся жизнестрой народа. Здесь мы не станем обсуждать неизбежность подавления инакомыслия в тех или иных случаях, включая историю борьбы с «троцкизмом» И.В Сталина в условиях, когда СССР могла выжить лишь путём жёсткой концентрации усилий её граждан и власти, противостоя аппетитам Запада, взрастившего на нашу погибель Гитлера (Н.В. Стариков. Кто заставил Гитлера напасть на Сталина. Роковая ошибка Гитлера. СПб.: Питер, 2014). Ослабление геополитических конкурентов любыми средствами (среди них: культивирование хаоса, разобщённости людей, антипропаганда и пропаганда буржуазных, ложных ценностей, формирование «пятой колонны» и т.п.) представляет угрозу безопасности любой стране и в современном мире. Я полагаю, что лишь переход к «спектрально-целостной» модели восприятия и описания мира может изменить жизнь большинства человечества к лучшему, даже спасти его от возможной гибели (подробнее об этом в разделе 6). Мне представляется, что позиция И.В. Сталина была ближе к «спектральной модели» мироздания, чем у И.Д.Троцкого, хотя, к сожалению, большинство их современников руководствовались тоталитарным и дуалистическим мышлением и представлением о мире. При этом надо всегда различать декларируемые идеалы или принципы (например, «классовую борьбу») и логику самой жизни, которая, в силу её многомерности, вынуждает отклоняться от прямолинейного достижения намеченной цели. И чем успешнее политический лидер и его политика, тем более гибким и «непоследовательным» предстают иногда его действия. Приверженцы тоталитарного мышления и линейного прогресса иногда ссылаются на принципиальность политики Ленина и Сталина, как бы не замечая гибкости и многомерности их мышления и действий, без которых не было бы и успехов, без которых нельзя было бы и удержать власть.
Кстати, сам Сталин отрицательно относился ко многим фактам возвеличивания себя и различал попытки писателей, например, М. Булгакова в пьесе «Батум» и Веры Смирновой в книге рассказов о детстве Сталина (Г.А. Зюганов, «Сталин и современность», с. 44-45), «добиться благосклонности вождя».
Историк Михаил Юрьевич Моруков попытался показать в исследовании «Правда ГУЛАГа из круга первого» историю ГУЛАГа через призму государственных задач и проблем, стоявших перед СССР с момента его образования. Он рассмотрел историю системы принудительного труда в СССР и России. «В 1877 г. для разработки общих оснований реформы тюремного дела была сформирована комиссия под председательством тайного советника К. Грота», - пишет этот историк. Был собран и обобщён огромный материал по организации тюремных ведомств Европы и США, были составлены и утверждены соответствующие положения и принят законодательный акт, на основании которых «все категории осуждённых…обязательно должны были заниматься работами…» «Впервые законодательно устанавливалась длина рабочего дня: 11 часов летом и 10 зимой…» Из-за опасения побегов предпочтение отдавалось внутренним работам; закреплялось также право на получение вознаграждения за свой труд.
Как отмечает М.Ю. Моруков, в России «ещё Соборным уложением 1649 года предусматривалось отправлять мошенников, воров и разбойников в оковах работать на всякие изделия, где государь укажет». Особенно широко труд осуждённых начал применяться с эпохи Петра 1.
Большевики в 1917 году получили в наследство царскую систему организации принудительного труда, обогащённую опытом лагерных принудительных работ для военнопленных в Первую мировую войну. Правомочность использования принудительного труда в СССР вполне соответствовала пониманию государства, как «машины для поддержания господства одного класса над другим», то есть для насильственного подавления эксплуататоров, а также – для ускоренного перехода к коммунистическому способу производства, для масштабного преобразования условий жизни общества. Начальный этап становления советской пенитенциарной системы связан с лагерями принудительных работ (датой их рождения называется 5 сентября 1918 года, когда в Постановлении СНК РСФСР «О красном терроре» упоминается о концентрационных лагерях). «Всего за 1919-1921 гг. в стране существовало 132 лагеря…» В начале 1922 года в практике лагерей впервые был поставлен вопрос о работе на хозрасчётной основе. После расформирования в 1922 году лагерей принудительных работ для содержания «контрреволюционных элементов» потребовались места содержания со строгим режимом изоляции. Для этой цели в 1923 году было сформировано управление Соловецкого лагеря особого назначения.
После того, как НЭП вступил с конца 1927 года в полосу кризиса, и стало ясно, что выход возможен лишь на пути форсированной индустриализации в промышленности и коллективизации в сельском хозяйстве, а опираться можно было лишь на собственные силы, была выбрана стратегия индустриализации за счёт «первоначального социалистического накопления» с использованием ресурсов деревни. Предполагалось, что на этом пути возрастёт сопротивление зажиточной части крестьянства, что в действительности и произошло, так как требующиеся для индустриализации суммы были огромны. Для обеспечения валюты для закупки оборудования необходим был экспорт, основной статьёй которого стал лес и добываемое золото. Для форсированной разработки лесных массивов и разработки месторождений золота в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока использовался труд заключённых. Осуждённый изолировался от общества как бы самой природой и должен был работать в интересах общества в малонаселённых районах страны.
Государственная необходимость диктовала также использование труда заключённых при сооружении крупных оборонных объектов (первыми такими объектами стали 4 железнодорожные и 2 безрельсовые дороги), а также – строительство Беломорско-Балтийского канала, который был построен в рекордно короткие сроки (1931-1933 гг.). Его значение для обороны СССР в годы войны было вполне оценено и западными специалистами. 11 ноября 1931 года ЦК ВКП (б) принял постановление «О Колыме», которым предписывалось форсирование добычи золота в верховьях Колымы. На этих работах также широко использовался труд заключённых.
Как отмечено в коллективном труде историков «Наше Отечество. Опыт политической истории», том 2, раздел «Политика большого скачка», «в 1928 г. заместитель наркома рабоче-крестьянской инспекции РСФСР Н. Янсон направил Генеральному секретарю письмо. В нём чётко излагались предложения о массовом применении труда заключённых на земляных работах, на стройках, особенно в отдалённых районах. Центральное место занимала мысль об использовании осуждённых на заготовках леса, экспорт которого давал столь необходимую валюту, поистине зловещим выглядит в письме то место, где говорится о развёртывании лагерей на 1 млн. человек. В тексте они названы «экспериментальной ёмкостью». (Этот эксперимент в 1938 году коснулся и старого большевика Янсона, которого расстреляли).
М.Ю. Моруков перечисляет ряд крупных железнодорожных и других строек, сооружённых в 1932-39 гг. силами ГУЛАГ ОГПУ – НКВД СССР в Сибири и на Дальнем Востоке, некоторые из которых становились осями для освоения ранее необжитых территорий. Одной из крупнейших строек ГУЛАГа стало сооружение Северо-Печорской магистрали. По данным историка, подразделениями ОГПУ-НКВД в межвоенный период сооружено около 18% советских железных дорог. Крупное строительство ГУЛАГ вёл и на Балтике (для создания крупной военно-морской базы), сооружался в Архангельской области мощный судостроительный завод, Норильский никелевый комбинат. Строились также объекты по заказу Наркомата авиационной промышленности, велась огромная работа по расширению и реконструкции аэродромной сети. При строительстве применялась рациональная организация труда (например, фаланга или колонна, - своего рода, комплексная ударная бригада, ответственная за весь объём работы на вверенном ей участке).
«Отдельной страницей истории хозяйственных подразделений ОГПУ-НКВД является создание и эксплуатация промышленных комплексов по добыче минерального топлива и стратегического сырья в отдалённых районах СССР», - пишет М.Ю. Моруков. К началу Великой Отечественной войны в распоряжении НКВД СССР находились мощные трудовые ресурсы.
«По состоянию на 1 января 1941 г. в лагерях и колониях насчитывалось 1 929 729 заключённых, в том числе около 1 680 000 мужчин трудоспособного возраста». От всех трудоспособных рабочих СССР это составляло 8%.
По ходатайству НКВД Президиум Верховного Совета СССР дважды в 1941 году принимал указы об амнистии; всего же за годы войны в ряды вооружённых сил влилось 975 тысяч бывших заключённых. Эвакуации подверглись 27 исправительно-трудовых лагерей и 210 колоний. Участвовали заключённые и в изготовлении оборонной продукции, а также – большей части предметов вещевого снабжения для тыловых военных округов; было пошито 22 миллиона единиц обмундирования для Красной Армии. Если до войны заключённые работали на 350 предприятиях СССР, то к 1944 году их стало уже 640. Рабочая сила, поставляемая НКВД в 1944 году, составляла 55% от числа всех занятых на производстве в ключевых оборонных наркоматах. Одной из крупнейших строек в годы войны стало сооружение Челябинского металлургического комбината специальных сталей.
Но, как отмечает М.Ю. Моруков, не нужно предполагать ведущей роли ГУЛАГа в экономическом развитии СССР, как это делал, например, А.И. Солженицын; средства ОГПУ-НКВД применялись преимущественно в условиях отсутствия альтернативных возможностей для реализации поставленных государством задач или на направлениях, где требовался высокий уровень концентрации ресурсов.
М.Ю. Моруков в своей книге приводит численность заключённых ГУЛАГа (по состоянию на 1 января каждого года) за период 1935-1953 гг. По его данным в 1935 году во всех исправительных лагерях содержалось 965 742 заключённых (примерно 16,3 % из них были осуждены за антисоветскую деятельность), в 1953 году – 2 468 524 заключённых (примерно 26,9% были осуждены за антисоветскую деятельность). «По состоянию на 1 апреля 1954 г. в ГУЛАГе содержалось 1 360 303 заключённых, в том числе 448 344 за контрреволюционные преступления…За период с 1 апреля 1954 г. по 1 апреля 1961 г. численность политических заключённых в ГУЛАГе сократилась в 40,7 раз, а их удельный вес в составе всех заключённых - с 33 до 1,2%». В тюрьмах СССР ежегодно число заключённых сильно колебалось по месяцам и годам. В январе 1939 года их было 350 538, в январе 1948 – 275 850.
В докладе «Комиссии по установлению причин массовых репрессий против членов и кандидатов в члены ЦК ВКП (б), избранных на ХVП съезде партии», образованной 31 декабря 1955 г. при Президиуме ЦК КПСС (доклад послужил основой знаменитого секретного выступления Хрущёва на ХХ съезде КПСС), была приведена таблица с данными о количестве репрессированных. Вот сведения из этой таблицы. В 1935 г. арестовано 114 456, расстреляно 1229; в 1936 году арестовано 88 873, расстреляно 1118; в 1937 году арестовано 918 671, расстреляно 353 074; в 1938 году арестовано 629 695, расстреляно 328 618; в 1939 году арестовано 41 627, из которых расстреляно 2 601; в 1940 году – соответственно 127 313 и 1863 человека. (Эти данные приведены в книге «Иван Серов. Записки из чемодана. Тайные дневники первого председателя КГБ, найденные через 25 лет после его смерти». Проект Александра Хинштейна. М.: Просвещение, 2016, стр. 463). Многочисленные статистические данные о численности обитателей ГУЛАГа, жертвах репрессий, военных потерях и т.п. представлены также в коллективном труде историков «Наше Отечество. Опыт политической истории», том 2 (М.: «ТЕРРА» - «TERRA», 1991).
В 1922 году только во время антицерковной компании погибло около восьми тысяч священников; многие – мученической смертью; об этом подробно пишет С.Ю. Рыбас в биографии «Сталин». Кстати, среди них был дед Героев Советского Союза Зои и Александра Космодемьянских, погибших в годы Великой Отечественной войны, - священник Пётр Космодемьянский. Он был убит во время карательной операции против крестьянского Тамбовского восстания.
Многие историки, культурологи и политики современности задаются сейчас вопросом: почему, во многом репрессивная система в СССР, которую чаще всего связывают с именем Сталина, воспринималась в те годы, да и теперь неоднозначно? Были, есть и будут её сторонники, а также непримиримые критики. Даже такие столпы европейского гуманизма и всего человечества, как Барбюс, Бернард Шоу, Герберт Уэллс, Ромен Роллан, не обнаружили (или не захотели видеть) обратной стороны социального прогресса в СССР в 30-е годы ХХ века. Что это было: массовая слепота европейских интеллектуалов, заблуждение наивных людей, их ангажированность Кремлём или умелая пропаганда, инспирированная самим Сталиным? Литературный критик Паола Волкова в одной из телевизионных передач, посвящённой теме контактов известных зарубежных писателей со Сталиным, наверное, правильно заметила: «А могли ли они в этом разобраться?» Ведь, прежде всего, в СССР был всеми отмечен невиданный ранее созидательный подъём и энтузиазм; в развитых капиталистических странах в те годы было далеко не благополучно (эксплуатация рабочего класса, действительно, была на лицо, как и преступность; в западных тюрьмах томились не только преступники, но и инакомыслящие); надвигалась угроза фашизма, которому в Европе противопоставить было нечего, поэтому надежды многих связывались с СССР. Нельзя сбросить со счёта и версию «пятой колонны», то есть явных противников не только советского строя, сталинизма, но и России (данная версия раскрывается, например, в книге Майкла Сейерса и Альберта Канна «Тайная война против Советской России», М.: Иностранная литература, 1947). По-видимому, действительно существовал замысел западных держав осуществить интервенцию против России ещё в 1930 году, но этому помещал экономический кризис в капиталистических странах Европы и в США. Отсрочка нападения на СССР была вызвана также растущей мощью нашей державы.
Может ли существовать единственная, самая точная оценка происходившего в СССР, окончательная истина? Эту оценку не могут представить поборники либерализма и западной демократии, при которых душат, уничтожают слабого и раскручивают идеологию «потребления» и «получения прибыли» любой ценой, создают диктатуру капитала и силы. Хотя, несомненно, и в СССР было, что скрывать от общественного мнения, что трудно было понять и принять. Кстати, Сталин был далеко не прост и прекрасно понимал слабости всей системы и несовершенство большинства людей, хотя искренне пытался выковать, сформировать нового человека, способного сознательно противостоять соблазнам западного и потребительского образа жизни. Но возможно ли «массовое производство» подобных людей?
Приведу лишь оценку большевизма, сделанную в одном из своих писем гениальным исследователем психики и, прежде всего, бессознательного, Зигмундом Фрейдом: «Представленный в русском большевизме теоретический марксизм обрёл энергию, самостоятельность и исключительность мировоззрения, но одновременно превратился в зловещее подобие того, против чего он борется. Первоначально…основываясь…на фундаменте науки и техники, он, тем не менее, наложил запрет на мышление. Этот запрет стал столь же жёстким, как некогда был религиозный. Любая критическая оценка марксистской теории запрещена, сомнения в её правильности караются так же, как когда-то католическая церковь карала любую ересь. Учение Маркса заняло место Библии…, хотя оно также несвободно от противоречий, как и древние священные книги».
Повторю, что в то время миром правило дуалистическое мышление, с позиций которого и объяснялось многое, с позиций которого действовали обе стороны: противники и сторонники коммунизма, нагнетая взаимное непонимание и вражду. Мне представляется, что при оценке большинства крупных явлений жизни, как и самого характера мироздания, «чёрно-белая», бинарная логика не срабатывает, так как структура мироздания, его «канва», всегда «спектральная». Решение проблемы, на мой взгляд, лежит в формировании новой модели мира, основанной на спектральной логике, которая предполагает многоукладность общества и осознание невозможности окончательной победы одной идеологии над другой. Но даже это полностью не упразднит соперничество и даже борьбу отдельных укладов, идеологий, формаций между собой, как и проблему поиска оптимального соотношения, баланса отдельных укладов, их взаимного влияния друг на друга.
Мы не будем здесь разбираться в тонкостях идеологической борьбы, во многом определившей карательную систему СССР, обвинять отдельные личности, как и искать им оправдание. Тем более что и сейчас старое мышление мешает разобраться в причинах многочисленных прошлых и настоящих бед, так как решение ищется опять же с позиций обладания абсолютной истиной, окончательного понимания происходящего, самой адекватной «модели реальности», либо с позиций поиска вечных врагов (по классовому, национальному или другому признаку) или путём обвинения других. На эти темы написаны многочисленные тома исследований с разными точками зрения как на исторический процесс в целом, так и на его движущие силы. Наша книга – лишь об индивидуальном опыте выживания людей в условиях изоляции и отторжения от общества, о тех приёмах, методах, интеллектуальных установках, иллюзиях, которые помогали самым разным людям выжить и даже стать сильнее и мудрее. К теме же «моделей реальности», которые и определяют действия конкретного человека, включая политических лидеров, мы вернёмся в разделах 5 и 6 данной книги.
В данном разделе хочу сослаться лишь на воспоминания «Незабываемое» вдовы Н.И. Бухарина, А.М.Лариной, поскольку в её судьбе, как в фокусе, отразились самые прекрасные и, наверное, самые страшные события жизни, которые выпали на долю множества мужчин и женщин эпохи сталинизма.
Анна Михайловна Ларина родилась в 1914 году и была приёмной дочерью Юрия Михайловича Ларина (под этим именем он стал известен после конспиративной переписки из якутской ссылки, а настоящее его имя – Михаил Александрович Лурье; его отец был крупным инженером в области железнодорожного транспорта). Ларин был женат на сестре матери Анны Михайловны; мать Ани скончалась от чахотки, когда ей не было и года; отец покинул семью, когда ребёнку было три месяца. И хотя М.А.Лурье-Ю.М.Ларин с 1900 года ушёл с головой в революционное движение, а в августе 1917 года окончательно примкнул к большевикам, никакие медицинские светила не могли предотвратить начавшуюся в детстве болезнь – прогрессирующую атрофию мышц. Он был не в состоянии самостоятельно надеть пальто, совсем не действовала одна рука, не без труда управлялся он и с мышцами лица. Всё это не помешало ему принять активное участие в Октябрьской революции, стоять у истоков советской экономики. После смерти его похоронили у кремлёвской стены.
И хотя Н.И.Бухарин был намного старше Ани Лариной и дружил с Ю.М.Лариным, отец, по сути, благословил Аню: «Интересней прожить с Н.И. десять лет, чем с другим всю жизнь».
Так называемые «враги народа» - это, были, как правило, наиболее интеллигентные и яркие представители когорты убеждённых революционеров, социалистов и коммунистов, многие из которых являлись сподвижниками Ленина. Кстати, тот же Дзержинский умер 20 июня 1926 года после того, как на пленуме ЦК ВКП (б) лишь повторил ранее им озвученную критику бюрократизма, непрофессионализма аппарата управления и защитил деревенского жителя, «мужика» от управленческих решений, которые не учитывали разницу оптовых цен по сдаче зерна и розничных цен на промтовары. Дзержинский, опытнейший управленец, Председатель Всесоюзного Совнархоза, а не только чекист, поборовший детскую преступность и беспризорность, в тот день схлестнулся с наркомами, которых вполне устраивала сложившаяся управленческая система. (В. Сидорин «Последний бой Феликса Дзержинского», газета «Аргументы недели», 25 июля 2013).
Но вернёмся к судьбе жены Бухарина и ей подобных женщин. Жёны «врагов народа» именовались ЧСИРами («членами семьи изменников Родины»). Ларина так вспоминает своё пребывание в лагере для врагов народа в городе Томске: «На всю жизнь врезался в память эпизод, когда на второй день после моего прибытия в лагерь собрали «обыкновенных» ЧСИРов в круг перед бараками, поставили меня и жену Якира в центр круга и начальник, приехавший из ГУЛАГа (Главное Управление лагерей) крикнул во весь голос: «Видите этих женщин, это жёны злейших врагов народа; они помогали врагам народа в их предательской деятельности, а здесь, видите ли, они ещё фыркают, всё им не так». Да мы и фыркнуть не успели, хотя нравиться там никому не могло. Мы были даже относительно довольны, что после долгого мучительного этапа и пересыльных тюрем наконец (как мы думали) добрались до места назначения». После подобной «презентации» многие заключённые сторонились ЧСИРов, пока «кто-то не отвёл нас в барак, в наш холодный угол у окна, обросшего толстыми махрами снега. Двухэтажные нары были битком набиты женщинами. Ночь - сплошное мучение: мало кому удавалось устроиться свободно, почти все лежали на боку…» «В лагере женщины изнывали и от ужасающих условий, и от безделья. Работы не было. Книг и газет не давали. Позже многим прислали в посылках нитки для вязания и вышивания. Особенно отличались украинки, их рукоделие было достойно художественных выставок».
Ларина невольно сравнивает судьбу всех этих женщин разных национальностей с судьбой жён декабристов: ведь тем было легче! Они же передвигались в теплушках и пешком под охраной овчарок с жалкими пожитками, под окрики: «Шаг в сторону – стреляю без предупреждения!» или «Садись» - хоть в снег, хоть в грязь, всё равно садись! Да и не к мужьям же ехали! Хотя были среди нас такие мечтательницы, которые наивно надеялись, что в том лагерном потустороннем мире их соединят с мужьями – теми, кто имел десять лет без права переписки, а, значит, был расстрелян».
Но даже в этой среде находились люди, для которых столь ужасные условия жизни были освобождением! Ларина вспоминает рабочую кухни Дину: «Так убого было её существование на воле, так полно оно было заботами о детях, о хлебе насущном, так тяжка была для неё работа в порту, так безрадостна вся жизнь, что в лагере Дина почувствовала не неволю, а освобождение от житейских тягот и радость беззаботных дней».
А.М. Ларина в своём «путешествии» по ГУЛАГу называет Саратовский каземат пересыльной тюрьмы адом, который показался ей страшнее Петропавловской крепости, в которой она была когда-то на экскурсии с отцом. «Свердловская же пересылка отличалась от других тем, что заключённые в камерах не помещались ни на нарах, ни под нарами – поэтому нас посадили в коридор». «Свердловская пересылка запомнилась и тем, что баланда там была всегда с тараканами. Уж парочка обязательно попадалась в миске», - вспоминает Анна Михайловна. Побывала она также в Астраханской и Новосибирской тюрьме, в Лефортовской тюрьме в Москве. Приходилось ей ломом выдалбливать нечистоты в холодном туалете. Водили её и на казнь, которую в последний момент отменили. Пыткой явилось публичное чтение газет старостой, в которых освещался мартовский 1938 года процесс над Н.И. Бухариным и другими. Чудовищность обвинений превзошла все ожидания: шпионаж и предательство; расчленение СССР и организация кулацких восстаний; связь с германской и японской разведкой; замысел убить Сталина, убийство Кирова и даже участие в террористическом акте против Ленина, умерщвление многих других…И во всём этом большинство обвиняемых признались! «Нормальный человек не в состоянии всё это воспринять. Очевидно, предварительно надо было произвести невозможную операцию – трансплантацию разума, что успешно достигалось методами «следствия» лишь в стенах НКВД», - отмечает Ларина. Во время чтения отчёта о процессе у А.М. Лариной сильно разболелась голова, из носа пошла кровь. Жена расстрелянного Якира, Сарра Лазаревна, смачивала полотенце холодной водой, прикладывала к носу Ани и тихо говорила: «Отупей, отупей, надо стараться ничего не воспринимать, бери с меня пример, я уже отупела!» В это время староста направила Бухарину мыть коридор, чтобы дополнить её «контрреволюционность» отказом. «Не волнуйтесь, - заявила С.Л. Якир, - я за неё вымою».
Ларина вспоминает: «Всё окружающее померкло, стало для меня огромным бездушным серым пятном. И удивительно было думать, что существуют на земле жизнь, людское счастье и земные радости». Она плохо спала, а по ночам ей мерещился Бухарин, замученный и распятый на кресте. «Чёрный ворон клевал окровавленное, безжизненное тело мученика».
Что помогало выживать в этих условиях Лариной? Не только «отупелость», то есть нечувствительность ко многим явлениям. Конечно, велика была поддержка таких же, как она, ЧСИРов и редкие сочувственные послабления со стороны охраны; даже прирученная крыса скрашивала одиночество – Ларина постоянно делилась с ней хлебом. Удовлетворение доставлял также открытый бунт, защита своего человеческого достоинства. Например, в ответ на возмущение следователя Свирского тем, что она отказывается признавать вину Бухарина, и его возгласы: «Расстрелять! Расстрелять!», Ларина крикнула «с презрением во весь голос: Это вам нет места на советской земле, а не мне! Это вам надо было бы сидеть за решёткой, а не мне! Расстреляйте меня хоть сейчас – я жить не хочу!» Чувство безысходности, вспоминает Ларина, позволяло держаться достойно даже на допросе у Берии. Старалась она передать свои состояния и отдаться воспоминаниям и в стихах. Потребность в воспоминаниях в условиях заточения возрастала чрезмерно. «Чарующие красоты природы» также спасали иногда от отчаяния. Несмотря ни на что заключённые в камере смеялись не так уж редко. «Вероятно, это был смех от полного отчаяния и нервного напряжения». До смеха иногда доводили и несуразные вопросы надзирательниц.
Ларина освоила также тюремное перестукивание, которому обучил её когда-то сам знаменитый Николай Александрович Морозов, бывший узник Шлиссельбургской крепости, которого связывали общие интересы в области истории и астрономии с отцом Лариной. Думали ли они тогда, что тюремная азбука ей пригодится!?
Самое удивительное, что и судьба Бухарина, и его жены, как пишет А.М. Ларина в своих воспоминаниях, была предсказана хиромантами (Бухарину - за границей, Лариной предсказал по руке «страшную судьбу» А.И. Луначарский). Позднее Ларина вышла замуж за Фёдора Дмитриевича Фадеева, познакомившись с ним в лагере. До этого он возглавлял агропроизводственный отдел наркомата совхозов Казахской ССР; она родила от него двоих детей; муж разделил её ссылку, но преждевременно умер в результате перенесённых невзгод. Своего сына от Н.И. Бухарина она увидела лишь через 19 лет, в 1956 году: он приехал в её новую семью в посёлок Тисуль Кемеровской области (последнее место ссылки А.М. Лариной).
Тем не менее, нужно отметить, что и сам Бухарин был последовательным сторонником насильственных методов управления страной по мере продвижения по пути социализма. Г.А. Зюганов в книге «Сталин и современность» пишет о Бухарине: «В своём хорошо известном труде «Экономика переходного периода» он писал, что революционное насилие должно активно помочь формированию нового государства, а «пролетарское принуждение во всех своих формах, начиная от расстрелов и кончая трудовой повинностью…, является методом выработки коммунистического человечества из человеческого материала капиталистической эпохи». Но разве может происходить создание нового качества без разрушения старого? Нужно если не насилие над личностью, то усилие, к которому готов далеко не каждый. Осознать и, тем более, признать неизбежность перемен – не может любой человек. Да и «перемены – переменам – рознь». В работе С.Ю. Рыбаса «Сталин» есть многочисленные подтверждения, что все «пламенные революционеры» были людьми с далеко не одномерным и однозначным представлением о мире. Бухарин, например, «наибольшим образом олицетворял антинациональные идеи раннего большевизма», то есть был интернационалистом, ещё в 20-е годы доказывал, что индустриализация в стране должна осуществляться на рыночной основе. С.Ю. Рыбас отмечает, что путём репрессий «Сталин вёл войну с культурным слоем, создавшим идеологию отрицания ценностей национального государства и опиравшимися на леворадикальное видение мира». Кстати, эти люди, в большинстве уже прошедшие через царские тюрьмы, были во многом непреклонны в своих суждениях и убеждены в своей правоте; их не всегда можно было сломить даже пытками. С.Ю. Рыбас пишет: «До декабря 1934 года ЦК пресекал применение «незаконных методов следствия», но после убийства Кирова и особенно с началом следствия по «заговору военных» Сталин уже по-другому относился к своим врагам». «Физическое воздействие» без стеснений стало применяться с апреля 1937 года с согласия Сталина. «Спустя девять лет /после 1937 года/, - констатирует С.Ю. Рыбас на основании воспоминаний Ю. Жданова, - размышляя в кругу членов Политбюро над итогами закончившейся Великой Отечественной войны, Сталин неожиданно признался: «Война показала, что в стране не было столько внутренних врагов, как нам доказывали и как мы считали. Многие пострадали напрасно. Народ должен был бы нас за это прогнать. Коленом под зад. Надо покаяться».
Парадоксально, но очень многие из репрессированных и погибших во многом были солидарны с жёсткой логикой событий. Бухарин, например, в письме Сталину писал: «Есть какая-то большая и смелая политическая идея генеральной чистки а) в связи с предвоенным временем, б) в связи с переходом к демократии…Моя внутренняя совесть чиста перед тобой теперь, Коба. Прошу у тебя последнего прощения (душевного, а не другого). Мысленно поэтому обнимаю. Прощай навеки и не поминай лихом своего несчастного. Н. Бухарин». Это ли ни признание того факта, что жертва жизнью, смирение с нею – высшая ступень человеческого существования! Слава Богу, не для всех! Живая жизнь – эгоистична, не способна на жертву, но она принимает чужую жертву, иногда даже процветает или паразитирует на ней!
Пётр Кошель в «Истории российского сыска» приводит списки репрессированных и расстрелянных «троцкистов» и других «врагов народа». Многие из них были реабилитированы посмертно. Моральное и физическое воздействие было столь велико, что многие жертвы совершенно искренне оговаривали друг друга. Отмечая, что «физическое моё существование во всяком случае кончается…», в записях, обращённых к Сталину, Зиновьев пишет: «Я дохожу до того, что подолгу пристально гляжу на Вас и других членов Политбюро – на портреты в газетах с мыслью: родные, загляните же в мою душу, неужели же вы не видите, что я не враг ваш больше, что я ваш душой и телом, что я понял всё, что я готов сделать всё, чтобы заслужить прощение, снисхождение». «Ну где взять силы, чтобы не плакать, чтобы не сойти с ума, чтобы продолжать жить…» Но Сталин продолжал искренне верить в террористическую деятельность против руководства партии и был непреклонен в борьбе с врагами.
Г.А. Зюганов в работе «Сталин и современность» пишет: «А отец Дмитрий Дудко, один из известнейших «узников совести» брежневской эпохи, писал в 1995 году: «Сталин был дан нам Богом, он создал такую державу, которую сколько ни разваливают, а не могут до конца развалить…Наши патриархи, особенно Сергий и Алексий, называли его богоданным вождём. К ним присоединялись и другие, такие, как крупный учёный и богослов Архиепископ Лука Войно-Ясеницкий. Кстати, сидевший при Сталине, но это не помешало ему назвать Сталина «богоданным». Сталин с внешней стороны атеист, но на самом деле он верующий человек… Не случайно в Русской Православной Церкви ему пропели, когда он умер, даже вечную память».
Не стану подробно комментировать всем известный труд Александра Исаевича Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ», как и его роман «В круге первом», рассказ «Один день Ивана Денисовича», так как их читал, наверное, каждый. Попытаюсь раскрыть суть лагерного режима на менее известных, но не менее уникальных историях.
Проникновенные, без смакования и злобы, воспоминания о жизни в концлагере на Соловках, опубликованные в Италии (вышли на русском языке в Буэнос-Айросе в 1952 году, переизданы в Москве в 1991 году под названием «Неугасимая лампада»), оставил Борис Николаевич Ширяев, дореволюционный педагог-филолог. В 1918 году он был приговорен к смертной казне за попытку перехода границы. Смертная казнь была заменена десятью годами концлагеря на Соловках.
Как пишет Б.Н.Ширяев, очень важной особенностью Соловецкого бытия явилось причудливое смешение представителей самых разных сословий, профессий и мировоззрений, национальностей и стран, которые заполняли Соловки в те годы: священнослужителей и монахов, аристократов и белогвардейцев, бывших красных командиров и чекистов, деятелей искусства и литераторов, учёных и педагогов, крестьян и рабочих, дипломатов и шпионов, «каэров», т.е. заподозренных в контрреволюции, коммерсантов и уголовников. Каторжное население Соловков в первые годы колебалось от 15 до 25 тысяч. Лагерная власть, «закон соловецкий», несмотря на стремление внедрить в заключённых «сознание полной бесправности, безвыходности, пресечь в корне попытки протеста, сковать волю…», благодаря высокой концентрации не только человеческого порока, но и протеста против него, подлинной духовности, невольно создавала и условия для наиболее интенсивного развития. Ведь выжить в этих условиях могли только те, кто оставался личностью, совмещал в своей жизни духовные и материальные потребности, не замыкался в себе и не предавался целиком отчаянию, скорби, обиде и ненависти.
Соловки были, своего рода микрокосмом, чутко отражавшим и даже концентрирующим основные процессы в обществе в целом.
Б.Н. Ширяев не боится показать проявления крайней противоречивости личности, как самих зэков, так и их тюремщиков, охранников. Так, например, первым начальником СЛОН-ОГПУ (Соловецких лагерей особого назначения) был Ногтев, который, как и командир Соловецкого особого полка (для охраны берегов) Петров и его комиссар Сухов, попал в 1923 году на Соловки не по своей воле – все они были красными партизанами, сильно пившими. Ногтев был прост и малограмотен, большой самодур – то «жаловал», одаривал заключённых без причины, то, будучи во хмелю, стрелял в них без промаха. По ночам он долго не мог заснуть и во сне сильно мучился. Ногтев был расстрелян, и его сменил интеллигентный латыш Эйхманс, которого позднее тоже расстреляли. Польский инженер-металлург (Ширяев называет его условно Отеном) в экстазе впитывает заупокойную литургию Иоанна Дамаскина до и после собственного хладнокровного участия в расстреле человека, у которого он тут же вынул из зубов золотые коронки. А ведь этот Отен действительно фанатично верит в Бога и возносится духом к нему! «С зубами-то в кармане!...», - восклицает Ширяев, добавляя: «Ненависть и любовь – две стороны одной и той же медали. Они неразрывны. Между ними нет границы…Сквозь тьму – к свету. Через смерть – к жизни…за колючей проволокой, в разросшихся вглубь и вширь Соловках – страдание, кровь, смерть. Муки тела и томление духа. В этой муке и в этом томлении – пламя лампады последнего схимника. Свет во тьме…Преображение требует искупления. Искупление – жертвы. Соловки и все рождённые ими, покрывшие Русь голгофы были жертвенниками искупления…».
«Непосильный для большинства двенадцатичасовой тяжёлый труд был лишь методом массового убийства, но не служил ещё целям эксплуатации и коммерческой выгоды», - отмечает Ширяев.
Серия рассказов Ширяева о судьбах столь разных людей пронизана пониманием, что и на каторге у людей сохраняется неистребимое стремление к красоте, добру, творчеству, самовыражению. Все эти мотивации создали своеобразную культурную среду Соловков, представленную «Соловецким театром драмы и комедии» («Театр на каторге – экзамен на право считать себя человеком»), библиотекой (в 1927 году её фонд превышал 30 000 томов, большая часть которых была в открытом доступе, несмотря на её, достаточно вольный по тем временам, состав), диспутами на разные темы, издаваемой тиражом 1000 экземпляров газетой «Новые Соловки» и ежемесячным журналом «Соловецкие острова» тиражом 500 экземпляров (в нём печатались краеведческие материалы, статьи по биологии, океанографии, климатологии и др.), «антирелигиозным» музеем соловецких древностей.
Несмотря на то, что «у выброшенных на эту всероссийскую свалку не было ни будущего, ни настоящего, было только прошлое. И это безмерно мощное прошлое ещё сотрясало уже обескровленные сердца… Духовенство высоко держало крест, офицерство хранило устои долга и чести, юристы… - стройное представление о праве и законности, артисты и художники – стремление к свободе творчества и бескорыстному служению искусству».
Искусство и религия поддерживали в заключённых иллюзию, мечту о «невозможном, недостижимом, отнятом…» Некоторые в этих условиях не столько сами приходили к подлинной вере в Христа, сколько, по словам, одного героя воспоминаний Ширяева, «мы не пришли, а нас пригнали. Против нашей воли метелью сюда занесло, и в этом непознанное нами Откровение».
Несколько в ином ракурсе представляет нам смысл человеческих судеб, прошедших через ГУЛАГ, учёный-математик и философ Василий Васильевич Налимов, который в 26 лет был осуждён в 1937 году за «контрреволюционную деятельность» и 5 лет провел в исправительно-трудовых лагерях, хотя в той или иной форме репрессии растянулись на 18 лет. В своей автобиографической книге «Канатоходец» он видит причину многих бед человечества в смене и борьбе смыслов. «Смыслы, стараясь устоять, костенеют в своей закрытости. Становятся идеологией. Обращаясь к силе, они стали создавать удручающую, ещё никогда не виданную власть, обернувшуюся неизгладимой национальной трагедией». Он констатирует: «А смыслы – суровые смыслы насильственного преображения человечества, притаившись, всё ещё жаждут крови. Сейчас многие думающие ищут виновных, подлежащих наказанию. А их нет. Не было зловредного заговора…., а была устремлённость в новое, неизвестное. Всё было, как было, и было так, как было подготовлено всей историей страны. Ныне, не забыв ещё старых распрей, мы быстро приближаемся к новой – теперь уже не национальной, а планетарной катастрофе. Кто её готовит? Наверное, все те, кто, будучи погружённым в повседневность своих забот, не ощущает ответственности за происходящее, не проявляет Заботы». Зададимся вопросом – «Может ли быть иначе?»
Но нас сейчас интересуют не столько причины, по которым одни люди обвиняют других в неадекватности, изолируют от общества и запирают в тесных казематах, хотя в тюрьме, как отмечает В.В. Налимов, «безумными были не только её обитатели, но и её властители». Нас интересуют любые приёмы и методы выживания людей в этих условиях. Налимов отмечает первое впечатление от следственной тюрьмы – «напряжённое, сверхнапряжённое ожидание и полное безделье сотни мужиков». Но при этом: «жизнь всегда самоорганизуется в соответствии с новыми условиями существования. И здесь я вдруг нашёл интересное – нескончаемые беседы с людьми разных судеб и разных слоёв общества». Он отмечает культурную среду тюрьмы: диспуты, библиотека… Много часов проводил он в беседах с представителями воровского мира, в которых он увидел людей по-своему даже честных, умеющих держать своё слово. «Они были своеобразными диссидентами, не принимающими то, что происходило. Борьба была объявлена не государству, не правящей партии, а всему обществу». При этом любой труд рассматривался как рабский, то есть среди зэков наблюдалось презрение к труду. Была обострена и проблема секса. В условиях тоталитарной административно-командной системы «идиотизм носил характер ментальной эпидемии». Налимов отмечает, что выживанию в любых нечеловеческих условиях способствовала способность спать в любых условиях и в любой позе. Вообще сон, а также медитация, - проверенный способ не только ухода от страданий, но и их активной переработки, трансформации на бессознательном уровне.
Наверное, самому В.В.Налимову помогало выживать не только общение с разными людьми, доброжелательность и интерес к людям, но и творческий, вероятностный подход к жизни, спонтанность сознания, взаимодействие с различными смыслами (их носителями были, прежде всего, разные люди) в условиях жёсткой детерминированности среды обитания. Позднее он обратился к исследованию изменённых состояний сознания, трансперсональной психологии и вероятностного характера языка. Постепенно в его голове зародилась идея необходимости иной культуры, основанной на изменении ценностных ориентаций, смыслов и представлений человечества. Тем не менее, мечтая о ненасилии в самом широком смысле слова, Налимов как бы не замечал, что иное, как и неизвестное, разрушая сложившуюся систему смыслов, осуществляется, как правило, не добровольно, а принудительно.
Приведу цитату из книги «Каббалистическая астрология» А. Подводного о природе взаимного непонимания и не различении смыслов. «Нежелание одного человека понимать другого часто имеет не наивно-эгоистические (если адекватно воспринимать слова жены, придётся срочно идти в булочную), а существенно более глубокие структурно-семантические корни: если позволить чужим знакам и значениям войти в мою символическую систему, она может треснуть, оказавшись несостоятельной, и тогда её придётся переделывать заново, а это трудно и может привести к непредсказуемым последствиям». То есть работа по совершенствованию смыслов далеко не безобидна!
В этом, наверное, заключается также польза и одновременный вред любого новаторства: искать и находить новые смыслы даже традиционным, избитым истинам. Налимов в изоляции находит смысл не только в изучении традиционного православия, но и в гностицизме, который не ограничивается молитвой, а предлагает «принцип делания как стремление к справедливости…». Налимов советует не ограничиваться Ветхозаветной, архаичной трактовкой христианского учения, а способствовать усилению роли знания, как «пути духовного подъёма». Он убеждён, что в новом мироустройстве человек должен будет восстановить связь с глубинными и внелогическими уровнями сознания, «порождающими смысл жизни и их связи с природой, а через неё и с вселенским началом жизни. Утрата смыслов породила отчуждённость человека от нового образа жизни…» и интерес ко многим, в том числе, дохристианским учениям.
Откровения о будущей теории этногенеза с позиций биосферы и её энергии приходили в заключении сыну Анны Ахматовой и поэта Николая Гумилёва, Льву Николаевичу Гумилёву: «В ленинградской тюрьме «Кресты» я – узник, без сил и без движения после допроса. Постепенно ко мне возвращается сила жизни, и я вижу через небольшое отверстие под потолком на каменном полу отражённый свет, идущий из Вселенной. Во мне начинает просыпаться жизнь. Вот она, энергия биосферы! Солнечный свет. Люди - живые существа, они, подобно всему сущему, имеют свой запас энергии, и если растения живут благодаря фотосинтезу - энергии солнечного света, несущегося с бешеной скоростью к нам, так и этносы должны в своей исторической жизни обладать запасом энергии и расходовать её».
Крайней, предельной степенью выраженности страданий в условиях 17-летнего лагеря на Колыме, куда он попал по причине не угодности существующему политическому режиму, является пример Варлама Шаламова, которому 18 июня 2012 года исполнилось бы 105 лет.
Сын поэта, который тоже в полной мере подвергся отторжению официального социума, советских властей, Бориса Пастернака, Евгений Пастернак, в своём материале «Новой газете» от 26 июня 2012 г. (размещён в Интернете) «Опыт Шаламова – последний круг ада» даёт такой портрет Варлама Шаламова: «Внешне он выглядел так, как может выглядеть очень сильный человек, раздавленный танком или чем-то вроде того, чему сопротивляться нельзя и что уродует человека полностью».
По мнению Е. Пастернака, В. Шаламов, в отличие от А.И. Солженицына, оказался не в первом, а в последнем круге ада, а в своих «Колымских рассказах» он показал пережитое им «глазами насмерть задавленного и перепуганного человека». При этом его судьба была ужасной до конца, даже после его освобождения. Тем более что ему очень была важна его художественная судьба, признание других писателей (не только Бориса Пастернака), хотя по проникновенному замечанию Евгения Пастернака «эта художественная судьба, литературный мир по сравнению с реальной судьбой – это было ничто». Сопоставляя масштаб духовной трагедии Шаламова и Солженицына на примере их взаимоотношений (Солженицын пытался привлечь Шаламова к работе над «Архипелагом Гулагом» и даже читал ему свои стихи), Е. Пастернак пишет: «Это было чудовищно, ведь весь его опыт «в круге первом», а у Шаламова был последний круг ада. И стихи Александра Исаевича – это не стихи». По некоторым воспоминаниям Шаламов был белым от злости, когда приехал от Солженицына (он вообще был очень эмоциональным человеком).
Несколько иное мнение о соотношении разных судеб этих двух писателей, как и их творчества, мы находим у Владимира Буковского, автора «И возвращается ветер..», написавшего вместе с киевлянином Семёном Глузманом также «Пособие по психиатрии для инакомыслящих». В своём интервью газете «Бульвар Гордона» (август 2012, № 32) он говорит о Шаламове: «Колымские рассказы» - одна из немногих книг, мною прочитанных, где безнадёга полная. Он глубочайший пессимист и настолько трагический человек…Кстати, так от пережитого и не оправился – умер нищий, слепой, в каком-то приюте. Не мог жить…» В отличие от «Колымских рассказов» Шаламова, «Архипелаг ГУЛАГ - более оптимистическая книга: после её прочтения депрессии у вас нет, наоборот – прилив оптимизма: противостоять системе возможно! – а у Шаламова человека нет, он в животное превращается. Помню, я встретил в его рассказе такую фразу, что в лагере друзей не приобретёшь, но это противоречит моему опыту. У меня самые лучшие друзья были в тюрьме, в лагере…» Заметки Буковского подтверждают, что Солженицына во многом спасала вера. И не только в Бога, но и в свою особую миссию, так как он перенёс три самые страшные «вещи ХХ века: войну, ГУЛАГ, рак – и выжил», поэтому считал, что должен сделать что-то грандиозное. И мы знаем, что Солженицын сделал многое для изменения общественного сознания, особенно на Западе, не верившего, что в СССР был ГУЛАГ.
На мой взгляд, различие судеб этих двух, несомненно, выдающихся людей и писателей, показывает связь базовой «модели мира» с судьбой человека. Модель мира Солженицына, как мне кажется, во многом построена на православии, она религиозна, поэтому во многом оптимистична и нацелена на жизнь. И хотя она основана на дуалистическом мышлении, то есть ориентирована на окончательную победу добра над злом, которое во многом отождествляется с существующим строем, она, по сути, «спектрально-целостная», многомерная. Модель мира Шаламова более «тоталитарна», поэтому беспросветна, замкнута и трагична; хотя по глубине осознания отрицательной стороны бытия человека она превосходит упрощённый религиозный оптимизм Солженицына. Но это модель мира человека, находящегося в глубоком духовном кризисе, из которого он так и не вышел. Солженицын разрешил свой духовный кризис во многом за счёт социального окружения: умной, понимающей жены Натальи, именитых друзей (М. Ростроповича и Г. Вишневской), эмиграции, где он, в общем-то, жил полноценной творческой жизнью. Наверное, он выбрал оптимальный, наиболее гармоничный и активный путь в жизни, который был ему по плечу. Шаламов же шёл своим, более дисгармоничным, трагическим, страдающим, более пассивным путём. А самое главное, он не верил в очищающую душу сторону лагерной жизни, относился к ней «как к чему-то абсолютно уродующему человека, совсем не признавал возможности появления там каких-то благородных судеб вроде Ивана Денисовича», - констатирует Е. Пастернак.
Комментируя путь Шаламова на сайте Shalamov.ru, Виктор Киселёв признаётся: «Шаламова трудно читать. Он вызывает оторопь, боль, ужас перед падением человека, уничтожением человеческого в человеке. Для чтения его рассказов нужна сопротивляемость души», поэтому он остаётся одиноким в мировой литературе. В. Киселёв сравнивает Шаламова с французским писателем Жаном Жене, который также был отверженным, но избежал казни и стал знаменитым, опубликовав роман. Шаламов отверженным так и остался, так как само общество не изменилось, не приняло его.
Соглашусь с В. Киселёвым лишь отчасти. Общество, наверное, вообще меняется очень мало, но оно всегда неоднородно. И люди с обнажённым, предельным восприятием сознания в нём всегда в меньшинстве. Большинство людей хотят благополучия и не желают думать на трудные темы. Они избегают как экстремальных, стрессовых ситуаций, так и людей, исповедующих «экстрим» в тех или иных формах. И в этом есть глубочайшая жизненная целесообразность! Подобно тому, как ребёнок в чреве матери должен быть сокрыт и защищён от мира до срока, так и большинство людей должны жить простой, стабильной жизнью обывателей. Поэтому в кризисные ситуации всегда попадает «избранное» меньшинство! А уж добровольно на распятие себя обрекают единицы, как и «воскресают» после него!
При этом, как мне кажется, для подлинного преодоления любого духовного кризиса нужна не только честность, мера которой у каждого своя. Ведь изощрённая ложь может корениться в самих методах преодоления кризисов. Поэтому молящемуся в страдании человеку атеист скажет, что обращение к Божьей помощи – лицемерие, но при этом спрячет голову в научный фолиант, либо прибегнет к помощи врачей, социума или водки, согласившись с терапевтическим и психологическим воздействием религии, церковной общины, как и других «иллюзий», «опиума для народа» на людей слабых и страдающих.
Но разве не упрямством, гордыней и даже глупостью надо считать отказ во всех экстремальных ситуациях от дополнительных ресурсов и возможностей, которые предоставляют нам традиционные представления о мире, включая и религию (например, использование молитвы, покаяния)? Тем более что никакая (научная, религиозная и т.п.) модель мира не может считаться истиной в последней инстанции.
Говоря о том, что лагерь уродует человека, Шаламов был лишь отчасти прав. Да, он уродует, хотя разных людей уродует по-разному (у нас есть многочисленные тому свидетельства и исследования психиатром А. Кемпинским людей, прошедших через концентрационные лагеря). Людей уродует и повседневная жизнь, наша жизнь в обществе и даже иногда в семье (об этом писал в своём тюремном дневнике Ф. Дзержинский). Из битвы за жизнь, поэтому, никто не выходит победителем, хотя не только живут, но и умирают отдельные люди с различной степенью комфортности и благополучия. Буковский в своём интервью газете «Бульвар Гордона» отмечает, что «слабаки в основном духом сильны, а мускулистые эти ребята – Гераклы, да? – отсутствия пищи не переносили совершенно…Могли отнять у соседа еду…» На мой взгляд, эти слова ещё раз подтверждают, что люди существенно отличаются друг от друга структурой личности, которая при своей комплексности («спектральности») отличается конкретным соотношением духовных и материальных потребностей, а также – способом, моделью их взаимодействия между собой. Поэтому в любом обществе есть люди, духовная природа которых развита сильнее, чем у остальных, и она во многом доминирует над другими составляющими личности, материальными потребностями.
Я далека от идеи отождествлять благополучие, гармонию с правдой и истиной, как и от попыток давать абсолютные рецепты преодоления духовных кризисов. Всегда, делая выбор в ту или иную сторону, того или иного метода восстановления равновесия, мы в чём-то идём на риск, так как, обретая вновь гармонию и силу жизни, утрачиваем частицу нашей свободы и бесконечности. Но мы – всего лишь люди! И если мы хотим жить, то должны ограничивать свою открытость по отношению к разрушающим, дестабилизирующим факторам жизни. Ведь в открытый космос никто не выходит без скафандра, а «безмерные» люди в обществе «меры» уживаются с трудом (вспомните пример Марины Цветаевой).
Владимир Муравьёв, составитель сборника стихов, написанных в ГУЛАГе «Средь других имён», констатирует: «Лагерная поэзия – это победа духа над бездуховностью, человеческого над бесчеловечным, вечной правды над временными обманами».
Журналист, поэт и писатель Платон Набоков (родственник известного писателя Владимира Набокова) в 1988 году, размышляя о пережитом в лагерях 40 лет назад, писал: «Но каким образом в тюремных и лагерных условиях можно было противостоять насилию? Единственным. Оставаться человеком. А это значило: не только делиться пайкой и махоркой и противостоять лозунгу «Ты умри сегодня, а я завтра», но и на всех зигзагах и поворотах нашей «академии» воспитывать самого себя, восстановить в памяти всё, что пережил, видел, слышал, написал, зарифмовал, затвердить это намертво и…продолжить. Противостоять».
Составитель вышеназванного сборника В. Муравьёв приводит стихотворное свидетельство арестованного в 1949 году Анатолия Жигулина:
«Когда мне было
Очень-очень трудно,
Стихи читал я
В карцере холодном».
(Невольно напрашивается аналогия с «Моабитскими тетрадями» Мусы Джалиля, то есть с лагерной поэзией в условиях фашистского концлагеря). В. Муравьёв отмечает: «Как известно, в экстремальных ситуациях организм включает самые сильнодействующие свои скрытые резервы. Таким резервом является, по-видимому, поэтическое творчество, этому есть множество примеров».
В «Архипелаг ГУЛАГ» А.И. Солженицын пытается перечислить и пересчитать поэтов-лагерников. По данным Комиссии по литературному наследию, репрессированных писателей было около двух тысяч человек. Среди них известные поэты: С. Клычков, Н. Клюев, Я. Смеляков, Л. Мартынов, П. Васильев, Б. Корнилов, Н. Заболоцкий, О. Мандельштам, В. Нарбут, И. Приблудный, А. Шевцов, П. Орешин, М. Герасимов, Д.Хармс и другие.
При этом из-за запретов на стихи и записи и отсутствие условий «в лагерях литература как бы вернулась к своему великому источнику – устному народному творчеству…», - отмечает В. Муравьёв в предисловии к своему сборнику. Писал стихи в лагере, например, и известный историк, специалист по религиозным движениям средневековой Италии, профессор Лев Платонович Карсавин (умер в лагерной больнице 20 июля 1952 года). Даниил Андреев, отбывая во Владимирской тюрьме двадцатипятилетний срок, не только написал там уникальный труд по метаистории России «Роза мира», но и сочинял стихи, в которых выражал свои оптимистические исторические прозрения о судьбе страны и человечества.
Поскольку человек не может не думать о жизни и собственной судьбе, а «человеческий разум не может примириться с бессмысленностью, потому, что бессмысленность – это конец, гибель, и он ищет смысла порой даже не из желания познать истину, а по сильнейшему инстинктивному чувству самосохранения личности», - пишет В. Муравьёв, все сидевшие в лагере по 58-й статье так или иначе пытались найти логику, смысл собственного заключения. Члены партии и преданные идее коммунизма старались поверить, что осуждение «врагов народа» необходимо для защиты революции, партии и страны от врагов. Но при этом они считали себя самих издержкой этой борьбы, жертвами роковых ошибок. Такая позиция помогала им сохранять разум и выжить. Было распространено также мнение, что в карательные органы (и даже в правительство) пробрались шпионы и фашисты. Некоторые искали высший и положительный смысл своей судьбе, видели в этом Божью волю.
Поскольку идея построения прекрасного будущего владела в то время многими, некоторые признавали неизбежность жертвы ради него. «А.А. Тришатов вспоминает древний языческий обычай закладывать в фундамент строящегося здания живую жертву и сравнивает с современностью:
Сейчас создаётся эпоха
И в низ её – в щебень и в бут,
Чтоб здание вышло неплохо,
Живых миллионы кладут».
Помимо темы платы за прогресс, было также распространено среди невинно осуждённых поверье, что нынешнее жестокое наказание является расплатой за прежнюю, греховную, грешную или слишком счастливую, беззаботную или бездумную жизнь. Тема «жестокой школы» или «академии» также оправдывала тяжесть заключения.
Приведу одно свидетельство о способах выживания в лагерных условиях, которое было приведено в телевизионной передаче о заключённых в лагерях, которые обменивались кулинарными рецептами. Там не задавался вопрос «Почему?». Был хаос, поэтому всё, что могло упорядочить (например, мечты о пище, рецепты кулинарии), структурировать хаос, позволяло выжить.
Рахиль Мессерер, известная актриса и мать балерины Майи Плисецкой, пройдя через лагеря, выстрадала или отстояла понимание, что «в лагере не может быть всё плохо или всё хорошо». Наверное, подобная оценка характеризует, прежде всего, многогранность человеческого сознания, способного не только по-разному, иногда даже с противоположных позиций, оценивать то или иное жизненное явление, а также – его возможность трансформировать «минус» («плохое») в «плюс» («хорошее») или, наоборот. Только одним эти качества даются от рождения, другие приобретают их в процессе воспитания, образования или сознательной работы над собой, а третьи обретают лишь в процессе страдания. Есть и такие, которые так и не обретают таких способностей даже в благополучных условиях полноты жизни.
Парадоксальность оценок подобных событий иллюстрирует, например, судьба писателя Исаака Бабеля, который несколько лет работал над произведением о чекистах, называл их «просто святые люди» (об этом пишет С.Ю. Рыбас в биографии «Сталин»). В 1930 году он лично принимал участие в коллективизации крестьян в Борисоглебском районе Киевской области, о чём рассказывал своему другу поэту Багрицкому: «Поверите ли, Эдуард Георгиевич, я теперь научился спокойно смотреть на то, как расстреливают людей…» То есть, не только революционный или литературный строй людей, но и любое их собрание – это пёстрая картина, которую нельзя привести к общему знаменателю, как и внутренний мир одного человека.
Автор исследования «Тайные ордена в Советской России. Тамплиеры и розенкрейцеры» А.Л. Никитин отмечает парадокс, что в нечеловеческих условиях лагерей, «где гибли во множестве физически крепкие, но малообразованные люди, выживали физически слабые, однако крепкие духом интеллигенты», так как они рассматривали «факт своего заключения как некое «рыцарское испытание», поскольку всей своей жизнью протестовали против рабства духа и тьмы невежества, покрывавшей своим пологом Россию», как «очередное рыцарское посвящение».
В. Франкл, психиатр, создатель третьей Венской школы психотерапии, в 1942-1945 гг. прошедший через фашистские концентрационные лагеря, приводит потрясающее свидетельство неоднозначности, многомерности человеческой природы: «Зигмунд Фрейд однажды сказал: «Давайте попробуем поставить некоторое количество самых различных людей в одинаковые условия голода. С возрастанием голода все индивидуальные различия сотрутся, и вместо них появится однообразное выражение неукротимого побуждения». В концентрационных лагерях, однако, истинным было противоположное. Люди стали более различными. Маски были сорваны с животных – и со святых. Голод был одним и тем же, но люди были различны. В счёт шли не калории». Потрясающее наблюдение! Ведь утверждение Фрейда по сути – антихристианское и одномерное! Страх смерти, распятия – разве это не менее сильный стимул к обособлению и индивидуализации, чем голод, но мы знаем, что духовные люди, подвижники преодолевали его за счёт стремления к высшему смыслу. Допускаю мысль, что они опирались при этом не только на веру, но и на знание, что природа человека, как и мироздание в целом, вовсе не одномерны. Они, по сути, - спектр Света! А «беспросветность» - это отрицание многообразия жизни и потребностей человека!
Исследуя психологию людей в концентрационном лагере, В. Франкл, отмечает в реакциях заключённых три фазы: 1. Шок поступления. 2. Типичные изменения характера при длительном пребывании в лагере. 3. Освобождение. Он сопоставляет это с расчленением Коэна, пережившего Освенцим и изложившего свои наблюдения в диссертации, который выделял: 1. Фазу первичной реакции. 2. Фазу адаптации 3. Фазу апатии.
В лагере снижается уровень аффективной жизни, всё ограничивается удовлетворением сиюминутных, наиболее насущных потребностей; разговоры на сексуальные темы и непристойные анекдоты, характерные, например, для среды солдат, были редкостью, то есть наблюдалось притупление сексуальности; житейские мелочи преображались в волшебном свете. Невротики в лагерях становились здоровыми (невротический больной обычно стремится выполнять одну какую-либо жизненную задачу в ущерб всем остальным). Момент освобождения осознаётся как прекрасный сон. После освобождения бывший заключённый должен научиться радоваться жизни, а прошлое кажется кошмарным сном.
Смысл жизни, который может спасти человека в лагере, должен быть предельно безусловным. Те, кого нельзя было направить на какую-нибудь цель в будущем, были для жизни потеряны. Франкл отмечает: «Только те могли уйти из царства смерти, кто мог вести духовную жизнь, - пишет Коэн. – Если кто-то переставал ценить духовное, спасения не было, и ему приходил конец. Сильное влечение к жизни при отсутствии духовной жизни приводило лишь к самоубийству».
Прошёл через лагеря и Святой Лука (уникальный хирург), мощи которого хранятся в Симферополе. В Бутырской тюрьме под его воздействием многие преступники обретали веру.
Антон Кемпинский, польский психиатр (1918-1972 гг.), был одним из первых, кого заинтересовали психологические проблемы бывших узников фашистских лагерей смерти. В 1939 году, будучи студентом медицинского факультета Ягеллонского университета в Кракове, он стал солдатом польской армии и принимал участие в сражениях Второй мировой войны. После разгрома Польши оказался во Франции, откуда попал в Испанию, где был интернирован в концентрационный лагерь. В 1943 году он попадает в Англию, где служит пилотом в Королевском воздушном флоте, затем заканчивает медицинский факультет Эдинбургского университета, проходит стажировку в британских психиатрических клиниках. Вернувшись в Польшу, начинает работать в Психиатрической клинике медицинской академии в г. Кракове, руководителем которой являлся с 1969 года до своей смерти в 1972 году.
А. Кемпинский обобщил богатый материал на тему концентрационных лагерей в ряде работ, включая «Экзистенциональная психиатрия». В них он показал, как в концлагере подавляется «рефлекс свободы», и человек превращается в автомат. Он был сторонником системного, холистического подхода к человеку, при котором психика и сома не разделяются жёстко, а рассматривается их взаимное влияние и взаимодействие. А. Кемпинский считал, что в гитлеровской концепции лагеря смерти, помимо непосредственной политико-экономической цели, состоящей в максимально эффективном и дешёвом уничтожении врага, был более глубокий смысл – очищение германской расы от всего того, что не соответствовало идеалу германского сверхчеловека. Поэтому служба немцев в лагере приравнивалась к фронтовой и считалась героической, хотя некоторые не выдерживали мерзости этой службы и предпочитали фронт или даже самоубийство. Но большинство успокаивало себя алкоголем или чувством хорошо выполненного долга и служения великой идеи.
А. Кемпинский объясняет приверженность многих немцев античеловечной, по сути, фашистской идеологии, стремлением за счёт концентрации на внешней идее, достичь нужной цельности, интеграции личности, уйти от личной раздробленности, хаоса и неуверенности. Тем самым, личная ответственность переносится на главных носителей идеологии, а большинство поступков совершались из послушания. Именно поэтому многие, попав затем в руки правосудия, не страдали чувством вины, а испытывали чувство обиды, что понесли кару за исполнение своего долга.
Те, кто были помехой на пути очищения расы, материалом, подлежащим уничтожению, чтобы он не загрязнял новый мир, по-разному принимали свою судьбу. Были те, кто не смог выйти из состояния первоначального лагерного шока. Они, как правило, погибали. Другие шли к смерти с фаталистическим ощущением неотвратимости своей судьбы. Некоторые хотели выжить любой ценой (вплоть до подражания своим палачам). Но были и такие, кто смог как бы отделиться от своего страдания и не думать о том, чтобы добыть что-то съедобное, чтобы не было холодно или жарко, чтобы не болело измученное тело. «Биологический императив необычайно силён, - пишет А. Кемпинский, - и требуется немалое усилие воли, чтобы не думать только о хлебе, когда голоден, о воде, когда хочется пить, либо о болящем месте, когда болит. Усилие это было, однако, необходимо для сохранения внутренней свободы – свободного пространства, в котором можно было бы свободно мыслить, мечтать, планировать, принимать решения, освободиться от кошмара настоящего времени. Если в лагерной жизни, в этом «анус мунди» («anus mundi»), было столько посвящения, отваги, любви к другому, таких проявлений, которые в тех условиях казались совершенно невозможными, то это было благодаря той самой внутренней свободе». Даже в этих условиях был возможен героизм, проявлялось всё величие человека.
Как пишет Кемпинский, жуткость концлагеря особенно остро воспринималась в первом столкновении с ним, так как существует определённая мера, граница толерантности к необычному, за которой наступает паническая реакция страха и беспомощности. Чувство паники окончательно парализует целевую активность, а невозможность действия ещё больше усиливает страх. Психиатр считает, что большую роль играет в этом процессе и выработанная ранее способность адаптации к необычным ситуациям, пластичность нервной системы, которая зависит не только от генетических факторов, тренировки, но и связана с возрастом (в старости дезинтеграционная толерантность понижается).
Пытаясь определить состояние человека в лагере смерти, Кемпинский определяет его одним словом: «кошмар». Основное его определение таково: «подавляющий, поражающий сон; нечто, имеющее настроение такого сна».
На мой взгляд, кошмар - это, прежде всего, ощущение нереальности, абсурдности происходящего. Подобное состояние всегда возникает при стрессе, который сопровождает, в том числе, и резкую смену окружающей привычной обстановки на обстановку жуткую и устрашающую, наполненную тотальной угрозой, от которой нет спасения. При этом, наверное, самым страшным является то, что «человек включён в действие, но не может на него влиять».
«Основные черты кошмара, таким образом, можно выразить в четырёх пунктах: жуткий (зловещий) характер, бессилие, тотальная угроза и автоматизм. Эти четыре черты выступают на первый план также и в лагерных переживаниях».
А.Кемпинский анализирует динамику психических процессов в лагере. В течение первых 3-6 месяцев пребывания в лагере у большинства наступало чувственное притупление, снижение эмоционального реагирования, что было приспособительным феноменом. Затем необходимо было найти и сформировать элементы иной жизни, имеющей отношение к прежней и нормальной жизни. Это было первым шагом на пути завоевания внутренней свободы. То есть надо было притупить чувствительность к гнетущим факторам и повысить чувствительность к тому, что возвращало к нормальной жизни и создавало шансы на выживание. При этом возможность выбора и принятия решений повышалась в группе, так как «мы можем» опережало «я могу». Свободное пространство в начале было коллективным, и лишь потом становилось индивидуальным. «Возвращение к здоровью часто зависело от возвращения к человечности».
Особое заострение в лагере претерпевает принятие решений. Кемпинский рассматривает три варианта принятия решений: 1) теми, кто решал судьбу других (возможно, они иногда чувствовали себя богами и вершителями Страшного суда, но чаще всего были этим утомлены и пресыщены); 2) теми, кто знал, что их ждёт, и хотел выжить наперекор обстоятельствам (у них решимость преодолевала слабость и истощение); 3) теми, кто не знал, что их ждёт, и принимали нередко решения случайные и бессмысленные. Три фактора влияют на стиль решения: его тематика (запрограммированность), быстрота выбора и изменчивость.
На начальном этапе пребывания в лагере узник утрачивал способность выбора и делал то, что делали другие, и шёл, куда его толкали. Выход из этого состояния автоматизма могли дать: доброе слово товарища, его помощь. Постепенно возвращалась способность выбора. При этом информационный метаболизм, определённый физиологом Павловым как рефлекторная деятельность, становится ведущим в плане ориентации в окружающем мире. Миллиарды корковых клеток обеспечивают невероятное богатство способов обмена информацией с окружением. Контакт с окружением утрачивает остроту проблемы: «победить или стать побеждённым» (то есть остроту выбора между смертью окружения и собственной).
Заключённый в лагере становился номером, для него разрушалось привычное «социальное зеркало». У него было «три возможности для выбора: 1 – видеть себя глазами чуждого окружения, т.е. быть только лагерным номером; 2 – сохранять прежний образ себя, что было нереально…; 3 – идентифицироваться с группой властителей, из номера превратиться в вождя, по крайней мере, в глазах узников».
К парадоксам лагерной жизни можно отнести то, что «там исчезают неврозы и психосоматические болезни». То есть фактор биологической угрозы действует мобилизующее, «уничтожая невротическую стагнацию и дезадаптацию».
«Возможность выжить в лагерных условиях определялась желанием жить, верой, что лагерь не будет длиться вечно, возможностью опоры на товарищей и друзей. Человек, который ломался, обычно погибал», - пишет Антон Кемпинский в работе «Экзистенциальная психиатрия». Он подчёркивает, что, несмотря на острое проявление первого биологического закона (борьба за сохранение жизни), необходимо было вырваться из-под его власти, так как те, которые подчинялись этому закону полностью, не только теряли человечность, но и быстрее погибали. Необходимо было внутренне противопоставить себя внешнему миру путём создания внутреннего мира, «будь то в мечтах о будущем, будь то в воспоминаниях о прошлом, или также – более реально – благодаря дружбе, помощи товарищей, попыткам организовать жизнь иную, нежели лагерная и т.п.» Кстати, установка, подобная установке расы господ: «победить, либо быть побеждённым», не была столь же эффективной, как стремление вернуться хоть к некоторым элементам «прежней структуры жизни». Человек должен был найти в себе определённые ценности, которые отрывали бы его от ужаса лагерной жизни. Кстати, идея полезности, так тесно связанная с нашей технической цивилизацией, по мнению Кемпинского, связана с отношением к смерти. «Умерший человек уже совершенно бесполезен. Он только вызывает хлопоты». Но для человека смерть не является концом всего. «Поэтому для нормального развития человека необходимы традиция (прошлое) и его трансцендентное стремление к будущему. Человек должен быть способен сказать себе: «Знаю, откуда пришёл, и куда иду». Более того, он отмечает: «Оценивание человека по его полезности - одна из отрицательных черт технической цивилизации». Современным врачом и психологом Л.А. Китаевым-Смыком в монографии о стрессе был рассмотрен синдром «свободы» и «несвободы» на примере участников войн. Рядовые их участники довольно часто начинают ощущать себя заложниками высших интересов. «Синдром заложника» лежит в основе и некоторых других психологических феноменов. Став заложником, то есть, потеряв свободу и оказавшись в экстремальных условиях, человек меняется, считает этот исследователь. Сначала человек испытывает шок и у него возникает расщепление представления о случившемся. Затем возникает протест против насилия (это опасно для жизни заложника). Неверный шаг – это «иллюзия помилования», так как террориста может остановить лишь насилие. В арсенал психических средств защиты входят: мысль о самоубийстве, притупление ощущений и переживаний, примитивизация поведения. Противостоять можно только через помощь другим, «уход» от эмоций страха и отчаяния. В этих условиях необходимо избегать проявлений своего садизма. Л.А. Китаев-Смык отмечает следующие основные модели поведения заложников: 1. Нетерпеливо отчаянные (составляют порядка 0, 5 % от всех заложников). 2. Истероиды. 3. Стойкие (5-12 %). 4. Мятущиеся (30-50%). 5. Расчётливо-разумные. 6. Расчётливо-злобные. 7. Родственно близкие террористам. (Категории 5, 6 и 7 – сближаются с террористами, то есть служат власти, осуществляющей насилие). При «синдроме заложника» страх может перевёртываться даже в болезненную любовь и привязанность к террористам.
Л.А. Китаев-Смык исследовал также «Концлагерный синдром» и выделил три фазы пребывания: личностные изменения; адаптация; дезадаптация и гибель. Шок при поступлении проходил фазы: самоотстранённость, ощущение нереальности происходящего, «иллюзия помилования», ужас, «затмение разума». Наблюдались психические проявления: апатия, вспышки злобы, мечты и воспоминания, сексуальные фантазии, временная асексуальность, чувство социальной неполноценности, искажение представлений о времени, апатичная терпимость, «пособничество» (не только с целью выжить, но и в форме преданности). Выжить помогало чувство духовной опоры, стойкость духа, нацеленность в будущее, гуманизм и помощь другим.
Л.А. Китаев-Смык считает, что человек, систематически лишённый переживаний успешности своих действий, накапливает информацию о собственной не успешности и способен на устранения самого себя как носителя не успешности. Например, рассматривая явления «предсмертного транса» чеченских смертниц-террористок («шахидок») Л.А. Китаев-Смык связывает его, в частности, с гендерным кризисом на Северном Кавказе в связи с многочисленными войнами. «Предсмертный транс» - это состояние «шахидок», террористок-смертниц, который характеризуется чувством экстаза, необычайной радости жизни; всё вокруг становится ярким; он сопровождается упоением властью и местью, а также - верой в блаженство вечной жизни и даже сексуальными переживаниями, а также - приступами злобы. Но «шахидизм» женщин, считает он, традиционно чужд чеченскому этносу, так как чеченская террористка - это, во многом, несчастная жертва обстоятельств, навсегда потерявшая чёткие (скорее, позитивные, как мне кажется) жизненные ориентиры, перспективы, родственников и мирное небо родины. (Кстати, в Чечне самоубийство традиционно считалось и считается большим грехом). Но чеченец всегда и во всём должен быть победителем. Шахидки в России - изобретение современных ваххабитских политтехнологов, так как чеченские войны конца ХХ – начала ХХ1 века способствовали возникновению неблагоприятных изменений психического состояния чеченского этноса. Основные предпосылки этому: беспомощность перед несчастьями; «зачистки» с преследованиями, которые нарушили патриархально-матриархальные взаимодействия и создали гендерный кризис; тысячи людей стали изгоями, испытали позор и насилие; разрушилась система среднего и высшего образования. Поэтому чеченские психологи и психиатры свидетельствовали, что около 90% чеченцев находились после второй чеченской войны в особом психическом состоянии. Л.А. Китаев-Смык предложил называть его «чеченским стрессом», «чеченской депрессией». Это состояние складывалось из: отчаяния от многолетней безысходности; чувства горя; тоски как источника даже физической боли.
Все эти наблюдения во многом можно перенести на людей, длительное время находившихся в состоянии социальной изоляции, отторжения от общества, испытавших серьёзные личностные потери и удары судьбы. Более того, сам феномен не успешности, на мой взгляд, можно рассматривать с позиций изоляции от тех или иных общественных благ, как недостаточно полную включённость того или иного индивида, группы людей или даже целого народа в полноту жизни, в Единое Жизненное Пространство (ЕЖП). С позиций вынужденного или сознательного ограничения, усечения, ограничения пространства-времени жизни можно рассматривать также депрессию, жизнь многих инвалидов, вдовство и даже духовный опыт религиозных и научных подвижников.
Если жизнь человека рассматривать с позиций наполнения впечатлениями, событиями, идеями, смыслами, то за всем этим стоит степень доступа к Единому Пространству Жизни (ЕПЖ), то есть к её пространству-времени, что связано, прежде всего, с сознанием человека, его включённостью в мировые и вселенские процессы. Это всегда понимали не только буддисты и представители других философских и религиозных традиций, но и многие учёные и даже революционеры (вспомните высказывания на этот счёт Морозова, Дзержинского, Гумилёва).
Тем не менее, имеет значение не только объём доступного человеческому сознанию пространства-времени, но и его качество, организованность, соответствие этапу развития того или иного индивида или даже народа. Например, депрессия – это состояние, когда пространство-время человека как бы «схлопывается», превращается чуть ли ни в точку. Об этом пишет в книге «Меланхолия» психиатр Антон Кемпинский. Данное ограничение доступа к ЕПЖ происходит как бы само по себе, без видимых, по крайней мере на первый взгляд, причин и внешних воздействий. При тюремном заключении или при инвалидности пространство видимых связей с окружающим миром тоже сужается, но пространство связей воображаемых может остаться тем же или даже расшириться: тому пример феномен Морозова, который сидел 25 лет, по его утверждению, не в крепости, а во Вселенной. Да и многие другие отмечают расширение, углубление сознания или контактов с другими в условиях вынужденного физического ограничения и изоляции (например, у Председателя КГБ Крючкова это выразилось в особой откровенности его писем родным; некоторые испытали подобие Божественных откровений, «космическое сознание» и т.п.).
Перед нами стоит задача понять «механизмы» овладения пространством-временем ЕПЖ, точнее – его связи с индивидуальным сознанием. И этот процесс, возможно, является обоюдным, взаимным, то есть контакт строится вовсе не на механической основе, а на этической, то есть предполагает ответную реакцию Единого Пространства Жизни.
Феномен физической изоляции в тюрьме, лагере и на воле (вследствие болезни, недоброжелательного отношения, непонимания со стороны окружающих) можно рассматривать не только с позиции связи с тем или иным пространством-временем ЕПЖ, но и с позиции отчуждения от других людей. При этом, по мнению психолога В.С. Мухиной, самое страшное преступление (убийство другого человека) совершается «в состоянии выраженного абсолютного отчуждения, когда субъект доходит до готовности лишить жизни другого человека». С другой стороны: «Абсолютное отчуждение общества от преступника состоит в вынесении ему приговора смертной казни либо пожизненного осуждения». В монографии «Отчуждённые: Абсолют отчуждения» В.С. Мухина исследовала это явление (прежде всего, с позиции «механизмов идентификации-обособления») на конкретных примерах более чем сорока осуждённых. В разделе 1.1. я уже писала об исследованиях В.С. Мухиной, но не побоюсь повторить некоторые из её наблюдений и выводов.
В.С. Мухина рассматривает преступление против жизни другого человека, то есть убийство, как крайнюю, абсолютную форму отчуждения. Она рассуждает о сложном, неоднозначном характере самосозидания личности и идентификации на протяжении всей жизни любого человека путём сознательного и бессознательного освоения не только тех или иных навыков, психических свойств, поведенческих реакций, элементов культурного наследия, но и ценностных ориентиров (как моральных, так и аморальных). Она рассматривает как «положительные», так и «отрицательные» идентификации личности в процессе развития, то есть работу «механизма присвоения отдельным индивидом всесторонней человеческой сущности». Разновидностями идентификации являются не только: проекция и сочувствие, но и отчуждение, крайней формой которой может стать уничтожение, убийство другого существа. В.С. Мухина не боится писать о «несветлых» сторонах человеческой сущности.
Мне же процесс идентификации представляется в форме динамической спирали (рисунок 1), при котором происходит непрерывное как отождествление человека с определёнными качествами, свойствами человеческого универсума, так и постоянное их отторжение. И чем сложнее, развитее человек, тем динамичнее и содержательнее этот процесс, то есть непрерывный выбор проявлений. Как бы в подтверждение подобного (динамического) процесса идентификации В.С. Мухина пишет: «Внутренние психические структуры и интегративные связи нервных путей человека в основе своей носят нестабильный характер, они весьма подвижны. Поведенческая стабильность человека часто оказывается некой социальной иллюзией…» Тем не менее, даже при крайне динамичном характере психической жизни людей, те или иные проявления личности можно прогнозировать. Предвидеть можно не только нормативные и благотворные действия, поступки человека, но и его асоциальные проявления (например, агрессию, склонность к нетрудовому обогащению, кражам, убийству).
Поскольку «идентификация в позитивной своей направленности является механизмом присвоения отдельным индивидом всесторонней человеческой сущности», развитие способности к ней предполагает «сопереживание», «активное нравственное отношение к людям, к человечеству, к самому себе и др.» Процесс идентификации осуществляется путём освоения типов поведения и ролей, а также – проекцией, переносом своих чувств и мотивов на другого. Но и через обособление человек также становится сам собой. «Обособляясь от другого и удерживая в себе Я-идентичность, своё соответствие самому себе, мы обеспечиваем своё бытие в мире», - пишет В.С. Мухина. Особой формой обособления, крайней формой его проявления В.С. Мухина считает отчуждение, наиболее негативной формой которого, является убийство другого человека.
Мне бы хотелось дополнить или даже возразить утверждению, что убийство другого человека - крайняя форма отчуждения. Да, по отношению к жертве это, наверное, так. Но, с другой стороны, для совершения преступления человек должен идентифицировать себя, если не с какой-либо асоциальной личностью (например, с разбойником), то с воображаемым, мифическим или оккультным персонажем (например, дьяволом, нечистой силой), как негативной частью своего или коллективного бессознательного, его архетипом. То есть «всесторонняя человеческая сущность» содержит не только «положительные», но и «отрицательные» проявления.
В.С. Мухина рассматривает различные способы повреждения души как предпосылки отчуждения, ухода «в свой аутичный мир синкретичных грёз», агрессии и преступности. «Нил Синайский предупреждал, - пишет В.С. Мухина, - что сребролюбие – корень всех зол». (Мне представляется, что картина намного сложнее! Ведь не только материальные, но и интеллектуальные, духовные потребности могут лежать в основе преступления, как может быть причиной агрессии отсутствие возможности удовлетворить ту или иную потребность).
Поскольку «мир вещей стал средой обитания», В.С. Мухина отмечает их способность манипулировать человеческим сознанием и становиться не только объектами притязаний, но и способом разделения людей. Она отмечает также полярность социальных регуляторов «можно» - «нельзя» (разрешения и запрета), хотя для «определённой категории детей запрет выступает как препятствие, которое они хотят преодолеть». Она выделяет несколько типов мотивов, создающих криминогенную ситуацию: 1) порождённые гипертрофированными потребностями и притязаниями; 2) вызванные нуждой в разрядке, в преодолении отрицательных эмоциональных состояний; 3) порождённые чувством неприязни к конкретным людям или категориям людей; 4) мотивы, «обусловленные потребностями в социально отчуждённом образе жизни»; 5) «мотивы, вызванные юридически неадекватными стереотипами». Реализации этих мотивов часто способствует необузданный гнев и помрачённое, изменённое сознание. Многие преступники - психопатические личности, склонные к приступам ярости, гнева, они исповедуют свободу насилия над другими, вседозволенность (проявление социопатии). «Главный объединяющий признак социопатов – их социальная неприспособленность, зависимая от их склонности к агрессии и болезненным влечениям». Они перекладывают большую часть страданий на других, не извлекают должных уроков из наказаний и переживаний, не признают своей вины. Для них характерны: повышенная тревожность, внушаемость, жестокость, агрессивность, регидность (застревание аффекта), импульсивность, злопамятство, подозрительность, цинизм, авторитарность, нарушение социальной адаптивности, гиперчувствительность к межличностным отношениям. (Кстати, переживание злых чувств и дурных намерений считается для верующих в Бога грехом). Корни преступления таятся в умыслах, которые зачастую приводят к планированию преступления. Причинами формирования патопсихологической личности В.С. Мухина называет генотип и неблагоприятные социальные условия, к числу которых относится психическая депривация, то есть отвержение, которое приводит к страху смерти, преодолеваемого путём агрессивных действий. Но реальное преступное поведение «детерминировано внутренней позицией самого человека». В результате, «личность преступника отличается от личности законопослушного человека прежде всего: общим негативным содержанием ценностно-нормативной сферы; идентификацией с лицами, стоящими в маргинальной социальной позиции и позиции закононепослушания; выраженной позицией отчуждения от законопослушных; отношением к работе и труду, как к обременительной, насильственной необходимости; агрессией на тех, кто указует на закон, на добропорядочность и лояльность как норму поведения».
Особое физическое и психическое состояние осуждённого в заключении создают условия: 1) несвобода и обязательность режима; 2) крайняя бедность предметного мира; 3) сенсорная депривация; 4) скученность на малом пространстве; 5) специфические уставные формы общения между заключёнными и администрацией, охраной. Этот комплекс создаёт эффект застывшего стресса. Даже посещение психолога – сильный стресс. Поэтому «В ситуации наказания изоляцией повреждение души ещё более усугубляется. Осуждённые нередко уплывают в состояние тюремного аутизма, происходит деперсонализация личности», точнее – личность становится иной, ощущение своего «я» очень зыбкое. Осуждённый становится чувствительным, сенситивным к самой малости в проявлениях к себе и бесчувственным ко всему миру. Тем более что лишиться навсегда жизненной перспективы – это экстремальная ситуация, которая всё время тянет вниз. (Для заключённых слово гнать означает «уходить от внешнего мира во внутреннюю жизнь, построенную на картинах застывшего стресса – постоянно возвращающихся аффективных переживаний»). Некоторые в этих условиях разговаривают даже с батареями, слышат голоса, других преследуют образы убитых, иные повреждаются в разуме, называют себя сатаной и т.п. Если в камере есть и другие люди, то возможно совместное пребывание в созданных воображением образах мира, так как мир аутизма связан напрямую с фантастикой.
В.С. Мухина с горечью констатирует: «Многие из общего числа совершивших страшные злодеяния – просто-напросто дефектный человеческий материал. К тому же с годами он необратимо деградирует». В частности, психолог отмечает, что из всех пожизненно заключённых учреждения ЖХ-385/1, а их там около 200 человек, лишь 3-5%, «которые стремятся удержать чувство личности». Способность рассуждать здраво и контролировать себя сохраняют немногие. Отчаяние постоянно овладевает ими. Утрачивая чувство личности, человек тонет, так как «жить на уровне гомеостаза человеку с открытым самосознанием невозможно». Парадоксально, но в условиях изоляции часто не хватает самой энергии к жизни! Лишь единицы способны к покаянию. Вынужденность положения не располагает также и к анализу.
Данный раздел хочу закончить небольшим анализом альтернативы тюремной или лагерной изоляции – эмиграции. Немногие из тех, кто попал по «каток» истории в Гражданскую войну или в период политических репрессий предпочти эмиграцию. Некоторые из них, сохранив жизнь и даже здоровье, стали известными, вплоть до получения Нобелевской премии. Среди них и Солженицын, философы Ильин, Бердяев, многие известные художники и учёные. Конечно, и им было нелегко на чужбине. Хочу отметить только неоднозначность данного выбора пути в жизни, его, своего рода, «рыночный» аспект, который хорошо охарактеризовал И.Р. Шафаревич: «Эмиграция- это торг. Но трудность заключается в том, что товар этот можно создать только здесь. Это может быть всё что угодно. Пять лет лагерей, увольнение с работы или какая-нибудь хлёсткая статья с плевком на Россию, всё что угодно. Но это звучит только, когда оно здесь, там оно уже не воспринимается. Но реализовать его в качестве популярности, денег, места можно там. Вот это такая торговая кампания по созданию этих ценностей здесь, их реализации там….». Несмотря на «спекулятивное» отношение к диссидентству и эмиграции со стороны Запада и СМИ, Шафаревич отмечает: «Было много диссидентов, которые остались неизвестными, остались бедными как церковные мыши и абсолютно ничего не получили, кроме нескольких лет лагерей и испорченной жизни».
1.3. Крест творческого и социального новаторства
(«Тернистый путь людей, идущих впереди»)
«Свою индивидуальность люди оплачивают отказом от нормальности, а случается – и отказом от идеальности. Однако значимость этой индивидуальности, смысл и ценность человеческой личности всегда связаны с сообществом, в котором она существует…, именно направленность к сообществу позволяет смыслу индивидуальности превзойти собственные пределы».
В. Франкл
«Главная цель знаний – сужение пропасти между нашим восприятием и реальностью»
Далай-Лама
«Ведьмы всегда оказываются там, где есть охотники за ними»
В.Г. Ажажа
«Неужели ты не понимаешь, что пушки не могут победить идеи»
Екатерина П
Поиск научных истин, особенно в сфере естественных наук (физики, химии), медицины всегда связан с риском для здоровья и жизни. Сфера психологии, гуманитарных наук, искусства, культуры зачастую таит в себе угрозы для психического здоровья. Но в данном разделе нас интересуют стрессы, переживания людей, связанные с новизной идей, «инаковостью» носителей научных открытий и воззрений людей науки, искусства, религии и любой другой сферы жизни.
Английский философ ХШ века Роджер Бэкон в 1278 году был приговорен к тюремному заключению за «подозрительную новизну» своих учений («Иллюстрированная энциклопедия «Руссика», том «История Средних веков»). Сколько провёл он в тюрьме, неизвестно. Член Ордена францисканцев Роджер Бэкон освоил новую экспериментальную науку за 300 лет до признания его методов исследования учёными эпохи Возрождения. Он был первым европейцем, описавшим изготовление пороха и предсказавшим его военное применение; он описал применение очков, предугадал появление воздушных шаров и летательных аппаратов с машущими крыльями, моторных судов и повозок, разработал проект утопической республики с народным плебисцитом. Врач и учёный Парацельс подвергался многочисленным нападкам и был отравлен соперниками. Список можно продолжить.
Основатель психоанализа и беспристрастный исследователь бессознательного Зигмунд Фрейд, который пережил длительный период непонимания современников и множество (обоснованных и необоснованных) отступничеств и предательств учеников и последователей, дал следующий совет врачу Флиссу (когда тот болезненно переживал реакцию Венского медицинского общества на обнародование его исследований по вопросу «назального применения кокаина»): «Не жертвуй своей репутацией /речь идёт о преждевременной публикации научных достижений/, и тогда ты сможешь позже привлечь внимание читателей к тем большим биологическим проблемам, которые для тебя гораздо важнее. Люди прислушиваются только к авторитетам, а авторитет появляется только в процессе создания того, что ими действительно может быть понято» (М. Шур «Зигмунд Фрейд. Жизнь и смерть»). Позднее в работе «Моисей и монотеизм», анализируя «отсроченный эффект» воздействия монотеистического учения пророка на умы людей он писал: «Вспомним хотя бы путь любой новой научной теории, такой, к примеру, как дарвиновское учение об эволюции. Поначалу она сталкивалась с враждебным отрицанием. Однако уже следующее поколение видит в ней великий шаг к истине. Сам Дарвин удостоился почётного захоронения в Вестминстерском аббатстве… Новая истина порождает эмоциональное сопротивление…, некоторое время продолжается борьба мнений; как обычно, у такого нового взгляда находятся сторонники и противники; со временем число и влияние сторонников неуклонно возрастает, пока они не одерживают верх. Неудивительно, что весь этот процесс занимает весьма длительное время». Ещё раньше в четырнадцатой лекции своего «Введения в психоанализ» Фрейд так выразил отношение людей к новым знаниям: «Как вы знаете, человечество обладает инстинктивной оборонительной реакцией на интеллектуальные новшества. Она выражается в том, что такое новшество сразу же низводится до самой незначительной величины, по возможности сводится к лозунгу».
Методолог, доктор психологических наук Олег Сергеевич Анисимов в работе «Методология и цивилизационное самоопределение в ХХ1 веке», анализируя историю методологии, как проявление мышления, рефлексии, отмечает, что «служители развития» в этом плане во многом шли «через устранение прошлого опыта» (например, тот же марксизм-ленинизм призывал разрушить старый мир до основанья, чтобы построить новый мир). Эта разрушительная (вольная или невольная) особенность «нового мышления» очень редко воспринимается современниками и окружением мыслителя с пониманием. В Греции, например, как отмечает О.С. Анисимов, большинству был не удобен Сократ, назойливость которого привела к гибели. «Христос был неудобен, не нужен, отвлекающим от самовыражения и эгоцентрического отношения к тому, что является «истиной». Анализируя современное право каждого человека на мнение, провозглашённое демократией, Анисимов отмечает: «Право на мнение вытесняло ответственность перед вечным, перед сущностью, перед предназначением, функцией мыслящего, познающего». В результате, например, Гегель, остался по-настоящему непонятым, а учение об обществе осталось эмпирическим или спекулятивно-формальным. Московские методологи под руководством О.С. Анисимова попытались «связать мир мышления с миром деятельности через посредство механизмов рефлексии» и через понимание «форм движения мысли», то есть построить модель рефлексии, восходящую к универсуму (духовному бытию) путём движения методологии от состояния «в себе» к бытию «для-себя», «для иного» и «для-в-себе», «включая собственную проблематизацию и депроблематизацию, прогнозирование и проектирование», то есть путём движения от свободного самовыражения через «присвоение критериев формообразования» с последующей их проверкой и отходом от персонификации содержания для приближения к универсальному. Мне же представляется, что в этом процессе важно не только мышление, совершенствование рефлексии, но и вера в возможность приближения к универсуму путём рефлексии.
В любом случае, судьба новаций тяжела, а их признание чревато профанацией и куцыми трактовками, интерпретациями адептов и последователей! Но и это, наверное, является естественным и «нормальным», так как жизнь и мыслительный процесс каждого человека и, особенно новатора, неповторима.
Анализируя теории, посвящённые природе гениальности, Анна Анастази в фундаментальной работе «Дифференциальная психология. Индивидуальные и групповые различия в поведении» отмечает, что «гениям во все времена приписывали огромный спектр отличительных особенностей: от божественного вдохновения и сверхчеловеческой «искры» до физических дефектов и безумия». Она выделяет четыре основных теории объяснения гениальности: патологические, психоаналитические, качественные и количественные. Отметим только патологическую теорию. В ней гениальность связана с безумием, расовой дискриминацией и даже слабоумием. «Кречмер утверждал, что истинная гениальность требует не только наличия выдающихся способностей. Он пишет, что «если мы из констатации гения исключим психопатологический фактор, неутолимое демоническое возбуждение и психическое напряжение, то у нас на руках останется всего лишь обыкновенный одаренный человек». Исследователь Ландж-Эйхбаум, отмечает Анна Анастази, изучил 800 биографий «непревзойдённых гениев» всех времён и народов и, несмотря на то, что сделал вывод, что «не существует неизбежной или необходимой связи гениальности с безумием», «только незначительное количество гениальных людей не имели психических отклонений». Она ставит такую зависимость под сомнение не только по причине возможной субъективности выборки, но и потому, что «многие гениальные люди оказываются не в состоянии адекватно приспособиться к окружающему их миру, в котором существует нормальный человек со своими нуждами…Кто-то сказал, что чувствительный человек с развитым воображением не сможет относиться к жизни со спокойствием лавочника.
Более того, друзья гениев зачастую называют их сумасшедшими до тех пор, пока не появятся ощутимые практические результаты их деятельности». Я могу объяснить данную проблему фактором неоднородности жизненного пространства, который в индивидуальном плане проявляется как местонахождение предположительно гениального человека «не там и не с теми», а также «не в то время». А человек способен воспринимать информацию лишь из зоны своего ближайшего развития. Что касается отклонений в развитии гениев в тех или иных аспектах от «нормы», то природа предусматривает всевозможные компенсационные средства в случае чрезмерного развития того или иного качества.
Задаваясь необходимостью целостного восприятия развития не только науки, но и человечества в целом, выраженного через понятие «цивилизация», С.И. Сухонос в работе «Эстафета цивилизаций» задаётся идеей «построения во времени некоего общего универсального алгоритма жизни научных цивилизаций». Выстраивая общую логику развития научной цивилизации, С.И. Сухонос выделяет: преддверие; 1 Этап Становления (возраст от 0 до 500 лет); Этап П Обучения (500-1000 лет); Этап Ш Созидания (от 1000 до 1500 лет); Этап 1V (возраст от 1500 до 2000 лет) Подведение итогов. Отмеченная им неотвратимость этапности развития цивилизаций и науки, как и развития любого объекта, создаёт предпосылки борьбы с ересями (необходимости «инквизиции»), как средства сбережения энергии и сил для обеспечения линейности прогресса (я бы сказала: его однозначности, одномерности). С.И. Сухонос убеждён, что «инквизиция – типичное явление второго этапа развития цивилизации», когда происходит всеобщее обучение, при котором уже утвердившийся на первом этапе становления центр власти распространяет свою идеологию на всех представителей данной цивилизации. Так пророк Моисей, спустившись с горы Синай со скрижалями в первый раз, и обнаружив поклонение евреев золотому тельцу, принял решение об искоренении ереси. И это отклонение от верности «истинному Богу» у евреев происходило неоднократно, как и их наказание, что, как отмечает С.И. Сухонос, запечатлела Библия. Нечто подобное происходило в Европейской цивилизации (борьба с ересями стартовала на 184-м году, а в 1215 году инквизиция была оформлена как институт церкви); в Китайской цивилизации была попытка в 213 году «положить конец конфуцианскому учению»); в Российской цивилизации этот процесс соответствовал репрессиям против старообрядчества. При этом за бортом общей линии развития, конечно, остаётся очень много важных и уникальных знаний. Но, несмотря на борьбу с инакомыслием, «изучение научных циклов показало ещё одну общую для всех интригующую черту – появление на определённых этапах научных гипотез и теорий, которые по своему характеру намного опережают общее развитие науки». Как наиболее яркий пример в этом вопросе С.И. Сухонос отмечает открытие гелиоцентрической системы Аристархом Самосским в Ш веке до н.э. (при убеждённости большинства человечества вместе с Птоломеем, который лишь во П веке до н.э. раскритиковал эту идею). «Аристарха сочли чуть ли ни сумасшедшим», поэтому он занялся разведением скота. Эту идею (также преждевременно) озвучивали: индийский астроном Арьябхатта (V век); о движении звёзд догадались китайские учёные (VШ век); движение Земли вокруг Солнца констатировал и арабский астроном Бируни в Х1 веке; затем – Коперник в 1500 году. С.И. Сухонос констатирует, что «все преждевременные открытия, которые приходят в головы отдельных выдающихся личностей, обречены на критику и отрицание, затем на длительное забвение. И лишь когда общее развитие науки подходит к необходимости принятия этих «преждевременных идей», из архивов науки достаются старые фолианты…». «Любые «сумасшедшие» теории сегодня исходно отвергаются научным сообществом, а в случае, если их авторы не прекращают своей активности, их заносят в «чёрные списки» лженаучных». На мой взгляд, данный феномен в очередной раз подчёркивает принцип несовпадения скорости и направленности развития объектов и субъектов мира, факт неоднородности Единого Пространства Жизни, что порождает разброс в уровнях индивидуального и общественного сознания и, возможно, обеспечивает вечность существования мироздания. Так называемое развитие – это, по сути, концентрация усилий и внимания на определённом аспекте мироздания, который выделяется общественным и индивидуальным сознанием из широкого контекста бытия.
В «Малой энциклопедии прогностики» под рубрикой «Прогнозирование инноваций» сообщается: «Различают эпохальные инновации, лежащие в основе становления новых цивилизаций (вековых циклов); базисные инновации – основу формирования нового технологического уклада (примерно раз в полвека) и нового поколения техники (технологий); улучшающие инновации, способствующие развитию и повышению эффективности наиболее распространённой техники на основе новых моделей продукции и модификаций технологий; псевдоинновации, направленные на частичное улучшение устаревших поколений техники (технологий); антинновации, возрождающие пройденные этапы в развитии техники, технологии, экономики и т.п.»
Надо отметить, что исследования будущего, как и обзор методов его предвидения, представленные в «Малой энциклопедии прогностики», в многочисленных книгах некоторых российских и зарубежных футурологов (прежде всего, И.В.Бестужева-Лады), во многом являются пособиями по истории новаций, могут проиллюстрировать основные закономерности развития не только инноватики (внедрения новаций), но и неизбежные коллизии, жизненные этапы самих новаторов и изобретателей всех времён и народов.
Новизна, новации, как и их носители, во все времена у всех народов, мягко говоря, не пользовались большим спросом. Какую бы сферу жизни мы ни взяли: науку и технику, искусство и литературу; философию и религию…
Но как бы мы ни относились к социальным переменам и потрясениями, революциям не только в технике и науке, но и в устройстве жизни общества и системы власти, они неизбежны. «Верхи не могут – низы не хотят» - это суть любого социального конфликта. При этом не всегда плохое общественное устройство или правление заменяется на лучшее, да и улучшение никогда не бывает абсолютным и принимаемым всеми; как правило, при социальных переворотах и в процессе эволюции что-то и для кого-то в жизни улучшается, но другим в чём-то становится хуже. В этом, наверное, проявляется «закон сохранения энергии» применительно к политической, социальной и даже природной жизни, что является основным условием вечности мира. То есть прогресс в одной области или сфере жизни всегда сопровождается регрессом в другой. За технический прогресс мы расплачиваемся деградацией окружающей среды; за прогресс интеллектуальный и духовный – утратой жизненной силы и страсти; за политические свободы, демократию платим распущенностью нравов и ростом преступности; ради равенства и братства приходится делиться последним, отказываться от самореализации и собственной уникальности…
Даже такая благородная цель, как сохранение окружающей среды, потребует от человечества снижения уровня потребления, изменения структуры потребностей, что может восприниматься как падение (снижение) уровня жизни. Рост же контроля над преступностью, терроризмом, повышение уровня безопасности требует усиления контроля над личностью и ограничения её свободы. Ничто не даётся даром.
В разделах 1.1 и 1.2 мы привели многочисленные примеры «расплаты» за стремление к социальному прогрессу ради улучшения жизни людей, за приверженность делу революции или пресловутой свободе, как их понимали адепты, пострадавшие на этом пути. Некоторые пожертвовали для этого собственной жизнью, отказались от многого! Но достигли ли они своих целей?
В данном разделе мы рассмотрим особенности творческого и социального новаторства. В задачи нашей книги не входит подробно и системно рассматривать проблемы и психологические механизмы творчества (они отчасти представлены в Приложении 2). Нас интересует, прежде всего, сложность жизненного пути творческого человека. И, прежде всего, в аспекте взаимодействия с социальным окружением, так как почти любое творчество – это новаторство, вызов, информационная, психологическая нагрузка на общество.
Формы и сферы новаторства и творчества могут быть самыми разными: политическими, социальными; интеллектуальными и научными; представлять собой изобретения и новшества в сфере техники, производства и даже повседневной жизни (например, мода и кулинария). Творчество и новаторство всегда были присущи также духовной, религиозной и нравственной сфере. И, конечно, они ярко проявляют себя в сфере искусства и литературы.
Новаторами были не только выдающиеся экономисты, обществоведы: Карл Маркс, Фридрих Энгельс, но и основатели, реформаторы религий: Христос, Будда, Мухаммед, Лютер. Самые известные философы – это тоже новаторы: Сократ, Платон, Аристотель, Гегель, Н.Ф. Фёдоров. Новаторами были политические деятели Парижской Коммуны, Великой Октябрьской социалистической революции в России.
Новаторами можно считать известнейших полководцев и властелинов, завоевателей всех времён и народов. Один из них, Наполеон Бонапарт, на склоне жизни, погубив сотни тысяч человек, записал в дневнике: «Военные гении слишком дорого обходятся человечеству, и для народа было бы лучше, если бы меня не было». Говорят, нечто подобное утверждал Бисмарк.
Зигмунд Фрейд в «Очерке истории психоанализа» пишет: «психоанализ – моё творение. В течение десяти лет им занимался только один я, и все неудовольствия, вызванные у современников этим явлением, всегда обращалось против меня одного». Сначала Фрейд не понял особенностей характера своих открытий, но, убедившись в их правоте, решил поделиться ими с коллегами, поставив по удар свою репутацию врача. «Ничего не подозревая, я выступил докладчиком в венском обществе специалистов, председателем которого был Kraft Ebbing, в ожидании, что интерес и признание товарищей вознаградят меня за добровольно взятый на себя материальный ущерб…Только тишина, воцарившаяся после моих докладов, пустота, образовавшаяся вокруг меня, намёки по моему адресу заставили меня мало-помалу понять, что если утверждаешь, что сексуальность играет определённую роль в этнологии неврозов, то не рассчитывай на такое же отношение к себе, как при других научных докладах. Я понял, что с этого времени я принадлежу к тому сорту людей, которые, по выражению Hebbel`я «нарушили покой мира», и что я не могу рассчитывать на объективное отношение к себе и на то, чтобы со мной считались». Далее Фрейд задаётся вопросом, каким образом можно было преодолеть это сопротивление здоровых людей (ведь больных людей он уже научился убеждать в наличии сопротивления и необходимости его преодоления), чтобы «заставить этих здоровых заняться научно-объективной проверкой учения, и разрешение этого вопроса поневоле пришлось предоставить времени». Фрейда то «сравнивали с Дарвином, Кеплером, то ругали паралитиком». Но Фрейд не отличался «интеллектуальной уступчивостью», а также хорошо понимал, что в медицине повсеместно происходит признание тех или иных методов, ранее не признанных, «хотя не было приведено никаких новых доказательств в их пользу». Тем не менее, и Фрейда постигла судьба любого учёного – не признавать и даже критиковать теории и достижения других (Адлера, Юма). Об этом он также пишет в своём очерке. Но это не было проявлением конкуренции и, тем более, зависти. Это представлялось ему стремлением уберечь психоанализ от «искажения и запутывания», то есть, это было борьбой за чистоту учения, хотя, по сути, являлось неизбежным проявлением собственной психологической защиты, так как «культура покоится на результатах вытеснений прежних поколений и что каждому новому поколению приходится оберегать культуру, совершая те же самые вытеснения». Но стремление найти одну единственную причину неизбежности подобного вытеснения, на мой взгляд, - это проявление линейной логики (и не только!).
Всем известны имена учёных, астрономов-новаторов: Николая Коперника, Галилио Галилея, Джордано Бруно. Нынешний век нельзя представить без К.Э. Циолковского, А.Л. Чижевского, В.И. Вернадского, хотя мы не знаем, а иногда и не догадываемся, что у всех их были предшественники, канувшие в лету. Да и их самих сменят другие, которые на фундаменте их уже недостаточно полных и точных представлений о мире создадут новые «прорывные» теории. Возможно, имеет смысл говорить о вечности всего разнообразия человеческих представлений о мире?!
Список новаторов в современном (в основном, в западном) бизнесе (рейтинг 12 величайших предпринимателей современности, «сумевших превратить концепции в успешные корпорации, которые изменили лицо бизнеса») приведен в статье Джона Бирна «Зачинатели великих идей» (журнал «Большой бизнес», № 6, 2012). Список возглавляет недавно умерший от рака в 2011 году в возрасте 56 лет Стив Джобс, который, как пишет автор статьи Д. Бирн, «представляет собой квинтэссенцию предпринимателя нашего поколения. Дальновидный. Вдохновляющий. Блестящий. Находчивый. Деятельный». Всецело опираясь на свою интуицию, он не занимался маркетинговыми исследованиями для изучения спроса на его новые компьютеры, поэтому почти оскорблённым тоном и встречным вопросом ответил на соответствующий вопрос журналиста: «Проводил ли Александр Грэм Белл исследования рынка перед тем, как изобрести телефон?» (В самом деле, разве изобретатель ориентируется на своё окружение и привычный спрос?).
В список величайших предпринимателей входят также: основатель Microsoft Билл Гейтс (в основе его успеха, как он считает, лежит правильный выбор партнёров, которым можно безгранично доверять); Фред Смит, создавший свою фирму Federal Express как единую систему «земля-воздух» по типу морского десанта; создатель компании Amazon, специализирующейся на Интернет-торговле Джефф Безос; Лари Пейдж и Сергей Брин (компания Google); Говард Щульц (крупнейший в мире продавец чая латте); «самый параноидальный» предприниматель Марк Цукерман, способный на любой риск; Джон Маккей (деятельность его компании Whole Foods основана на ряде правил, среди которых: реализовывать только высококачественные натуральные продукты, продвигать и пропагандировать идею бережного отношения к природе); Херб Келлехер, на компанию которого Southwest Airlines приходится около 90% низкобюджетных авиаперевозок в Америке; Нираяна Мерфи, доказавший, что Индия может конкурировать с Западом в разработке компьютерных программ; Сэм Уолтон (умер в 1992 году), который «был самым успешным ритейлером в американской истории» (ключевым моментом его успеха была способность продавать товары по самой низкой из возможных цен); Мухаммад Юнус, который дал импульс «рождению глобального движения в области микрокредитования».
Журнал «MINI» (апрель 2006 г.) повествует о нескольких женщинах ХХ века, перевернувших представление о некоторых вещах в сфере культуры и одновременно ставших знаменитыми. Коко Шанель (19 августа 1883 г. – 11 января 1971 г.), совершившая революцию в моде (с лозунгом «Долой удушающие корсеты, многослойные юбки, турнюры и рюши. Да здравствует простота и элегантность!»), всем хорошо известна. Маленькое чёрное платье, бывшее униформой продавщиц парижских универмагов, стало, благодаря ей, символом моды ХХ века.
Эсте Лаудер (Жозефина Эсте Ментцер) (1 июля 1908 г. - 24 апреля 2004 г.) основала косметический бизнес на основе семейных рецептов. После смерти оставила огромную империю, 10 тысяч магазинов в 120 странах мира, миллиарды прибыли.
Рут Хэндлер (родилась 4 ноября 1916 года, прожила 85 лет) 16 февраля 1959 года представила обществу куклу Барби (по имени дочери Барбары, которая в детстве увлечённо играла бумажной куклой, забросив кукол пластмассовых). Матерям девочек, которые были в восторге от новой куклы (наконец-то у них есть кукла-подружка!), эта кукла казалось «слишком взрослой». Оправившись после операции рака груди, Рут начала разрабатывать грудные протезы по собственным меркам, помогать реабилитации больных женщин.
Немка Беата Узе (25 октября 1919 г. – 16 июля 2001 г.), «заболевшая» в молодости небом, в 17 лет поступила в берлинский аэроклуб, а после Второй мировой войны, узнав об основной послевоенной «женской» проблеме (беременности и отсутствии средств предохранения, сексуальной грамотности), вспомнила рассказы матери о сексуальной гигиене, противозачаточном «календаре» и написала брошюру «Тест Икс». Затем стала продавать презервативы, вибраторы и другую секспродукцию. Её имя осталось жить в гигантском концерне «Беате Узе».
Энне Бурда (Анна Магдалина Леммингер) (28 июля 1909 г.- 3 ноября 2005 г.) знали ещё в СССР. Её журнал «Бурда моден» стал настоящим подарком для женщин во всём мире.
Всё это – примеры удачливых новаторов.
Отечественный предприниматель Владимир Довгань (В. Довгань, Е. Минилбаева «Я был нищим – стал богатым», Симферополь: ВГМИ «Таврия», 2007) так определяет основные составляющие успеха предпринимателя: «успех – это прежде всего здоровье…На второе место я бы поставил долголетие…и, конечно же, любовь». Необходимыми составляющими успеха он считает также реализованность, возможность оставить свой след на земле. Большого успеха не бывает и без богатства, которое заключается, прежде всего, в богатстве души, культуре, силе духа. «Ещё одной составляющей успеха является дружба…без друзей ты один».
Немецкий физик-теоретик Макс Планк писал: «Великая научная идея редко внедряется путём постепенных убеждений и обращения своих противников…В действительности дело происходит так, что оппоненты постепенно вымирают, а растущее поколение с самого начала осваивается с новой идеей» (Г.Р. Иваницкий «Мир глазами биофизика»). При этом, как отмечал известный физик, изучавший явление сверхпроводимости, академик Аркадий Бенедиктович Мигдал, нельзя и, наверное, бесполезно стремиться к открытию, так как оно возникает лишь как побочный эффект изучения какого-либо явления. Не только он сам, но и многие гении науки доводили себя в творчестве до изнеможения (Эйнштейн, например, доходил до галлюцинаций).
Кстати, понять идеи Эйнштейну дано не каждому, как и многочисленные воображаемые модели действительности, создаваемые физиками и являющиеся откровенно спорными, так как они часто противоречат здравому смыслу и не могут быть проверены на практике. Как пишет Рудольф Баландин («Подлинная история времени»): «Говорят, во время оваций публики, приветствовавшей Чаплина и Эйнштейна, великий артист шепнул великому физику: «Вас они приветствуют потому, что не понимают ваших работ, а меня – потому, что все меня понимают». По мнению В.И. Вернадского, представления о мире, основанные на данных физики, химии, математики, механики чрезвычайно упрощают реальность, предлагая схемы, как отмечает и Р.Баландин, далёкие от реальности. В результате, «Вселенная предстаёт либо как хаос, в котором случайно возникают области упорядоченности, либо как грандиозная машина, управляемая мировым разумом или божествами». Популярная гипотеза Большого взрыва, в результате которого будто бы произошла Вселенная, возникла в период разработки и осуществления взрыва атомной и водородной бомбы, что свидетельствует о связи уровня научного сознания с общественным мнением своего времени. Но справедлива ли она? Ведь она порождена линейной логикой, предполагающей, что сложный объект (например, Вселенную) можно получить из простых (из атомов или из одной точки).
Новаторство в религии и в науке всегда подвергалось яростному гонению (примером является не только подвиг Иисуса Христа). Гонителями были не только представители высшей власти, представители уже сложившихся религиозных и научных систем представления о мире, но и обычные люди, обыватели.
Немалую роль в истории притеснения новаторов в науке играла и церковь, так как новые открытия могли поколебать религиозную картину мира. Александрийскую библиотеку, сосредоточившую в себе сотни тысяч ценнейших рукописей, в начале разгромили фанатики христианства, а потом, спустя столетие, в 642 году окончательно уничтожили мусульмане. Мусульманские фанатики убили среднеазиатского математика и астронома Улугбека (1394-1449). Сейчас фанатики от ислама разрушают архитектурные памятники Сирии и других стран.
П.В. Свиридов в книге «Миф эпохи Водолея» приводит несколько фактов мракобесия церкви, собранных Андреем Вязовским и опубликованных в Интернете. Так, например, «в 1163 г. Папа Александр Ш издал буллу о запрете «изучения физики или законов природы». Нападкам церкви подвергались даже такие известные учёные, как М.В. Ломоносов, сторонники учения Ч. Дарвина, Нобелевский лауреат И.И. Мечников и многие другие. Впрочем, эти «нападки» не были беспочвенными!
Более того, некоторые, ныне признанные идеи, в своё время считались богословами ересями (например, идея «троичности Бога»). Высказанная Пьером Абеляром, она вызвала возмущение, его хотели побить камнями. «Господь ждёт, чтобы человек свидетельствовал об истине своей жизнью» - эта мысль помогла пережить ему заключение в монастыре, на которое его осудили церковники (но он отказался переселиться к язычникам, чтобы жить там, не подвергаясь преследованиям за свои убеждения).
Более того, все знают о борьбе разных религий между собой; одного верования с другим, одной идеологии – с прочими. Каждый новый режим, как и новая культура, религия, насаждается, как правило, мечом. Сжигают книги, уничтожают прежних богов и культурные символы. Генрих Гейне когда-то написал: «Там, где сжигают книги, в конце концов будут сжигать людей». («Dort, wo man Buucher vebrent, vebrennt man am Ende auch Menschen»). «Когда Моисей получил десять заповедей и спустился с горы, он увидел людей, которые танцевали и молились вавилонским божествам, и уничтожил этих «ложных идолов», - пишет психолог Арлин Одергон в книге «Отель «Война». Психологическая динамика вооружённых конфликтов».
Новаторство в искусстве и литературе, как правило, хоть и подвергается гонению, но, возможно, не столь яростно, как научное или религиозное. Хотя в периоды истории или в тех странах, где жизнь общества наиболее всего определяется идеологией, гонение на создателей новаторских произведений искусства и литературы бывает не менее яростным, а любое творчество становится рискованным занятием. Подтверждением этому являются судьбы самых известных поэтов, писателей, художников не только прошлого, но и современности. От нападок политических и духовных авторитетов, их власти страдали даже такие гении, как А.С. Пушкин; Л.Н. Толстой был отлучён от церкви; в СССР множество не только учёных и общественных деятелей, но и писателей, поэтов, художников прошли или даже сгинули в ГУЛАГе.
Тем не менее, новаторство в искусстве всегда нуждалось в социальной и даже политической поддержке (со стороны знати и простых людей оценки почти никогда не бывают сходными, как и со стороны национальной и зарубежной элиты, власти). Ведь художник, писатель творит не только и не столько для самого себя, хотя аспект «одержимости» творчеством и мотив самовыражения, очищения («катарсиса») через творчество всегда присутствует в их работе. Сознательно или подсознательно, создатель произведения искусства ждёт от людей и власти если не поклонения, общественного признания, то понимания и отсутствия принуждения.
В искусстве, как и в других сферах деятельности, судьбы самых гениальных и смелых творцов нового почти никогда и нигде не складывались гладко. Даже признанным придворным живописцам и архитекторам приходилось рисковать жизнью и благополучием. Что говорить о новаторах типа «импрессионистов», «экспрессионистов», «сюрреалистов», любых модернистов, спор о ценности работ которых не стихнет никогда, несмотря на баснословные деньги, которые тратят чудаки-миллионеры на приобретение картин Модильяни, Сальватора Дали, современных авангардистов. Анализируя влияние импрессионистов на историю французского (и, наверное, всего Западного и мирового) искусства, Оскар Рейтерсверд в монографии «Импрессионисты перед публикой и критикой» отмечает их новаторскую роль не только непосредственно для живописи (за счёт отличного от привычного способа восприятия и изображения окружающего мира), но и для организации жизни общества в целом. Импрессионисты Парижа и Франции, прежде всего, противопоставили себя администрированию в искусстве, Салону, как единственному форуму искусства, открыв, тем самым, любому художнику потенциальную возможность организовать частную выставку для показа своих работ. Как пишет О. Рейтерсверд, в период утверждения их стиля «импрессионист стал считаться лицом, в отношении которого, казалось, допускалась любая насмешка, любая клевета». Позднее, наоборот, общественное мнение осудило любую критику импрессионизма, как недостойную и свидетельствующую в 1870-е годы о всеобщем упадке понимания искусства. Это, на наш взгляд, является проявлением другой крайности, так как любой человек, включая критика, имеет право оставаться честным в своём «понимании», восприятии и принятии конкретных произведений искусства.
Первые годы Советской власти в России были чрезвычайно плодотворными для самого разнообразного творчества. Социалистическая революция, казалось, бесповоротно открыла дорогу для преобразований и в сфере духа. Многим новаторам в разных сферах жизни тогда казалось, что их художественные, духовные искания будут востребованы всем народом, поддержаны Советской властью. И хотя среди народа и даже наиболее интеллектуальных и терпимых представителей власти (к их числу можно отнести А. Луначарского) встречалась поддержка, достаточно перечислить лишь несколько имён новаторов искусства, литературы, чья судьба оказалась более или менее трагической. Маяковский, Мейерхольд, Эйзенштейн, Эрдман, легенда отечественного кино Леонид Оболенский, писатель Михаил Булгаков, Борис Пастернак, Анна Ахматова, Марина Цветаева, Иосиф Мандельштам…Список можно продолжать почти до бесконечности. Время было далеко не простое, так как миром правило дуалистическое мышление, выражающее себя через классовую непримиримость и нетерпимость. К тому же надо было обеспечивать линейность прогресса, что требовало концентрации усилий, энергии общества на отдельных, конкретных целях. Страдал, как говорится, контекст, широкий спектр проявлений жизни.
В более позднее время в СССР проблемы были не только у художников, участников выставки в Манеже при Хрущёве, у Театра на Таганке Юрия Любимова. От непонимания даже актёров страдал режиссёр Анатолий Эфрос, Андрей Тарковский…Наверное, поэтому некоторые из наиболее неординарных творческих людей покидали Родину навсегда (например, Рудольф Нуриев). «Моцарт ХХ века», русский композитор Эдисон Денисов, хоть и был уверен, что в минуты вдохновения его рукой водит Бог, был признан таковым не в России, а на Западе, во Франции.
Но не надо демонизировать тех или иных правителей, то или иное историческое время. Прежде всего, все люди имеют право на собственную оценку, определённый вкус, который формируется иногда в простой рабочей среде. Да и почему, наконец, нельзя спорить о вкусах не только в рамках «Культурной революции» М. Швыдкова? Надо признать также, что один и тот же человек иногда в течение жизни неоднократно меняет свои художественные пристрастия. Я, например, импрессионистов стала воспринимать позже Шишкина, но сейчас бы я задумалась, кому из них отдать предпочтение. Интерес к классической музыке у меня резко сменился увлечением восточной традиционной музыкой (индийскими рагами, например) и приверженностью к тишине. Ведь любая музыка, как и живопись, искусство оказывает программирующее воздействие на сознание, что может не совпадать с наследственной предрасположенностью, этапом развития личности и её чувствительности, усиливать или ослаблять душевную дисгармонию момента.
Далеко не все гении советских лет сгинули или прошли через лагеря; не все были отправлены на Запад на пароходах с формулировкой Троцкого «расстрелять не за что – терпеть невозможно». (Философ Г. Шпет был вычеркнут из списка отъезжающих по его просьбе А. Луначарским; он сделал на Родине много, но был расстрелян в 1937 году в Томске). Изобретатель телевизионной трубки, уроженец города Мурома, Владимир Зворыкин, эмигрировал в США, где и получил мировую известность (в июле 2013 года ему открыли в Москве памятник). Но в СССР было много и тех, кто продолжал творить в самых сложных условиях и даже получал правительственные награды, хотя при этом угроза жизни, как Дамоклов меч, висела и над такими гениальными творцами, каким был, например, инженер Владимир Шухов, изобретатель крекинг-процесса и создатель знаменитой телевизионной башни. (Кстати, он запустил также вращающуюся сцену МХАТа и был влюблён в молодости в актрису Ольгу Книппер, ставшую женой А.П. Чехова). Достаточно назвать также композиторов Сергея Прокофьева и Дмитрия Шостаковича, писателя и поэта Бориса Пастернака, скульптора В. Мухину, художников: Игоря Грабаря, П. Кончаловского, Петрова-Водкина. И причина их выживания в самых сложных жизненных условиях, при любом режиме и любой власти не только в том, что власть, как и народ, нуждается в людях творческих, в выдающихся творениях культуры, в научных открытиях и технических изобретениях, но и в том, что любая социальная среда, как и внутренний мир творческого человека, новатора, всегда неоднородны, поэтому в них есть место не только противостоянию, непримиримой вражде, но и сотрудничеству, пониманию и компромиссу. Люди компромиссов, подобные поэту Сергею Михалкову и его сыновьям, Никите и Андрею, способные наслаждаться жизнью в разных условиях, хоть и подвергаются порой насмешкам, искренне следуют своей собственной природе не в меньшей степени, чем те, кто принципиально идёт по жизни лишь непроторённым путём жертвы. Таким образом, на характер взаимодействия человека творческого, новатора и социума влияет не только степень тоталитарности политического режима, идеологической совместимости установок власти и установок творца, но и человеческие качества самого новатора.
Более подробно мы рассмотрим различные стратегии выживания и жизни человека в различных условиях в соответствии с «картиной», моделью мира, в разделе 5. Здесь мы лишь отметим, что одна и та же жизненная стратегия (непримиримость или компромисс) может свидетельствовать как о слабости натуры, её инфантильной неопределённости, так и о зрелости, мудрости, даже жертвенности.
Приведу пример судьбы гениального художника Павла Николаевича Филонова, умершего 3 декабря 1941 года в блокадном Ленинграде. Несмотря на непонимание окружения и даже глумление, которому он подвергался всю жизнь (его считали ненормальным, его аналитический метод раздражал академических художников, которых сам Филонов называл «изосволочью»), у него было очень много учеников (они приезжали даже из-за рубежа), с которых, несмотря на бедность, он никогда не брал денег. Он был убеждён, что его искусство необходимо Родине и народу. При этом сами художники Академии натравливали советскую общественность на Филонова, считали его творчество злом и объявили «помешанным врагом рабочего класса».
Аналитический метод Филонова совмещал в себе рационализм и интуицию, он шёл не только от общего к частному, как было принято в искусстве, но и от частного (отдельного «атома») к общему. Филонов считал, что современные художники узко и однобоко (лишь через форму и цвет) взаимодействуют с природой, хотя любое явление обладает неисчерпаемым количеством не менее ценных свойств. Живопись Филонова словно показывает процесс роста живого организма, она свидетельствует о неисчерпаемости, многослойности любого произведения искусства, как и самой жизни. Художник разработал положение о «глазе видящем» и «глазе знающем». Если первый ведает передачей формы и цвета, то с помощью второго воспроизводятся скрытые, невидимые обычному глазу процессы. Филонов утверждал: «Не так интересны штаны, сапоги, пиджак или лицо человека, как интересно явление мышления с его процессами в голове этого человека» (П.Н. Филонов. Дневники. СПб.: Азбука, 2000).
Проблема «изгойности» и отсутствия понимания творческого человека будет возникать всегда, в ряде случаев она по-прежнему сопряжена с опасностью для жизни. Например, угрозу жизни для С. Ружди создала публикация его «Сатанинских стихов».
Почти любой гений в сфере искусства не только одержим творчеством, но и, по сути, одинок. Иногда, правда, он находит себе партнёра, с которым проходит всю жизнь (так, например, случилось с новатором балета Ролланом Пети).
Многочисленные книги по истории науки и техники, по истории литературы и искусства знакомят нас с разными судьбами и конфликтными ситуациями, связанными с новаторством и творчеством. Многие сложные особенности жизни новаторов типичны для всех стран мира во все исторические времена.
Интересным примером совместимости во многом противоположных человеческих качеств и возможностей, талантов является судьба русского князя, потомственного военного, ставшего путешественником и учёным с мировым именем, Петра Алексеевича Кропоткина (1842-1921 гг.). Будучи чиновником особых поручений при генерал-губернаторе Восточной Сибири, много путешествуя по Сибири, он пытался исправить существующий строй, верил в реформы (работал, в частности, над проектом преобразования тюрем, как части судебной реформы, и проектом городского самоуправления, не подозревая, что скоро придётся изучать тюрьму в качестве заключённого). Его проекты встретили сопротивление властей, как несовместимые с самодержавием. В.А. Твардовская в предисловии к изданию «Записок революционера» П.А. Кропоткина отмечает: «Именно в Сибири Кропоткин осознал человека не властелином природы, не её повелителем, а органической её частью, на которую распространяются многие законы естественного мира. Гармония в природе в силу этого не только подчёркивала дисгармоничность социального мира, но и как бы подтверждала ненормальность его устройства, возможность переделки. Позднее эти размышления оформятся в цельную концепцию места человека в естественно-органическом мире, которая станет важной частью обоснования анархического общественного идеала».
Помимо социальных проектов и докладов Русскому географическому обществу (РГО), Кропоткин в начале 70-х годов начинает исследование причин «великого оледенения» в Европе, завершать которое ему пришлось в Петропавловской крепости (кстати, учёные РГО не отвернулись от него в этот период, а предоставили ему возможность работать с их библиотекой).
Убеждённым революционером Кропоткин стал после поездки в Швейцарию в 1872 году для ознакомления с работой 1 Интернационала, западно-европейским рабочим и социалистическим движением. Социальным идеалом Кропоткина являлся «вольный союз самоуправляемых общин». В нём господствовал труд и коллективная собственность даже на предметы быта, провозглашалось стирание граней между умственным и физическим трудом. Арестованный в 1874 году, Кропоткин бежал из заключения уже в 1876 году за границу (ему пришлось 3 года провести в тюрьме Клерво во Франции, куда он попал по процессу анархистов в 1883 году – видные деятели мировой культуры способствовали сокращению его тюремного срока с 5 лет на 2 года), откуда с триумфом вернулся в Россию после февральской революции. Встречали его очень торжественно, в многотысячной толпе были министры Временного правительства. При этом в отличие от большинства революционеров и в противовес сложившемуся мнению об анархистах, Кропоткин был убеждён, что «никакое разрушение существующего невозможно, если уже во время самого разрушения или борьбы за разрушение не будет обрисовываться в умах то, что должно стать на место разрушаемого». Но, в отличие от В.И. Ленина, он считал, что государство и социальная революция не совместимы, так как государство сковывает инициативу людей. Опасался он также и появления на этой базе личной диктатуры. Но, будучи идейным противником марксизма, Кропоткин никогда не вступал ни в какую организационную борьбу с ним. Более того, он обращался к западноевропейскому пролетариату с призывом помешать интервенции в Советскую Россию, хотя в своих письмах в Совнарком и лично Ленину критиковал жёсткость политики, «красный террор», писал о необходимости создания условий для инициативы снизу. (На мой взгляд, он оказался не меньшим идеалистом, чем большевики, так как далеко не всякая личная инициатива способствует социальному прогрессу). Кропоткину принадлежит также доказательство (его работа «Этика»), что взаимопомощь и борьба не исключают друг друга, а сосуществуют в общественных отношениях.
Большая часть людей на планете Земля всегда, так или иначе, ощущала и ощущает себя частицей космоса, не сомневаясь в наличии постоянной связи не только с другими людьми, планетами Солнечной системы, но и с разнообразными мирами Вселенной. Место и роль человека во Вселенной неоднократно становились предметом исследований и споров самых различных умов человечества во все времена во многих странах мира. По-видимому, интерес к этой теме, как и варианты ответов на вопросы о происхождении и предназначении человека, характере его связи с другими мирами определяется изначально заложенной в человеке потребностью в трасцендентном, в стремлении выйти за пределы своего наличного бытия. Эта потребность, наверное, выражается и через потребность в развитии, в изменении вообще. Потребность в трансцендентном наиболее полно всегда удовлетворялась благодаря религиозным представлениям о мире. Наиболее яркими выразителями вселенских идей, наверное, можно назвать «русских космистов» (философа Н.Ф. Фёдорова, основоположника идеи ноосферы В.И. Вернадского). Со временем на реализацию этих идей начала работать наука и техника, особенно воздухоплавание и авиация. Известный исследователь («уфолог») природы неопознанных летающих объектов (НЛО) В.Г. Ажажа отмечает неизбежность подхода к определению научности любых исследований с позиций главенствующей парадигмы знаний, поэтому тема НЛО в современном мире в научных кругах пользуется особым недоверием. Тем не менее, В.Г. Ажажа в книге «Погоня за НЛО» отмечает: «Ещё 200 лет назад в ответ на многочисленные сообщения о падении метеоритов французская Академия наук принимала специальное постановление, в котором столь же категорически объявлялось, что никакие камни с неба падать не могут!» Но он убеждён, что «у мыслителя с широким кругозором никогда не возникало сомнений по поводу распространённости жизни во Вселенной. Ф. Энгельс полагал, что разум, затухая на одном небесном теле, неизменно возрождается на другом», то есть разум (сознание) наряду с материей всегда присутствовал во Вселенной. В.Г. Ажажа пишет в своей книге о необыкновенных людях (например, о Л.С. Прицкере), которым удалось заглянуть за таинственный занавес, разделяющий различные уровни, слои жизни, включая проникновение в так называемый «загробный мир». Несмотря на то, что «мы в основной массе лишены способности улавливать движение тонкой материи и энергии в окружающей нас сфере разума. К этому информационному слою, окружающему Землю, способны подключаться только уникумы, подобные болгаркам Ванге Димитровой и Мамере Пенчевой…» Но у таких людей могут отсутствовать самые обыкновенные способности. Например, «обладающий недюжинными психофизическими способностями Григорий Распутин не мог порой связать двух слов, не говоря уж о том, чтобы проанализировать причины и следствия своих деяний». Подобные люди нередко подвергаются агрессии непонимающих их людей, даже гибнут от рук наёмных убийц, фанатиков или психически неуравновешенных людей. Так, например, геофизик из г. Твери Алексей Васильевич Золотов, много лет исследовавший НЛО, неоднократно совершавший экспедицию к месту падения Тунгусского метеорита (он защитил по этой теме диссертацию с присвоением звания кандидата физико-математических наук) погиб 8 октября 1995 года. Убийца нанёс ему семь ножевых ранений. (Однажды я присутствовала на его незабываемой лекции во ВНИИГеофизике, организованной по линии НТО-Горное: он опоздал к её началу, так как возвращался с места появления НЛО в г. Петрозаводске). Доносам, угрозам и даже нападениям неоднократно подвергался и В.Г. Ажажа.
Основателями воздухоплавания в России называют Н. Кибальчича, Юрия Кондратюка (настоящее имя - А.И. Шаргей), автора работы «Завоевание межпланетного пространства» инженера Фридриха Артуровича Цандера, К.Э. Циолковского. Почти у каждого из них была нелёгкая судьба. Они были теоретиками; позднее в России появились и практики: конструкторы авиации и космических кораблей – С.П. Королёв, М.К. Тихонравов, В.П. Глушко, А.Н. Туполев, А.А. Туполев, А.И. Микоян, С.В. Ильюшин, А.С. Яковлев, П.О. Сухой, О.К. Антонов, С.А. Лавочкин и другие («Всемирная история авиации»).
Общеизвестным примером общепризнанного теперь гения, опередившего своё время, является Константин Эдуардович Циолковский, с именем которого связывают начало освоения человечеством космического пространства. В 1903 году, с помощью известного химика Д.И. Менделеева (он деятельно интересовался идеями и разработками учителя арифметики и геометрии из Калуги), удалось напечатать работу К.Э.Циолковского «Исследование мировых пространств реактивными приборами». Но возникли цензурные рогатки из-за наличия в работе «еретических понятий» о составе небес.
Но после Великой Октябрьской революции всё перевернулось вверх дном, а люди, которые определяли научную судьбу Циолковского, сами попали в невыгодное положение. В 1932 году в книге Я.И. Перельмана, вышедшей к 75-летию К.Э. Циолковского и к 40-летию научной его деятельности, автор «приводит интересную схему опережения К.Э.Циолковским западноевропейской и американской науки в области воздухоплавания и ракетодинамики», - сообщает Чижевский.
Тем не менее, жизнь Циолковского и при Советской власти, несмотря на то, что его имя занесли во все советские энциклопедии как теоретика космоплавания, была не простой, а его философские работы до сих пор малоизвестны. Месяца за три до смерти Циолковский жаловался дочери, что он не надеется напечатать свои философские работы, поэтому стал по переписке распространять их среди малознакомых людей в надежде, что его мысли дойдут до следующих поколений людей. Циолковскому принадлежит мысль о множественности миров Вселенной. Он утверждал, что Вселенная жива, разумна и высоко организована, он считал, что всё несовершенное на Земле и в космосе должно быть заменено более совершенным (В.Г. Ажажа отмечает в своей книги, что «за это его обзывали даже идеологом фашизма»).
Обратимся к воспоминаниям о Циолковском «На берегу Вселенной» также незаурядного человека и учёного-новатора Александра Леонидовича Чижевского, которого по праву считают его учеником. (Его книге была уготована непростая судьба: направленная в издательство Академии Наук СССР в 1962 году рукопись затерялась. С.П. Королёву предлагали дать на книгу отрицательный отзыв, недоброжелатели отрицали факт дружбы Чижевского с Циолковским, первое издание книги вышло с сокращениями).
Как пишет А.Л. Чижевский в воспоминаниях об учителе, большинству людей всегда казались идеи Циолковского полностью оторванными от практики, неосуществимыми. Напрямую ему редко отказывали; чаще всего вежливо обещали что-то сделать, но ничего не делали. «Всю жизнь, - говорил Циолковский, - я был под яростным обстрелом академических кругов. При всяком удобном случае они стреляли в мою сторону разрывными пулями, наносили мне тяжёлые физические ранения и увечья, мешали работать и создавали условия, тяжёлые для жизни…Спрашивается: чем я был не угоден этим учёным? Жил в Калуге, никого не задевал, ни с кем не вступал в дискуссии, никого не обижал, и, тем не менее, меня ненавидели, презирали, чурались моих писаний и высказываний и зло критиковали их, считая всё, что я создал, бредом умалишенного, беспочвенной фантазией самоучки». Но, ругая Циолковского в печати, критики не удосужились встретиться с ним, замалчивали его работы. Как отмечает Чижевский, «заговор молчания - это обкрадывание человека». Даже «отец русской авиации» Н.Е.Жуковский не понял прогрессивного значения работ Циолковского, как и идею вытеснения винтовых двигателей реактивными (ученики Жуковского после его смерти постарались не допустить работы К.Э.Циолковского в печать). Несмотря на то, что все опыты Циолковского были построены на точном расчёте, его неоднократно обвиняли в дилетантизме. Чижевский отмечает: «Наиболее выдающиеся умы человечества всегда были самоучками…Незадолго до смерти, Константин Эдуардович писал: «Неприлично упрекать таких самоучек, как Райт, Фарадей, Ватт, Стефенсон, Морзе, в отсутствии академических знаний. Если бы они были академиками, то не сделали бы того, что сделали. Не надо забывать, что один двигатель прогресса, например, Эдисон, стоит больше, чем десять академиков и тысячи профессоров. Невежливо же тыкать Райтам, что они велосипедные мастера, или Фарадею, что он не знает математики». И, продолжая мысли Циолковского, Чижевский пишет: «всякий большой учёный является своего рода «самоучкой»…Каждый большой учёный – это человек, который, прежде всего, всё время учится, в основном по книгам учёных, своих современников, а то и предшественников». Циолковский всю жизнь жаловался на полное одиночество, которое он испытывал даже в семье, так как соседи пытались доказать его жене, что он – свихнувшийся человек, неудачник и, возможно, пьянствует по ночам. К нему подсылали даже психиатра. Его упрекали в эгоизме по отношению к семье, которая жила впроголодь. Правда, жена Циолковского, Варвара Евграфовна, не роптала и никогда не нападала на мужа. Официальное признание работ Циолковского пришло буквально накануне смерти.
Как сообщает статья Эллы Максимовой «Пророк в нашем отечестве» (газета «Известия», 10 апреля 2003 г.), знакомство первого космонавта Юрия Гагарина с Циолковским началось с его доклада в студенческие годы на тему «Циолковский и его учение о ракетных двигателях и межпланетных путешествиях». Космонавт Гагарин вспоминал позднее: «Циолковский перевернул мне всю душу».
В очерке «Пионер космоса» (сборник: Д.Б. Пюрвеев, В.П. Казначеев, А.Н. Дмитриев «Космопланетарная интеграция планеты») отмечаются контрасты в характере Циолковского: «склонность к фантазированию и одновременно трезвая оценка положения, своенравие и сильно развитое чувство долга, ироничность и угрюмость, мистицизм и проповедь материалистического научного знания». «Фанатически преданный своим идеям, оригинальный в одежде и привычках, застенчивый и возбудимый, вежливый и деспотичный (например, по отношению к своим родным), щедрый и в то же время расчётливый, он был само противоречие». На мой взгляд, подобная противоречивость лишь подтверждает богатство натуры и соответствует наиболее совершенной модели личности, адекватной реальности, что особенно ценно для большого учёного и первооткрывателя.
Подводя итог анализу природы новаторства, Чижевский пишет: «Всякая творческая личность должна быть уничтожена, ибо она мешает спокойно жить» - вот лозунг девяноста пяти процентов населения земного шара…Непризнанных гениев больше, чем признанных».
Но и признанным гениям бывает очень нелегко. Пример тому – Михаил Васильевич Ломоносов. Как писал о нём академик В.И. Вернадский в 1911 году (журнал «Стратегия России», №11, 2011), «ни раньше, ни позже в нашей стране не было более своеобразной, более полной творческого ума и рабочей силы личности. Ещё в 1731 г. Ломоносов был полуграмотным крестьянином, через 10 лет он стоял – по тому, что было ему известно и что было им понято, - в передовых рядах человечества». Тем не менее, «то, что пришлось переживать Ломоносову в середине ХVШ в., то же приходится переживать нам теперь, в начале ХХ столетия. Работа М.В. Ломоносова шла в тяжёлой обстановке непонимания, нужды и препятствий. Несколько лет – и каких невозвратных лет – он добивался лаборатории.
Он вышел из нужды и мог предаться своим научным работам лишь посторонним трудом – сочинением од, устройством фейерверков, - только как придворный стихотворец. На каждом шагу ему приходилось защищать своё достоинство, бороться за равенство русской научной работы с западным творчеством – и приходилось бороться не только с «немцами» Петербургской академии, часть которых его поддерживала, но и главным образом с их русскими союзниками во влиятельных кругах правительства и общества».
Но давайте будем реалистами! Препятствия, чинимые любому гению и новатору, - во многом неизбежны. Это отмечает и сам В.И. Вернадский, упоминая о сложностях науки в 1911 году.
Гений, новаторство и одиночество, изоляция – если не синонимы, то часто неразлучные состояния. Одиночество необходимо и для самого творчества.
Признанным гением считается и Никола Тесла, который родился в Хорватии в 1856 году. Он изобрёл индукционный мотор, лампы дневного света и беспроводную связь, снаряды с дистанционным управлением, летательный аппарат вертикального взлёта и лазерное оружие. Даже падение Тунгусского метеорита некоторые считают делом его рук. Он предполагал, что посредством рентгеновских лучей благодаря резонансу можно расколоть Землю. Возможность «растворения материи в эфире» Тесла считал наивысшим научным подвигом, который человек может совершить в будущем (статья В. Абрамовича «Физика эфира и теория относительности», журнал «Дельфис, № 1, 2003). Тесла изучал также ментальные взаимодействия человека с эфиром и предполагал, что существует «всепроникающий посредник или субстанция, которая выдерживает любой вид напряжения или энергии как физической, так и психической». Он был уверен, что мозг человека, как и другие части тела, испускает и поглощает волны наподобие световых или тепловых, которые могут влиять на отдалённые тела и мир вообще. «Каждый атом или каждая молекула, - писал Тесла, - сама по себе есть живое существо, наделённое способностями воспринимать и помнить, а также каким-то образом организовываться».
Человеком Тесла был для обывателей странным. Его биограф М. Сейфер пишет: «С точки зрения теории Фрейда Тесла был анально-маниакальной личностью с подавленной сексуальностью, чья энергия была направлена в научное русло». У него было много особенных привычек: «Идя на всё, лишь бы избежать рукопожатий, изливая свою любовь на птиц, не подпуская гостиничных служащих на расстояние ближе, по крайней мере, трёх футов, выбрасывая воротнички и перчатки, один раз надев, Тесла также установил и другие жёсткие правила». Кроме того «стройный эпикуреец уверял, будто полностью отказался от мяса. Тесла верил, что в будущем дешёвую и здоровую пищу будут производить из мёда, молока и пшеницы. В конце 1930-х годов учёный ел совсем мало, перейдя с мяса на рыбу, с рыбы на овощи и, наконец, на тёплое молоко, хлеб и некоторые продукты, будящие его «жизненную активность…» Сам о себе Тесла как-то сказал: «Я годами кормил голубей – тысячи голубей. Но среди них была одна прекрасная птица, белоснежная, с серыми крапинками на крыльях. Это была самка. Стоило мне позвать её, и она тут же прилетала. Я любил эту голубку так, как мужчина любит женщину, и она отвечала мне взаимностью. Пока она была со мной, моя жизнь имела смысл».
Врачи ещё не успели констатировать его смерть в возрасте 86 лет, а агенты ФБР уже выносили опечатанные коробки с документами и макетами машин из его квартиры. Несмотря на огромную известность при жизни, его имя надолго предали забвению. Лишь в 80-е годы оно вновь стало известно.
Несомненным гением являлся и человек-легенда, изобретатель уникальных летательных аппаратов, Роберто Людвигович Бартини (полное имя - Роберто Орос ди Бартини), родившийся 14 мая 1897 года в Австро-Венгрии в аристократической семье. Он увлёкся идеями марксизма-ленинизма, когда находился в лагере военнопленных под Хабаровском в 1920 году, вступил в Итальянскую компартию и отказался от наследства примерно в 10 млн. долларов того времени. После фашистского переворота в Италии в 1922 году нелегально перебрался в СССР, где поначалу занялся проектированием гидросамолётов. Затем проектировал морской бомбардировщик, стратегические сверхзвуковые бомбардировщики, самолёты амфибии с вертикальным взлётом и многое другое (например, небывалого самолёта, на котором можно было бы без посадки обогнуть Земной шар, сверхзвуковой «летающей лодки»). Бартини был обвинён в пособничестве «врагу народу» (Тухачевскому) и шпионаже в пользу фашистского режима, приговорён к десяти годам тюрьмы, где продолжал работать под руководством Андрея Туполева. Вышел из заключения в 1948 году. Умер конструктор в 1974 году (журнал «Компания», 17 сентября 2012 г.). Кстати, пройдя через ГУЛАГ, пытки и унижения, Бартини продолжал верить в коммунистическую идею, предполагая, что лишь её воплощение осуществляется в СССР неправильно.
Как и многие гении, Бартини задумывался над строением мироздания. Так, например, мне неоднократно говорил В.П. Грибашёв, что «советский авиаконструктор итальянского происхождения Орос ди Бартини считал, что мир шестимерен в семеричной системе исчисления (то есть единство мира (1) выражается трёхмерностью (3) материального мира и трёхмерностью (3) воображаемого. Это способ рассмотрения любого явления как единство самого явления и его отражения» (В.П.Грибашёв, Н.И.Шелейкова «Что такое «Спектральная логика» и «Спектроглобус Грибашёва»). Как сообщается в уже упомянутой статье журнала «Компания», Бартини предложил также периодическую таблицу законов физики, которая позволяла прогнозировать пока не открытые законы. В частности, ему приписывают открытие «закона сохранения мобильности».
Но даже признание и почести не спасают новаторов ни от одиночества, ни от отчаянья, даже самоубийства. Известный конструктор космической техники, Президент Академии наук СССР, Мстислав Всеволодович Келдыш покончил жизнь самоубийством 24 июня 1978 года. После сложной операции у него проявилась депрессия, как пишет автор книги «Соприкосновение с космосом» В.Н. Ходаков, «с элементами самообвинения» (Келдыш считал, что за свою жизнь наделал немало ошибок; сказались, возможно, и многолетние перегрузки, хотя он всегда производил впечатление уверенного в себе человека).
В современной России много говорится о модернизации и инновациях (то есть внедрении новаций). Но при этом мало задумываются о том, что в каждом деле необходим баланс между старым и новым (традициями и новациями). И в разных сферах жизни, для разных людей и систем жизнедеятельности этот баланс будет свой. Более того, новации формируются в результате смешения уже наличных (имеющихся) традиций, иногда очень причудливого их скрещивания и взаимодействия. На примере русского изобразительного искусства конца Х1Х - начала ХХ века об этом пишет, например, М.Г.Неклюдова. В монографии «Традиции и новаторство в русском искусстве конца Х1Х - начала ХХ века» она рассматривает искусство данного периода не только как взаимодействие традиций и новаций, но и как сочетание западного и восточного стиля изображения мира и человека (на примерах проявления античных, готических, византийских, древнерусских мотивов в творчестве многих русских художников конца Х1Х - начала ХХ века).
Наверное, новации, как и идеи, циркулируют во времени и пространстве, поэтому, во многом, «новое – это хорошо забытое старое». Наконец, нет новаций без их носителей, то есть новаторов, поэтому их судьба должна волновать общество и власть не меньше, чем судьба их идей.
И хотя данный раздел книги я назвала «Тернистый путь людей, идущих впереди», вернее было бы сказать, что речь идёт не столько о тех, кто опередил своё время, сколько о тех, кто не вписался в своё время и в своё окружение. Тем более что почти любой первооткрыватель никогда не знает наперёд, опередил ли он своё время, внёс ли в науку и социальную жизнь что-то действительно новое, либо просто привлёк внимание научной или широкой общественности к тому или иному природному или социальному явлению. Тем более что успешная для одной из сторон борьба мнений в науке, как и одержанная тем или иным научным, мировоззренческим подходом победа, со временем обращается если не в поражение, то попросту растворяется в ткани жизни путём синтеза с ранее отвергнутыми идеями. Так, например, случилось с представлением о существовании эфира в физике.
Ещё один пример - это борьба идей в биологии в ХХ веке в СССР, которую настойчиво связывают с противопоставлением В.И. Вавилова, как одного из основоположников генетики, - Лысенко, как противнику генетики. Но, наверное, суть конфликта может быть сведена к мере, признанию той или иной степени значимости наследственности и изменчивости, их соотношению. Одна сторона главенствующим принципом эволюции, развития признавала наследственность, другая – изменчивость, хотя истина, наверное, заключалась в определении соотношения между этими противоположностями. Острота этого противопоставления обуславливалась тем, что миром в то время правило дуалистическое мышление, поэтому и научный спор приобрёл непримиримую, классовую суть, вылился в борьбу не на жизнь, а на смерть.
В книге Юрия Мухина «Русская правда. Продажная девка генетики» мы находим утверждения, что Лысенко лично Вавилова не уничтожал и к генетике относился хорошо. Но поскольку он был практиком, а не теоретиком, то скептически оценивал его работы и с насмешкой относился к узким профессионалам-учёным, которые накормить голодную страну не могли. И, хотя как учёный, Лысенко, возможно, был слабее Вавилова, как организатор науки и агроном он имел перед ним преимущества. Президент ВАСХНИЛ Лысенко головой отвечал в те годы перед правительством за подъём продуктивности сельхозугодий СССР в короткие сроки. И проблему он действительно решил: поднял урожайность на 65% за период с 1947 по 1955 год. Вавилов же считал эту задачу невыполнимой. Мухин также пишет, что когда Лысенко уволили, урожайность опять снизилась, то есть она выросла лишь на 10% за период с 1958 по 1965 год, поэтому Н.С. Хрущёв был вынужден вернуть его на прежнее место хоть и не надолго. Лысенко, кстати, выступил против увлечения генсека кукурузой, так как мало подстраивался под власть имущих. Лысенко был также против освоения целины и предлагал деньги, предназначенные для этого, вложить в традиционные хлебные российские районы, в улучшение их земель, а целину предлагал оставить для скотоводов до лучших времён, когда появятся соответствующие агротехнические приёмы земледелия. Покорителям целины он предрекал эрозию почв и песчаные бури, что затем подтвердилось. Что касается выступлений против генетики, то Лысенко опасался её использования в политических целях, превращения в служанку ведомства Геббельса, что и произошло в Германии. А от теоретиков-биологов он требовал личного участия в создании советского хлеба, хотя они давали ему лишь отчёты о размножении мухи дрозофилы.
Кстати, книга «Русская евгеника. Сборник оригинальных работ русских учёных (хрестоматия) под общей редакцией В.Б. Авдеева» содержит немало подтверждений тому, что безоговорочное следование тому или иному принципу без поиска баланса с принципом противоположным, может завести далеко и разрушить целостность любого явления. Речь идёт, прежде всего, о соотношении генетических и социальных регуляторов жизни отдельных людей, народов и общества. В этом сборнике мы найдём рассуждения учёных о разумном подборе супружеских пар («рациональном бракосочетании»), об общественном контроле за отягчённой наследственностью, о регламентации деторождения с целью избежать вырождения того или иного народа или всего человечества путём принудительной стерилизацией, о путях выведения сверхчеловека (то есть более приспособленного к условиям существования индивида), о формировании многонационального генофонда нации и искусственном осеменении; о генетическом социализме и коммунизме на евгенической основе (кстати, И.В. Сталин не ответил на письмо Г.Г. Мёллера с подобным предложением и был очень им раздражён), о скрещивании человека и обезьяны, о попытках вывести недочеловеков. Советскими учёными отмечалось, что «война является фактором, стимулирующим процессы расового вырождения», так как она осуществляет отбор в пользу менее культурных (идея классика советской антропологии В.В. Бунака). В 1930 годах в сфере генетики советские учёные сотрудничали с немецкими учёными из Третьего Рейха. Работы В.И. Вавилова и Н.Н. Кольцова регулярно печатались в англоязычных и немецких евгенических изданиях «с лестными откликами». В.Б. Авдеев отмечает, что «евгенические тенденции были присущи человеческим сообществам на всех стадиях существования». Как, наверное, и гуманистическое стремление сохранять жизнь всем инвалидам и преступникам (то есть тоталитарное, одномерное мышление всегда на службе и у политики, и у науки). Большое разнообразие научных течений и идей, свойственное начальному периоду Советской власти не только в генетике, но и в других сферах жизни, затем сменилось резкой нетерпимостью к инакомыслию на основе обострения «классовой борьбы» (кстати, она, как проявление дуалистического мышления, также существовала во все времена), усиленной во многом и сложной международной политикой, геополитическими притязаниями западных стран.
Мухин утверждает также, что Вавилов был арестован в 1940 году не за генетику, а как один из руководителей «Крестьянской партии», которая в своё время активно призывала Запад к интервенции в СССР. Более того, в 1948 году погром генетики осуществлялся во многом самими генетиками, а Лысенко был лишь врагом «чистых» учёных и «классической» генетики, которая отрицала вообще изменчивость генов, их зависимость от внешней среды. А Лысенко и Мичурин считали, что гены меняются под влиянием внешней среды чаще и направленнее, чем полагали классические генетики. Другим спорным вопросом был вопрос о сосредоточении наследственности в генах. Классические генетики приписывали эти свойства только хромосомам, а «лысенковцы» считали, что наследственные признаки передаются и без хромосом. И современная молекулярная генетика подтвердила выводы последних. За доказательство утверждения, что наследственные изменения носят приспособительный и направленный характер, американка Барбара Макклинтон в 1983 году получила Нобелевскую премию, а Лысенко продолжают и сейчас считать только невеждой. Кстати, и Вавилов не отрицал изменчивости генов. Но спор Вавилова и Лысенко не закончен. Если миру грозит голод и угроза вырождения зерновых и других растительных культур, то уникальная коллекция зерновых культур, собранная под руководством Вавилова, может способствовать выживанию всего человечества. Эту коллекцию не съели даже в блокадном Ленинграде, где были случаи поедания людей и собственных детей! Это ещё одно доказательство, что духовные потребности могут быть сильнее физиологических, в частности, голода.
Длинная история спора Лысенко и Вавилова хорошо иллюстрирует многослойность истины и сомнительность любой однозначной расшифровки событий. Кстати, не только Вавилова, но и позднее Лысенко погубила одномерность, тоталитарность мышления того времени. Любого человека тогда запросто оценивали по одному (считавшимся главным) признаку и объявляли однозначно либо «плохим», либо «хорошим», поэтому легко было стать «врагом народа» лишь на основании отдельного факта биографии или даже высказывания.
Можно привести и другие примеры из истории науки, техники, философии, когда судьба учёного или интеллектуального подвижника оценивалась лишь по единственному, главенствующему в данное время, в определённой среде критерию, который становился решающим (то есть на основе тоталитарного мышления). То же самое происходит и в процессе развития науки и общества в целом. То есть, по сути, логика развития науки и общества на современном этапе не способна изначально исходить из заведомо более совершенного, целостного восприятия реальности, совмещающего не только противоположности, но и их оттенки. Подобная логика даже не диалектична; она лишь дихотомична, поскольку основана на принципе «или-или». Автор рассматривает в своих книгах подходы к «Спектральной логике», которая, возможно, открывает новую парадигму не только в мышлении, но и в науке на основе «картины мира» с более сложным и системным описанием реальности, чем сейчас принято. (Об этом подробнее скажем в разделах 5 и 6 нашей книги).
А пока мы вынуждены изучать борьбу противоположных идей в процессе развития науки и техники, выразителями которых являются конкретные учёные и подвижники со сложными судьбами, если не изгоев, отверженных и «возмутителей спокойствия», то - первопроходцев и новаторов. Примеры можно найти в книгах: «Сеятели и хранители. Очерки об известных агрономах, почвоведах, селекционерах, генетиках…», «От махин до роботов. Очерки о знаменитых изобретателях», «Биографии великих химиков», В. Штрубе «Пути развития химии» и в других.
Самым распространённым обвинением своих идейных противников в науке, как и в культуре, в религии, является обвинение в «лженаучности» или в ереси. Обвиняющие, судьи, чаще всего, принадлежат к главенствующей парадигме знаний и представлений о мире, которая принимается ими за абсолютную и единственно правильную. Они принадлежат к числу общепризнанных авторитетов или власть предержащих, что позволяет им, подобно Сталину, прервать слова выступавшего учёного Н.И. Вавилова репликой: «Это вы, профессора, так думаете. Мы, большевики, думаем иначе» (сборник «Сеятели и хранители. Очерки об известных агрономах, почвоведах, селекционерах, генетиках», стр. 413). Само по себе это замечание, если бы оно произносилось в порядке научного спора или обмена мнениями, несмотря на свою резкость, не содержит угрозы, но, будучи произнесено столь облечённым высшей властью лицом, да ещё и в присутствии коллег и авторитетных людей, невольно вело к гонениям и даже представляло угрозу для жизни. И причиной этому являлось не только дуалистическое мышление, основанное на незыблемости идеи классовой борьбы самого Сталина, но и неготовность большинства его современников воспринимать неоднородность единого пространства жизни, понимать извечную многоукладность общественной жизни. В условиях доминирования между людьми отношений вражды по тому или иному параметру жизнедеятельности новатор часто превращается во «врага народа», становится «козлом отпущения» для власти. Даже такая глыба, как авиаконструктор Андрей Туполев, был осуждён в СССР за антисоветскую деятельность. Но в условиях тюрьмы он создаёт бомбардировщик ТУ-2, ставший лучшим в период Второй мировой войны. Этот уникальный человек, хотя и ненавидел обстоятельства несвободы, говорил, что «любить надо ту Родину, которая есть». Несмотря на туберкулёз и огромные перегрузки, он прожил 84 года, был прекрасным семьянином.
Выдающийся российский психолог А.В. Петровский в книге «Психология и время» привёл характеристики основных направлений и отечественных школ психологии (естественно-научное направление шло от Сеченова к Павлову, Бехтереву, Вагнеру, Ухтомскому, Бернштейну и другим; религиозно-философское направление представлено именами Владимира Соловьёва, С. и Е. Трубецкими, Л.М. Лопатиным; эмпирическая психология сложилась на базе Психологического института имени Л.Г. Щукиной при профессоре Г.И. Челпанове). К сожалению, излишнее увлечение материализмом, который связывали во многом с марксизмом-ленинизмом и учением физиолога Павлова, привело к перекосам в развитии психологии и гонениям на многих талантливых, самобытных психологов. От обвинений психологии в идеализме справа и от захвата её слева – механистическим представлениями, предельно упрощающими психическую жизнь человека, спас во многом профессор К.Н. Корнилов. Особенно тяжёлым был период в 1936 году после Постановления ЦК ВКП (б) «О педологических извращениях в системе Наркомпросов». Психология попала в «застенок». «Смертный приговор» фактически был подписан психологии труда, инженерной психологии и многим другим прикладным отраслям науки. Особенно досталось педологии – науке о детях. При этом «некоторые идеи, идущие от марксизма, были в достаточной мере продуктивны. Прежде всего, ориентировка на оценку развития сознания человека с учётом социально-экономических обстоятельств, в которых он находится». Но изучать наследственность при этом не разрешалось. А.В. Петровский отмечает: «Разгром педологии фактически свёл на нет права психологов «заглядывать в душу ребёнка». А ведь у молодёжи всегда были психологические проблемы и страсть к самопознанию. Излишнее увлечение учением Павлова привело к фактической замене психологии физиологией высшей нервной деятельности. Тем не менее, сам И.П. Павлов был верующим человеком, посещал службы в Казанском соборе, писал обличительные письма В.М. Молотову и наркому Г.Н. Каминскому. В письме от 10 октября 1934 года Каминскому 85-летний учёный Павлов признавался: «…К сожалению, я чувствую себя по отношению к нашей революции почти противоположное вам. В вас, увлечённого некоторыми, действительно огромными положительными достижениями её, она «вселяет бодрость чудесным движением вперёд нашей Родины», меня же она, наоборот, очень тревожит, наполняет сомнениями.
Думаете ли вы достаточно о том, что многолетний террор и безудержное своеволие власти превращает нашу и без того довольно азиатскую натуру в позорно-рабскую?...А много ли можно сделать хорошего с рабами? Пирамиды? Да; но не общее истинное человеческое счастье…»
А.В. Петровский пишет: «Я придумал своего рода градацию науки в годы советской власти. По первой категории проходили «репрессированные науки». Например, педология, евгеника, генетика. По второй – науки-«лишенцы»…К этой категории могли быть отнесены психология, отчасти кибернетика, психосоматика….Третья категория – идеологизированные и потому подконтрольные в своих проявлениях, часто фальсифицированные – история, литературоведение, политэкономия, правоведение и другие. И, наконец, четвёртая категория – относительно счастливая: математика, физика, геология, астрономия, химия и т.д.» Поэтому «страшновато было читать в архиве института протоколы заседания кафедры, на котором изобличали Рубинштейна во «фрейдистских извращениях». Старый психолог был изгнан из института, ослеп и вскоре умер».
В 1938 году в тюрьме НКВД оказался будущий профессор психологии М.Г. Ярошевский (по абсурдному обвинению в попытке взорвать Дворцовый мост, убить вождя ленинградских большевиков А.А. Жданова). «Почти полтора месяца он пролежал на цементном полу камеры в «Крестах» рядом с Львом Николаевичем Гумилёвым», - пишет А.В. Петровский.
А.В. Петровский сообщает о судьбе уникального изобретателя Л.С. Термена (родился в 1896 году). Кроме изобретения уникального музыкального инструмента термневокса (его звучание рождалось бесконтактным способом путём движения ладоней), он ещё в 20-е годы сконструировал телевизор, а, вернувшись в 1938 году из США и попав по этапу в Магадан, изобрёл беспилотный самолёт. Вышел на волю лишь в 1947 году. Выбить комнату уникальному изобретателю удалось лишь с помощью знаменитой лётчицы В.С. Гризадубовой. (Кстати, Термен с успехом в 1922 году продемонстрировал свой музыкальный инструмент Ленину, который исполнил на нём «Жаворонка» Глинки почти самостоятельно).
Известный психотерапевт, основатель позитивной психотерапии Вильгельм Райх пытался примирить психоанализ и марксизм, но его идеологические взгляды стали неприемлемыми для психоаналитиков. Поэтому в 1934 году он был исключён из интернациональной Психоаналитической ассоциации, а ещё раньше, в 1932 году, - из Германской коммунистической партии (за его преобразования в сфере сексуальной гигиены и создание кружков для рабочих по половому воспитанию). Он был изгнан также из трёх стран.
Термин «лженаучности» в наши дни прочно закреплён за астрологией, хотя, как отмечает В.К. Кузаков в статье «Астрология сквозь призму историографии истории астрономии», «астрология есть историко-культурная реалия, но, вероятно, ещё более она играла роль фактора, приёма, снимавшего психологическое напряжение, в иных конкретных условиях достигавшего максимума» (сборник «Естественно-научные представления Древней Руси», с 282). Более того, все астрономы прошлого были астрологами, да и современные критерии «научности» (при их спорности самих по себе) вряд ли можно применять к оценке способов и методов получения знания в древности и в средние века.
Как утверждает в цикле статей о полях дальнодействия кандидат физико-математических наук С.А. Васильев, «наблюдается воздействие планет на земные движения при недостаточности для этого энергии воздействия.…Эти поля дальнодействия не экранируются ни стенами лаборатории, ни телами экспериментаторов, ни планетой Земля, ни металлическим корпусом автомобиля…Эти поля, судя по всему, имеют отношение к астрологии» (сборник материалов ХV1 научного семинара «Система «Планета Земля» (Нетрадиционные вопросы геологии)», геологический факультет МГУ, М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2008 год).
Польский психиатр Антон Кемпинский отмечает в работе «Экзистенциональная психиатрия»: «Не существует бреда, который можно было бы назвать чистым бредом. Каждая созданная человеком модель окружающей действительности является хотя бы тенью правды, хотя бы и была минимально правдоподобной».
Я убеждена, что при сравнении, оценке тех или иных жизненных позиций и научных идей надо, по возможности, учитывать «мишень наблюдателя», то есть широту, глубину знаний и мотивацию автора тех или иных идей и даже отдельных высказываний. (Кто и как должен это делать – отдельный разговор). Ведь любая интеллектуальная деятельность, как и научное, культурное подвижничество, всегда связана с личной инициативой конкретного человека. Поскольку инициатива - это желание и способность человека проявлять самостоятельность и свободу мыслей и действий, то она направляется хотя бы одной мотивацией из основного их спектра, то есть: 1) внутренней нуждой, 2) внешним принуждением, страхом, 3) стремлением к определённым благам, благополучию, 4) стремлением сэкономить собственную жизненную энергию и силы за счёт других людей или природы (часто проявляется как выгода, корысть, стремление к власти), 5) общественной пользой, долгом, стремлением быть значимым и нужным, 6) стремлением к развитию, изменению, творчеству, 7) сочувствием, жертвой ради других (даже иногда по отношению к вредным и бесполезным людям, их поступкам).
Опыт показывает, что большинство людей проявляет инициативу, как и способность к деятельности, чаще всего, в условиях крайней нужды, беспокойства и из страха, либо стремясь к каким-то благам и удовольствиям.
Настоящий подвижник и новатор, хотя и может совершать действия по принуждению и из страха, думать о богатстве и власти, испытывать нужду и материальные затруднения, направляется, в большей степени, стремлением к поиску нового и истины.
Кто-то сказал, что «лень движет научно-техническим прогрессом», но лень при этом невольно «задвигает» развитие самого человека, перекрывает ему дорогу в будущее, так как для приумножения своих жизненных сил и энергии не достаточно их беречь, накапливать! Надо уметь эту энергию правильно использовать и извлекать из всего, что невозможно делать лишь за счёт совершенствования инструментария, а возможно путём больших усилий по самоорганизации, личным трудом на пути развития. Развитие же предполагает возвышение потребностей и мотиваций деятельности, что означает всё более автономное (в смысле потребления ресурсов) существование и совершенствование организации системы путём переработки внешнего и внутреннего беспорядка, хаоса в «космос» или порядок.
Парадоксально, но способность к развитию и самоорганизации предполагает добровольный отказ от накопленных материальных преимуществ в пользу преимуществ духовных, которые как раз и означают умение обходиться в материальном плане малым, то есть вести всё более природосообразную жизнь. По большому счёту альтруизм при этом оказывается выгоднее эгоизма (!), так как, тратя и отдавая накопленное, человек выходит на другой виток спирали своего развития. Утрата способности к бескорыстному дарению, как и стремления делиться своими благами, горестями и радостями, мыслями, - признаки нравственной болезни человека, которая обедняет жизнь. Недаром мы любим больше всего своих родителей и детей, иногда своего единственного партнёра, - ведь бескорыстие нашей и их ответной любви придаёт жизни высший смысл, который мы теряем с утратой самых близких.
Но в основе альтруизма лежит, несомненно, не только благое желание и естественное стремление помогать другим, соответствующая мотивация к самопожертвованию, но и наличие свободного запаса энергии, которым человек располагает. Если индивид слишком занят своими проблемами, находится в стрессе, мало спит, плохо и неправильно питается, недостаточно организован, то свободной энергии, как и свободного времени, у него почти нет, поэтому он мало способен и на благородные поступки по отношению к другим.
Объём свободного запаса энергии (т.е. «адаптационный резерв») обусловлен не только наследственными факторами и качеством окружающей природной среды. Он зависит от психической установки человека, системы образования, культуры, так как «связать» и потратить любой запас энергии на пустяки, опираясь на расхожую рекламу, либо призывы родных и близких, собственные прихоти и привязанности, всегда просто, как легко и любые деньги потратить в игорном доме.
Новатор несёт в себе определённый импульс к тем или иным социальным изменениям, свободный запас энергии и воли, иногда высокий потенциал знания о мире, невостребованной информации. Но всё это личное и внутреннее богатство новатора нуждается в организации и может быть использовано как для добра, так и во зло. Поэтому, хотя «новатор - основная движущая сила общества» (выражение философа М. Байкова), движение может быть направлено в разные стороны и к разным целям.
Используя подход историка Л.Н.Гумилева, социального новатора можно считать «пассионарием», человеком страстным, одержимым стремлением к социальным изменениям, то есть к вольному или невольному, сознательному или бессознательному разрушению сложившихся привычек, традиций, стереотипов сознания и образа жизни.
Феномен новатора изучен недостаточно, но с уверенностью можно сказать, что социальный новатор - выразитель идей своего времени и окружения, носитель и индикатор социальных проблем и болевых точек общества. Но человечество лишь подходит к раскрытию, исследованию, а не сокрытию болевых точек развития, вооружая, тем самым, себя механизмом упреждения общественного развития, опережающего отражения действительности. И в этом смысле, новатор - живой носитель опережающего отражения действительности, чутьё и опыт которого необходимо использовать при прогнозировании социально-политического развития общества.
В настоящее же время большинство политических сил при взаимодействии с инициативными людьми руководствуются принципом «нет человека - нет проблемы», хотя проблемы, на самом деле, всё равно остаются, как остаются циркулировать в ноосфере Земли и разнообразные идеи и новации.
Социальный эффект от работы с новаторами заключается не только в своевременном внедрении их идей, что позволяет вовремя избегать социальных потрясений и уменьшает социальную напряжённость, но и в том, что конструктивное содействие новатору способствует его личной самоорганизации. Социальный новатор, который не находит понимания и поддержки как в ближайшем своём окружении, так и в обществе в целом, может нести в себе огромный заряд разрушения и агрессии, что хорошо иллюстрируется проблемами одарённых детей и пассионарных людей.
В новаторе, как в фокусе, сконцентрирована потребность к новому и изменению самого себя и окружающего мира, и эта потребность бессознательно ищет себе выхода. Сублимировать, трансформировать, направлять и изменять эту потребность изначально, от природы, умеет не каждый новатор, поэтому проблема организации народной инициативы и движения новаторов упирается, прежде всего, в проблему образования и саморегуляции.
Экономический эффект от новаторства оспаривать никто не станет. В современном мире без социального прогноза, как и без внедрения новых идей, прожить невозможно, как невозможно без этого получить прибыль и извлечь выгоду. Но сегодня экономика особенно прочно сомкнулась с экологией и политикой, поэтому на внедрении новаций и торговле «ноу-хау» можно делать не только деньги, но и успешную политику. Тот, кто владеет знанием, владеет и ситуацией, контролирует её, поэтому смело можно говорить о политическом эффекте от новаторства.
Новое знание позволяет не только открывать новые ресурсы развития, но и превращать отходы в доходы. Настоящее знание, с которым нельзя путать эрудированность и информированность, невольно трансформирует и преображает природу его носителя, меняя структуру его потребностей и мотиваций.
И хотя новация и новатор для общества - источники новой информации, нового знания, необходимо учитывать, что в ряде случаев новация - это вовсе не новое, а хорошо забытое старое, либо «чужое», заимствованное у соседа.
Новатор, по-настоящему владеющий новым знанием и обладающий большим, чем окружающие, свободным запасом жизненной энергии, сам редко стремится к власти или привилегиям, пренебрегая даже элементарными человеческими благами, живя отчасти вне реального времени-пространства, - своей внутренней напряжённой жизнью. Не преследуя ярко выраженной экономической и политической цели сам, он иногда становится инструментом в руках других людей, которые используют его в своих узких или корыстных целях.
Но то, что выгодно или полезно одним людям, то убыточно и даже вредно другим, поэтому построение баланса интересов между отдельными людьми и группами, социальными слоями населения, - задача властных структур и политиков всех уровней, если они хотят, как минимум, прийти к власти, или, как максимум, построить общество большего благоденствия. И организовать такой баланс, как и разработать модель устойчивого развития, могут помочь социальные новации и новаторы, которые владеют опережающим отражением действительности, знанием о проблемах и тупиках развития человечества в целом. На основе мониторинга новаций можно сформировать механизм отрицательной обратной связи для обеспечения более устойчивого развития общества.
Хотя социальный новатор - не враг своего времени или окружения, а лишь выразитель их проблем и болевых точек, отношение к нему общества никогда не бывает однозначным и доброжелательным. Ведь новаторы – это всегда чудаки, которые берут на себя смелость стать первопроходцами, нарушителями сложившегося консенсуса, возмутителями спокойствия и согласия, за что они зачастую провозглашаются еретиками, изгоями или просто становятся бродягами и бомжами. Как скачкообразное, революционное, так и плавное, эволюционное, движение вперёд, осуществляется во многом за счёт технических и гуманитарных профессиональных нововведений. Но, наверное, самые радикальные и смелые новации почти всегда создают «непрофессионалы», так как это требует уникального сплава разнообразных знаний и навыков, сочетания узкого профессионализма с «дилетантизмом» и широким кругозором, эрудицией; сочетания рационального ума с пламенным воображением.
Новатор, тем более, социальный, почти всегда, - критик, отклонение от нормы, возмутитель спокойствия, который может создавать информационные перегрузки и проблемы не только чиновникам и власть предержащим, но и своим ближним. Новатор и творческий человек – психологическая и даже материальная нагрузка на общество людей традиционных и консервативных, поэтому соотношение людей творческих и обычных никогда не бывает в пользу первых. Даже не стремясь выделяться, новатор заметен и самобытен. А большинство людей раздражает любая «инаковость» сама по себе. Такое неприятие связано не только с информационными перегрузками и нелёгким характером новатора, но и с тем, что у обычного человека свободного запаса энергии значительно меньше, чем у новатора. Энергия, к тому же, бывает сконцентрирована, сосредоточена в определённом направлении, либо распределена привычным образом, поэтому обычный человек не всегда готов тратить свои силы и время на взаимодействие с новатором. Ведь с собой новатор приносит не только новые идеи и ценные предложения, но и проблемы, первая из которых заключается в том: «Что с этими идеями делать?»
Кроме того, отличить новатора от просто сумасшедшего бывает трудно не только с первого взгляда, а для большинства новаций необходима специальная экспертиза как узких профессионалов (они часто дают отрицательную оценку), так и людей с широким кругозором. Хотя наличие некоторых психических отклонений в личности новатора само по себе ещё ничего не говорит о качестве его идей, их истинности или ошибочности, психологические особенности личности новатора часто мешают как благоприятному общению с другими людьми, так и внедрению самих идей. Поэтому от новатора легче всего отмахнуться, не вступая с ним в диалог, либо просто послать его подальше. В лучшем случае новатора выслушивают и дают ему дружеский совет, положив его идею «под сукно». Как считал академик В.И. Вернадский, отличить гения от еретика не дано современникам. Но зато им всегда удаётся, руководствуясь узким здравым смыслом, судить о «чудаках» и социальных новаторах, замалчивая их открытия или глумясь над ними. Поэтому наиболее настырных и инициативных новаторов раньше отправляли на костёр, их часто сажали в тюрьмы и сумасшедшие дома, уничтожали морально и физически. Но такова человеческая природа восприятия всего нового и необычного, таков уровень развития общественных отношений, не позволяющие энергию новаторов направить в нужное русло.
Подобно тому, как лишь ничтожная часть человеческих сперматозоидов зарождает новую жизнь, большинство идей, приходящих в головы людей, никогда не смогут и, возможно, даже не должны реализоваться! Более того, на Востоке, в отличие от Запада, всегда существовала альтернатива стратегии реализации идеи, - «воздержание» от неё, которая выражалась в организации не столько внешнего, сколько внутреннего мира человека.
Известный математик и исследователь изменённых состояний сознания, переживший репрессии, Василий Васильевич Налимов, анализируя развитие науки как системы, в книге «Облик науки» пишет о неизбежном существовании парадигм («парадигма – это стабилизирующий отбор»), то есть доминирующих подходов к оценке знаний, труда учёных на разных этапах развития науки. Ведь «наука – каждый этап её развития – задаётся определённым набором разрешённых вопросов. Легко привести примеры безусловно запрещённых, хотя логически правомерных вопросов…типа: зачем существует закон Ома,…почему и зачем возникли законы природы, зачем существует мир, в чём смысл мира». Даже различие в культурах, считает В.В. Налимов, - «это, прежде всего, различие в разрешённых вопросах». Он подкрепляет это ссылкой на разговор Понтия Пилата с Христом. Если Понтий Пилат (человек эллинской культуры) мог начать беседу с вопроса, что есть истина, то для Иисуса Христа, как представителя другой культуры, этот вопрос был запрещён.
О реальном соотношении традиций и новаций в науке во многом говорит комментарий В.В. Налимовым высказывания Н.Винера о том, что, вероятно, 95% оригинальных работ в математике написаны 5% учёных, но большая их часть не была бы написана, если бы остальные 95% не содействовали созданию высокого критического уровня. В.В. Налимов отмечает: «В науке недостаточно выдвинуть новую идею – надо суметь ещё преодолеть барьер интеллектуального поля, препятствующего её признанию».
Отрицательная реакция на нововведения и личность новатора связана во многом с особенностями психического восприятия человеком окружающего мира. Человек способен осознавать, в основном, лишь информацию из зоны своего ближайшего развития. Но, несмотря на сложность восприятия новаторства, во все времена и у всех народов были свои способы добычи нетрадиционного мнения и свежего взгляда на вещи. На Руси, например, существовали скоморохи, «дураки» и святые юродивые, которые имели право открыто высказывать своё мнение даже представителям высшей власти. Всем известна роль придворных шутов, как на Востоке, так и на Западе (например, при Испанском дворе в ХУ1-ХУП вв.). Сказки всех народов изобилуют простоватыми героями, побеждающими всех и вся, а монаршее доверие Григорию Распутину, как и народное увлечение Анатолием Кашперовским, - вовсе не прихоть, а потребность людей в новизне и чуде.
Поиск или формирование благоприятной социальной среды для восприятия той или иной новации - кропотливая и многоаспектная работа, связанная не только с организацией внедрения новации, но и с созданием условий для выживания самого носителя идеи, так как новатор не может нормально существовать и, тем более, развиваться, в условиях социального вакуума, который иногда убивает быстрее откровенной вражды и преследования. Резко отрицательное отношение к новациям, подавление народной инициативы и творчества бывает связано не только с психологией восприятия новаций, но и с наличием реальной угрозы утраты благополучия или даже самого существования противников новатора и новаций. Такая угроза, вольно или невольно, возникает со стороны новатора, как носителя альтернативной или конкурирующей идеи по отношению к существующей научной и политической парадигме. Внедрение, например, новых источников энергии или психологической установки на сбережение природных ресурсов и ограничение материального потребления, может быть негативно воспринято людьми, работающими в нефтяной и газовой отрасли, или теми, чьё благополучие зависит лишь от расширения объёмов потребления и торговли. Внедрение системы здорового или вегетарианского питания, например, может «перекрыть кислород» производителям искусственных или мясных продуктов, не желающих менять свой привычный образ жизни. Социальные новации «левой» части спектра (типа социалистических или коммунистических идей) мешают представителям капитала и финансистам зарабатывать большие деньги, править миром безраздельно. Поборники народной медицины и естественного образа жизни с трудом находят понимание, высмеиваются в среде профессиональных врачей и чиновников здравоохранения, хотя чудесные исцеления и эффект «плацебо» никто не отменял. Богоискательство вне церковной и конфессиональной практики не поощряется ни одной религией… Изменяться, развиваться всегда трудно и даже больно!
Добровольный отказ от накопленных преимуществ или возвышение потребностей и мотиваций, как условие эволюционного, а не революционного развития общества, и механизм снятия противоречий между власть предержащими и обделёнными ею, пока мало кому понятен и доступен в нашем обществе. Добровольное введение больших изменений практикуется некоторыми американскими и японскими фирмами, но охватывает, в основном, производственную сферу и почти не ставит под сомнение такие человеческие мотивы, как стремление к благам и выгоде, успеху, абсолютизируя их. Процесс же развития общества диктует необходимость работать на всём спектре человеческих мотиваций, что в рамках капиталистической, рыночной формации, основанной на получении прибыли, расширении потребления и производства, осуществить почти невозможно. В этих условиях затруднительно и принципиально иное (равноправное) отношение к природе, при котором она не рассматривается лишь как безгласный ресурс и средство удовлетворения безграничных потребностей человечества. Внедрение же социальных новаций, призванных изменить общественные отношения и парадигму управления природой и обществом на «ноосферную», то есть разумную и природосообразную, затруднено стремлением некоторых социальных структур сохранить накопленные преимущества любой ценой.
Но неизбежность развития, как условие сохранения жизни и выживания, на наш взгляд, заставит всё же по-новому взглянуть на проблему производства и распределения, потребление материальных, социальных и духовных благ. При этом хотелось бы, чтобы переход к новой парадигме управления природой и обществом произошёл наиболее плавно, сознательно и с наименьшими жертвами.
Можно остановиться также на трансцендентном аспекте новаторства, усматривая в нём не только творческую одержимость, которую никогда не поощряла церковь и жрецы всех времён и народов, видя в ней не столько угрозу свой власти и покушение на владение знанием и истиной в последней инстанции, сколько - путь разрушения внутренней гармонии и целостности личности. К сожалению, почти любое творчество делает человека во многом равнодушным к полноте жизни, глухим к широкому спектру проявлений человеческой натуры. С другой стороны, интуитивно каждый нормальный человек, избегающий в жизни крайностей, сторонится фанатиков и одержимых одной идеей людей. Очень мало и родителей, матерей, которые хотели бы на самом деле иметь творчески одарённых детей, если эта одарённость не вписывается в нынешнюю парадигму общественного мнения.
Трансцендентный, т.е. запредельный и недоступный пониманию аспект новаций, связан с тем, что все они принадлежат если не Богу, то ноосфере (сфере разума) и являются поэтому, своего рода, кирпичиками единого времени-пространства земной жизни, циркулируя в нём по определённым, до конца не осознаваемым, законам. Идеи, как известно, не умирают совсем, но и не побеждают навеки и окончательно. Скорее всего, они проходят определённые циклы развития, а их популярность и значимость зависят не столько от нашего умения их внедрять и силы самих идей, но и от текущего этапа развития природы и общества, который они высвечивают.
Кроме того, то или иное открытие со временем может превратиться в «расхожую истину», да и приходит оно иногда одновременно в головы разных людей. И.Р. Шафаревич отмечает: «История математики знает очень много примеров того, что открытие, сделанное одним учёным, остаётся неизвестным, а позже с поразительной точностью воспроизводится другим. В письме, написанном ночью перед дуэлью, окончившейся его гибелью, Галуа высказал несколько утверждений исключительной важности об интегралах алгебраических функций. Более чем двадцать лет спустя, Риман, который безусловно не знал о письме Галуа, вновь нашёл и доказал в точности те же утверждения». Шафаревич приводит и другие примеры совпадений и предполагает, что математика, да и наука в целом, может иметь какую-то единую цель. Поэтому основную проблему нашей эпохи видит в том, чтобы «Обрести высшую религиозную цель и смысл культурной деятельности человечества».
Чисто человеческий аспект отношения к новациям и новаторам заключается в том, что рядом с ними, как правило, нелегко, хотя иногда и очень интересно. Новаторов, по возможности, надо воспринимать такими, какие они есть. Как писал доктор технических наук, специалист по информационной культуре Г.Г. Воробьёв, «новатор не может работать по плану, потому что планы составляют для других на основе того, что предложит новатор. Новатор потому и новатор, что впереди него никого нет».
Надо также сказать и о правовом аспекте новаторства. Авторские права социального новатора в нашем обществе почти не охраняются. И дело не только в том, что новацию, как и рукопись, можно безнаказанно и легко украсть, но и в том, что они быстро стареют, так как даже самые пророческие из них становятся расхожими истинами. И тогда новатор, испытавший всю тяжесть мук творчества и противостояния социальной среде своего времени, становится неудачником, так как он утверждает лишь то, что теперь знают все! Новатор, не создавший себе имя, школу или предприятие, и, тем более, не опубликовавший свою идею большим тиражом, остаётся на задворках жизни.
Идея, новация последовательно должна пройти этапы: 1. Появление идеи. 2. Оформление, формализация идеи. 3. Оценка. 4. Обсуждение. 5. Адаптация новации к среде. 6. Вооружённость средствами реализации. 7. Реализация, внедрение. 8. Совершенствование новации и возникновение дочерних идей. Чаще всего, эти этапы, в той или иной степени переплетаются между собой, поэтому линейная логика процесса внедрения идей требует особых усилий и концентрации.
Никто иной, как именно сам новатор, лучше всех может продвигать свою идею, последовательно проходя при этом этапы внедренческого мастерства: 1. Носитель новой идеи («чудак»). 2. Изобретатель. 3.Проектант. 4. Агитатор и «имиджмейкер». 5. Менеджер, управляющий. 6. Руководитель или хозяин предприятия. 7. Предприниматель. 8. Социальный лидер.
Но большая часть новаторов не в состоянии продвинуться дальше этапа «носитель новой идеи» самостоятельно, не стремится хотя бы формализовать свою идею на должном уровне. Не обладая иногда навыками излагать идею понятно и интересно, в соответствии с требованиями конкретного адресата, новаторы остаются «чудаками», считая себя, порой, непонятыми окружающими. Некоторые из них всё же способны стать «изобретателями», получив авторское свидетельство или депонировав свою идею. Ещё меньшее число новаторов способны составить хороший бизнес-план, рассчитать социально-экономический эффект от внедрения своей идеи и оценить степень её жизнеспособности, соотнести с другими, предсказать область применения и границы использования.
На этапе овладения навыками агитатора формируется общественное мнение вокруг новатора и его идеи, которую начинают рекламировать уже и другие. Возникает спрос на идею. Но и это только начало, так как далее необходимо научиться вести своё собственное дело, освоив не только бухгалтерию и делопроизводство, правовые аспекты предпринимательства, но и специфику ведения деловых переговоров с заказчиками, изготовителями и возможными инвесторами. Ещё более сложным является маркетинг, то есть процесс выхода на рынки сбыта конечного продукта.
Таким образом, довести развитие новации до конца, до широкого внедрения, бывает очень трудно не только из-за отсутствия нужных материальных средств, нужной информации и деловых связей, но и из-за отсутствия должных социально-психологических навыков работы с людьми, необходимого запаса жизненной энергии и сил.
Вершиной мастерства социального новатора может стать достижение такого опыта и авторитета, когда он по необходимости или по призванию становится социальным лидером, организатором и руководителем целого направления в теории или на практике, имеет свою школу последователей (таким социальным лидером был, например, офтальмолог и руководитель политической партии Станислав Фёдоров).
Только самоорганизация самих новаторов может избавить их от социальной отчуждённости, помочь, как минимум, выжить путём кооперации с подобными себе людьми, а, как максимум, внедрить с успехом свою идею в жизнь. Чтобы оптимизировать деятельность новаторов, необходима их самоорганизация в форме социально-политического Движения. Но самоорганизация новаторов - дело нелёгкое и хлопотное. Новатор, как правило, плохо уживается с другими новаторами, редко интересуется чужими идеями, хотя у новаторов всегда есть общие проблемы и задачи, которые они совместно могли бы решать. Необходимая составляющая Движения новаторов - система самообразования, способная обучить не только азам внедренческой и финансово-хозяйственной деятельности, но и правовым, социально-психологическим навыкам. В краткий практический курс новаторства должен войти тренинг по организации своего дела, обучение навыкам здорового образа жизни, манерам поведения и техники речи, правилам формирования собственного образа (имиджа). В процессе развития новации происходит, с одной стороны, как бы рассеяние энергии новатора и новации в окружающей среде, а, с другой, идёт набор этой энергии за счёт контактов с соответствующими этапу развития новации людьми и организациями. То есть развитие новации – это активный и целенаправленный процесс обмена новатора со средой веществом, энергией и информацией, который можно изобразить в форме спирали (Приложение 1: Рис. 1).
Отмечая исторически и технологически обусловленное ускорение внедрения новшеств на всех уровнях жизни, футуролог Алвин Тоффлер в исследовании социальных и психических последствий «быстротечности» (книга «Футуршок»), признаёт неизбежность негативных последствий этого неизбежного (?!) процесса, пишет о необходимости «нового уровня приспособляемости», адаптации, без которых наступает «разрушительная болезнь – футуршок», шок от будущего.
Выдающийся мыслитель ХХ века Грегори Бейтсон отмечал: «новаторские правила могут привноситься только ценой активизации и, возможно, перенапряжения большого числа гомеостатических контуров в обществе» (сборник «Шаги в направлении экологии разума»). Вспомним индустриализацию и коллективизацию в СССР; достижения стахановцев, осуществлявшиеся с перенапряжением не только самих новаторов, но и всего общества. А разве достижения США или капиталы олигархов в современной России не куплены ценой унижения и обнищания многих людей, разрушения природной среды обитания? Это всё примеры господства линейной логики, когда узкая цель, выбранное кем-то направление «прогресса» вырывается из более широкого контекста бытия, без понимания его «оплаты»?
Мне кажется, что человек мало приспособлен к тотальным стремительным и кардинальным переменам. Тот, кто ищет перемен любой ценой, либо безрассуден, либо глупец, не знающий, что адаптационный резерв человека всегда ограничен, то есть он способен переносить лишь некоторый объём изменений в жизни. Ведь человек может существовать лишь в узком диапазоне температуры, давления и других природных условий. Большие и резкие колебания и изменения параметров внешней и внутренней среды для него губительны.
Большая часть жизненной энергии у человека связана, она «привязана» к определённым жизненным задачам и целям, программам, стереотипам, ориентирована на выживание. Свободного запаса энергии у обычного человека, как правило, мало, поэтому и на необходимость каких-либо (тем более, «безумных» и ненужных, непонятных ему) изменений он реагирует отрицательно.
Революции и катастрофы, природные и социальные встряски освобождают большой запас свободной энергии, так как разрушают уже сложившиеся связи. Всегда есть и будут люди, которые максимально несут собой те или иные изменения, «революции», перевороты. Им часто кажется, что они делают другим только благо. Иногда им представляется, что они всесильны, что они не такие, как все. При этом они с трудом переносят привычную для большинства людей среду, страдают от невозможности изменить её кардинально. Характер их душевной и интеллектуальной организации, понимание явлений жизни мало стыкуются с характером организации, пониманием мира окружающих людей, поэтому он представляется новацией, нарушает традицию. Тем не менее, такие люди - носители лишь определённого уровня организации, понимания, всегда ограниченного и конкретного изменения. Ведь любая встряска, революция когда-то завершается, поэтому большая часть освободившейся энергии снова связывается. Тем более что у человечества не только ограниченная способность принимать новое и любые изменения, но даже понять это в контексте Единого Пространства Жизни.
Кстати, вы не задумывались, зачем наши «олигархи» ездят в Европу? И отправляют туда на учёбу и жизнь своих любимых отпрысков и членов семьи? Думаю, что они едут туда за стабильностью, комфортом. В России же, на Родине, они настойчиво культивируют хаос и изменения в собственных интересах, благодаря которым часто и зарабатывают деньги. С этой же целью, как мне кажется, многие небогатые люди ездят на свои садовые участки или в деревню, так как работа на земле возвращает их к родовым истокам большинства человечества, стабилизирует психику.
Социальная и даже природная среда вокруг всех нас в России и во всём мире сейчас резко меняется. Наступило страшное и сложное для всех время перемени (не зря на Востоке говорят: «Не дай Вам Бог жить во время перемен»). Один из оригинальных новаторов современности, В.И. Плохов, связывает это во многом с вертикальными колебаниями Земли, Солнечной системы (сборник: Д.Б. Пюрвеев, В.П. Казначеев, А.Н. Дмитриев «Космопланетарная интеграция планеты»). Он составил «Хронологические таблицы», в которых приводит расчёты циклов подобных вертикальных колебаний, определяющих судьбы человечества – взлёты и падения цивилизаций, развитие и вымирание живых существ, планетарных катастроф и «вспышек» жизни. Но обычному человеку страшно даже думать о космических и планетарных изменениях, он боится самых обычных перемен.
Валентин Грибашёв, автор «Спектральной логики», когда-то перевёл мне с древнееврейского языка слово «ад» как «движение вперёд в пространстве места и времени», а слово «рай» он во многом ассоциировал с постоянством и созерцанием. В наше время, всеобщих и неконтролируемых большинством людей перемен, всё чаще люди станут мечтать о стабильности и надёжности. Ведь изменения, это – всегда стресс, «футуршок», они требуют огромного запаса жизненной энергии, «полюса стабильности» в общественной и личной жизни человека. Наверное, об этом надо серьёзно думать и писать. Надо учить людей быть мудрее и спокойнее, стабильнее. Нельзя стремиться к изменениям ради самих изменений; изменения даже в бытовой и, тем более, технической сфере, должны происходить с определённым смыслом. Они не должны быть тотальными. Надо понимать также двойственный, противоречивый характер любого изменения и невозможность «тотального прогресса». Развивая что-то, мы всегда что-то утрачиваем. За всё надо платить. И не столько деньгами, сколько самой жизнью. А полюс стабильности человек может создавать в себе самом и жизни лишь за счёт стремления к обретению «выcших ценностей»: духовности и любви. Оппонируя мысли Тоффлера о неизбежности тотальных изменений и добровольного приспособления к ним, хотелось бы отметить, что процесс приобщения к новациям, по возможности, должен стать социально и психологически управляемым, с учётом индивидуальной возможности каждого к трансформации «отрицательных» и «положительных» последствий. Ведь существует не только социальная реабилитация пострадавших от стресса, социально организованная компенсация неблагоприятных жизненных условий и обстоятельств, но и многочисленные духовные школы обретения равновесия и искусства отказа не только от излишеств в этой жизни, но и правильного выбора контактов с людьми, обстоятельствами и вещами.
К тому же грань между «нормой» и «патологией», как и взаимоотношение между традицией и новацией, их взаимодействие во времени и пространстве жизни человечества, бывает спорной и зыбкой. Природу этого явления мы отчасти уже рассмотрели в данном разделе. Этот вопрос не сводится только к толерантности как свойству человеческой психики, не увязан он лишь и с проблемой баланса изменений, развития и стабильности, выживания, самосохранения, как отдельного человека, так и всего рода человеческого. Ведь одно дело – проявлять терпимость на интеллектуальном уровне исследования того или иного проявления жизни, но совсем другое – соседствовать с ним на одной улице или в одном доме. Поэтому были и будут создатели новых научных и религиозных учений, будут и их ожесточённые критики. Как сделать процесс их взаимодействия менее кровопролитным и осмысленным – надо думать совместно и писать об этом отдельно.
1.4. Монашество и святость
«Царство Моё – не от мира сего»
Иисус Христос
«Состояние праведности имеет и политическое значение»
Патриарх РПЦ Кирилл
«Душа – форма Света. «Let bi light!»
В.П. Грибашёв
То, что было новацией и даже богохульством для иудеев, стало символом веры и Священным писанием для христианства; то, что представляет собой средство поклонения для христиан, противоречит канонам ислама. Каждая новая религия или идеология, чаще всего, противоречила прежней религии и боролась с ней. Да и «внутреннее пространство» любой религии всегда неоднородно, о чём иногда не догадываются её адепты, так как борьба с ересями внутри каждой религии и идеологии велась часто столь ожесточённо, а история этой борьбы тщательно скрывалась от народа, что лучше об этом не говорить! В наши задачи не входит исследовать борьбу идейных течений между собой, искать правых и виноватых в этом процессе, тем более что гонимые и гонители нередко менялись местами, а иные преданные адепты становились предателями, либо разочаровывались в прежней вере.
В данном разделе мы поставили цель рассмотреть, описать и сравнить основные методы, подходы и системы уединения, отшельничества, ухода от мира с целью достижения духовного совершенства, стяжания благодати, принятые в тех или иных Восточных и Западных религиозно-культурных традициях. Это описание не может быть исчерпывающим. Наша задача – привести лишь некоторые примеры подобной практики и подчеркнуть идею преемственности, сходства различных методов, их непрерывности в пространстве и времени существования человеческой цивилизации на планете Земля, постараться показать их эффективность и значимость для современных людей, даже далёких от духовных исканий.
Зададимся, прежде всего, вопросом, почему некоторые люди избирают духовный или предельно подвижнический путь жизни? Духовность не является синонимом подвижничества, хотя между ними и существует связь. Можно идти духовным путём без особого подвижничества; можно быть подвижником на вполне материальном пути созидания земных благ или на пути материнства; можно быть подвижником на пути революционной, политической или интеллектуальной деятельности. На пути духа, духовного творчества будем различать научное, интеллектуальное, эстетическое и религиозное подвижничество. В этом разделе мы рассмотрим религиозное подвижничество.
На наш взгляд, предпосылки духовных исканий, не обязательно ведущие к крайней форме проявления, подвижничеству, можно разделить на три группы: 1) имеющие основу в структуре самой личности (она задаётся не только генетикой и «натальной картой», гороскопом; связана с состоянием здоровья и телесности, преобладанием духовных потребностей данного человека над материальными и физиологическими); 2) имеющие основу в жизненных обстоятельствах человека (это и семейные традиции, пример, наличие духовного опыта у предков; это и образование, навыки, которые могут, как формировать мистический настрой, так и мешать любой практической деятельности в миру; это и сильные переживания, стрессы, жизненные потери и утраты, которые превращают обычную жизнь в бессмысленную; это и нужда, гонения, «властные разборки», которые заставляют отказаться от многого и уйти в уединение и монастырь); 3) сочетание внутренних и внешних факторов и обстоятельств.
Монашество, как и крайняя форма уединения, отшельничество, - традиционная форма достижения наиболее полного единения с Богом во всех религиях. Больше всего известных на Западе и в России исторических свидетельств о монашестве связано с иудаизмом и христианством, хотя уединение с целью достижения более совершенного состояния сознания и отрешения от мира в буддизме, индуизме, йоге и даосизме имеет куда более древнее происхождение, чем в христианстве или иудаизме. А степень развития духовности и аскетизма, известная в Индии, не достигалась, наверное, ни в одном другом регионе мира. За три тысячи лет религиозной жизни здесь засвидетельствовано очень мало «еретических» учений, хотя отход от ортодоксии Вед происходил постоянно. Современные индийские Махатмы утверждают, что древность йогических методик может исчисляться даже миллионами лет.
Исследователи различных религий (например, В.Н. Шутов) считают, что самой древней религией на Земле можно считать ведизм, для которого характерны положения: «Бог един и множественен»; пирамидальный, иерархический принцип организации мироздания, на вершине которого находится Космический Абсолют, Всевышний. Это система представлений об окружающем мире, в котором каждое явление наделено определённым символом-божеством, а добро и зло признаётся относительным. Присутствует идея трёх миров: триединый бог Триглав состоит из трёх ипостасей: Яви (вещественный материальный мир, «этот свет»), Нави (не проявленный мир, «тот свет») и Прави (управляющая, верховная, горняя часть бытия, система законов). В ведизме нет ада. Как констатирует В.Н. Шутов, сотворение мира представлено так: было «нечто Одно» (или Абсолют), на которое сошло «желание», породившее «семя мысли». Затем появились боги, различные миры и человек. В пантеон богов входят: Всевышний, Абсолют (во многом закрытый от сознания человека); Род, как первичное воплощение Всевышнего; Триглав; Сварог (творец земного мира); бог Солнца, Ра; Мать Сыра Земля, богиня Земли; богиня смерти Марена, Мара; Белобог и Чернобог; Сатана, как бог обмана, лжи; Перун (бог войны, грозы); покровитель Волхов, мудрецов Велес или Влас; Даждьбог; Баба-йога (Баба Яга) – волшебница леса, покровительница детей и многие другие боги.
Для ведизма характерна идея божественного происхождения древних ариев-русичей; душа после смерти после достойной жизни на земле направлялась на небо; существовала идея реинкарнации, перевоплощения; просьбы-молитвы были естественными; хотя и не было идеи ада, были «изгои», изгнанные из общества. Верховный Закон («rta») был закрыт для человека, но из него вытекали земные законы: иерархического разделения всего общества на четыре касты; понятия справедливости и равенства; законы рода (семья- ячейка общества, лучшие представители рода вступают в брак с лучшими, запрет на кровосмешение, изгнание из рода за злостные преступления); почитание религиозных символов и т.п.
П.В. Свиридов в книге «Миф эпохи Водолея» отмечает, что «славянское язычество хранило верования, что всё в природе живое и имеет душу (не только явления природы, но и любой объект: дом, поле, растения и т.п.), и душа способна воплощаться в другом обличье, в другой плоти...» Как следует из «Велесовой книги», «русы не считали себя творением Бога, они мыслили себя его потомками – «даждьбови внучи». То есть внуками Даждь-бога. То же сообщается в «Слове о полку Игореве». У древних славян-язычников была также сложная предсказательная система, которая использовала точные данные о движении планет. Некоторые авторы (Г.Э. Адамович), сообщает П.В. Свиридов, отмечают у славян знание о связи здоровья и продолжительности жизни с датой рождения в те или иные дни (фазы) Луны.
Такие религиозные течения, как индуизм и брахманизм во многом национальны и на временной шкале земных религий расположены между ведизмом и буддизмом, считает В.Н. Шутов. Основные их установки: признание ведических первоисточников в качестве священных книг; существование в обществе каст; признание нетленной души многократного перевоплощения; земные воплощения богов (аватары); признание важнейших богов: Брахмана (созидателя), Вишну (охранителя) и Шивы (разрушителя) (в брахманизме они объединены высшим творцом Ишварой). Пирамидальность, то есть иерархичность горнего мира выражена сильно. Высшей духовной субстанцией признаётся Брахман. Мир един (Мировая Душа является суммой отдельных душ). Существует тождество Брахмана и Атмана. Высшей целью жизни является достижение блаженства (уход от страданий), слияние личного «Я» с Атманом. Средства достижения: устранение неведения, отказ от многих страстей и влечений; нравственное очищение, самоограничение.
Кратко рассмотрим некоторые черты практики уединения на Востоке в связи с основными религиозными и философскими концепциями. Самыми древними и представительными из них являются санкхья и йога, хотя первую иногда считают атеистической системой и близкой более позднему течению индийской духовности, буддизму.
Основателем философской школы классической санкхьи считается древний индийский мудрец Капила, живший в V1 в. до н.э., написавший исходный трактат санкхьи – «Санкхья-сутра», содержание которого до нашего времени не дошло. Поэтому основным источником санкхьи-даршаны считается работа древнего индийского мудреца Ишваракришны. Слово «санхья» часто переводят с санскрита как «число», так как в ней идёт перечисление основных, базовых принципов мироустройства (их 25). Исходными понятиями санкхьи являются: Пуруша (духовная субстанция, чистое и пустое континуальное сознание, трансцендентный космический Зритель) и Пракрити (бессознательное активное начало, порождающее все материальные формы), которая проявляется через три гунны или силы: саттву (проявление-равновесие), раджас (движение-активность) и тамас (покой-пассивность). Смысл жизни человека по санкхье-даршане – освобождение духа от власти незнания (авидьи) и материи.
Слово «йога» обычно переводится как «соединение», «союз», «созерцание», «размышление», но оно означает также и «метод». У древнего индийского мудреца Патанджали термин «йога» означает «напряжённое усилие», направленное на разграничение в сознании человека Пуруши и Пракрити. Такое усилие даёт человеческому сознанию приобщение к своему высшему, трансцендентному Я – Мировому Духу, который Патанджали называет Пурушей, или «Зрителем». Классическая йога признаёт многомерность Вселенной. Время - это последовательное течение моментов, всеобщая иллюзия, так как существует лишь изменение материального бытия. Классическая йога даёт практику освобождения. Но в йоге освобождается Вселенское Сознание, Пуруша, а не человек. Оно освобождается от материальной зависимости, круговорота материального бытия, страданий через устранение аффектов сознания, через истинное знание. А причиной круговорота материального бытия является соединение духа и материи. Сама практика йоги была известна в кругах мистиков и аскетов Индии задолго до Патанджали, - в рамках санкхьи.
Мирче Элиаде в своём исследовании йоги отмечает существенные отличия санкхьи и йоги: санкхья атеистична, йога – теистична, так как постулирует существование высшего божества Ишвары; санкхья считает метафизическое знание (гносис) единственным путём к спасению, а йога придаёт огромное значение медитативным практикам и аскезе, то есть практике освобождения.
В отличие от религиозных представлений Запада, основанных на восточном христианстве, убогое положение человека в йоге – следствие не наказания свыше, первородного греха, а – неведения. Этика (наряду с философией и психотехникой) является важной составляющей йоги.
М. Элиаде пишет, что йоге в Индии предшествовали некоторые элементы сходной с ней религиозной практики: аскетические (тапас) и «экстатические». Предшествующая йоге история духовности Индии включает в себя смешение религиозных традиций индоевропейцев и аборигенов; их соединение, завершилось созданием индуизма (он во многом основан на авторитете Вед). Если индоевропейцы привнесли «религию Отца», патриархальную общественную структуру, скотоводство и культ богов неба и атмосферы, то доарийские аборигены знали уже земледелие и города и придерживались «религии Матери». Мирче Элиаде приписывает индоариям большую приверженность ритуалам и умозрению, а аборигенам он отводит тенденцию к полноте религиозного переживания и потребность в мистическом почитании личностных или локальных божеств.
Российский исследователь мудрости Востока, доктор философских наук С.Р. Аблеев в своём исследовании указывает, что уже в Ведах встречается упоминание о таких аспектах йоги, как: техника созерцания божественного света, гипнотический транс и экстаз; возможность развития сверхъестественных способностей («сиддхов») с помощью аскетической практики.
Традиционный опыт формирования человека в йоге подробно описывают восемь ступеней практической йоги, которые служат цели освобождения и подразделяются на ступени внешние и внутренние (подробнее об этом в разделе 3.1).
Буддизм. Основоположник - Будда Шакьямуни, выходец из привилегированных слоёв населения, кшатрий. Вопрос о страдании (прежде всего, это страдание от нестабильности, перемен), уход от него - суть буддизма. Причина страданий - в алчности, вражде и неведении, в основе которых лежат желания, победив которые, человек может улучшить личную карму и выйти из колеса перерождений. Высшее божество отсутствует (но есть многобожие); отрицается, по-видимому, и акт сотворения, как и наличие творца вселенной; отсутствует кастовость (это - религия равенства как пути к истине); присутствует жёсткая ритуальность. В социальном плане буддисту, как пишет В.Н.Шутов, присущи: социальная ответственность при пассивности, недеянии; слабое вмешательство в социальную, внешнюю жизнь; индивидуализм на пути самосовершенствования и самоограничения потребностей; сосредоточение на жизни внутренней; миролюбие; буддизму скорее свойственна доброжелательность, чем любовь, как приверженность, привязанность к чему-либо, кому-либо.
«Восьмеричный практический путь избавления от страданий» учения Будды – по сути, видоизменённая система восьми вспомогательных средств классической йоги. В учении Будды отмечают, прежде всего, этическую сторону, раскрываемую в Четырёх Благородных Истинах. Это: истина о страдании; об источниках страдания; об уничтожении страдания и о пути, ведущем к уничтожению страдания. Но существенным отличием от многих предшествующих учений Востока является динамический характер буддизма, то есть с аспекта «бытие» был сделан акцент на аспекте «становление», поскольку, пока мы презираем мир и стараемся уйти от него, мы его не преодолели и далеки от избавления от страданий. Будда, в отличие даже от санкхьи, вообще отказался постулировать существование Пуруши или Атмана. Он отрицал возможность обсуждения этих тем пока человек не «пробудился». Но он не отрицал вовсе высшую реальность. Нирвана для него - Абсолют, то есть то, что не рождено, не сводимо к эмпирическому опыту. Спасение могло быть достигнуто лишь путём личных усилий и через «умирание» для этого мира. Каждый индивидуум имеет в качестве потенциальной основы весь универсум, который осознаётся в опыте просветления. Этот универсум – некий аналог «бессознательного», в котором таится всё многообразие проявлений жизни, как «отрицательных», так и «положительных». Но для того, чтобы идти этим путём, необходимо ограничить понятийное мышление и различающее восприятие (подробнее в разделе 3.1).
Кстати, у Будды были оппоненты не только среди представителей других духовных систем, но и среди представителей своей семьи. Его двоюродный брат Девадатта постоянно высмеивал его и его последователей. Однажды он даже пытался убить Будду посредством взбесившегося слона. Д. Шенман в «Буддистской астрологии» пишет, что все его попытки потерпели неудачу, и он умер в печали и одиночестве. В своей книге Д. Шенман подробно комментирует гороскоп Будды (Сиддхартхи). Он пишет: «Существует три аспекта мудрости, которые буддист использует для своей практики. Это непостоянство, взаимосвязь и пустота. Источником этой мудрости является просветление Сиддхартхи». Первая мудрость заключается в понимании непостоянства, так как люди цепляются за постоянство. «Суть в том, чтобы избегать делать собственность, друзей или тело единственным смыслом жизни…Буддисты верят, что подлинное осознание непостоянства жизни человека может улучшить качество жизни». Поскольку картину мира создаёт разум, просветлённое отношение к жизни является условием счастливой жизни. Взаимосвязь – вторая мудрость. Обычный разум видит все вещи и явления независимо друг от друга, хотя любой объект непостоянен и является продуктом множества обстоятельств. «Пустота означает отсутствие независимого существования. Именно от этого заблуждения буддизм старается избавить человека». Осознание открытости ведёт к свободе. Этому чувству иногда мешает страх, чувство неуверенности и опасности, но «открытость освобождает человека от ограничений».
Надо отметить, что между буддизмом и другими религиями много общего, а с материалистами его роднит то, что «буддисты считают, что у существования нет единого источника; оно существовало вечно, без начала или конца. Реальность - это взаимосвязанная игра многих причин, она полностью открыта для изменения и трансформации…Между физиками и буддистскими философами ведётся постоянный диалог по поводу идей квантовой механики и теории относительности…», - отмечает Д. Шенман.
В эпоху Будды было много групп странствующих аскетов, йогинов и «софистов», - указывает Мирче Элиаде в своей книге о йоге. Это был период духовной активности. Можно было обнаружить как материалистов и нигилистов, диалектиков, так и сторонников крайнего детерминизма или отрицающих полезность любого действия.
В буддизме развит институт монашества. Cловарь «Буддизм» в статье «монах и мирянин» подчёркивает ритуализированный характер их отношений. «Монах не должен ничего просить и благодарить, когда ему дают пищу или подарки. Наоборот, мирянин, вручая что-нибудь монаху, благодарит последнего за то, что монах позволил мирянину совершить доброе дело и тем самым получить религиозную заслугу». При приглашении в дом монах должен сидеть на самом почётном месте. Ему неприличен любой контакт с женщиной и её вещами, он не должен касаться животных, он должен есть то, что ему дают, и не должен хвалить пищу, хотя хорошая и разнообразная еда рассматривается как знак уважение к религии.
Тем не менее, как пишет в своей книге «Путь белых облаков. Буддист в Тибете» Лама Анагарика Говинда (настоящее имя – Эрнст Лотар Гофман, 1898-1985 гг.), «физическое самоумерщвление для достижения личного спасения никогда не считалось в буддизме добродетелью». Буддисты всегда проявляют известную долю здравомыслия, как в повседневной жизни, так и в методах религиозного обучения, «в их религиозных представлениях отсутствует мрачность и стремление к самоумерщвлению».
Говинда отмечает, что «глубочайшими источниками вдохновения в Тибете всегда были не монастыри или крупные университеты (такие, как Сера, Дрепунг и Ганден), а скромные обители отшельников, скрытые в ущельях скалистых гор, в одиноких долинах, в недоступных каньонах…, вдали от караванных путей и шума торговых городов». Самым выдающимся современным отшельником он называет аббата из Лачена («Гомчен из Лачена»), обитель которого находилась между Северным Сиккимом и Тибетом. «Одно из его уединений длилось больше пяти лет, и всё это время он ни разу не спустился к людям и почти не ел». При первом контакте с ним, происшедшем во сне, Говинда почувствовал, что кто-то овладел его сознанием, затем вошёл в тело и овладел и им. В этом присутствии не было ничего угрожающего, «напротив, оно давало некоторое удовлетворение и чувство изумления перед его непреодолимым магнетизмом и нарастающей силой. Я ощущал себя метеором, втянутым в орбиту крупного небесного тела». Но, ощутив ужас перед потерей себя, страшной пустотой, Говинда пробудился и заставил себя погрузиться в работу. На другой день произошёл реальный контакт с Гомчеи, во время которого, тот, в частности, похвалил за выдержку и твёрдость характера свою бывшую ученицу Александру Дэви-Неел (француженку, посетившую Тибет в начале ХХ века). Отшельник сказал Говинде: «Доброта и нравственность без мудрости так же бесполезны, как и знание без доброты». Он передал предмет для медитации – тибетские письмена «Восемнадцать Родов Пустоты».
Говинда делает такой вывод: «мы не можем предстоять Великой Пустоте, пока не имеем силы и величия, чтобы заполнить её собой, всем своим существом. Лишь тогда она станет не просто отрицанием нашей ограниченной личности, но Наполненной Пустотой, принимающей и включающей нас в себя, питая, подобно космической утробе, где свет пребывает вечно, никогда не иссякая».
Александра Дэвид-Неэль (Дэви-Неел), попав в Тибет в возрасте 43 лет, годы провела отшельницей в монастыре настоятеля Гомшена (Гомчеи), изучая буддизм, восточные языки, осваивая различные психические тренировки. Она шла к монастырю Поталу в Лхасе через горы, снега, по тропам, вымазав сажей лицо и руки, чтобы потом написать свои книги о Тибете. Умерла она в своём имении во Франции в 1969 году в возрасте 101 год. В книге «Мистики и маги Тибета» А. Дэвид-Неэль, описывая монастырские обители (с их образом жизни и наказаниями за нарушения правил поведения), отмечает «множественность личностей» в одном монахе или служителе буддизма, которая включает в себя не только учёного и отшельника, пребывающего в медитации, но и неповоротливого бездельника, любезного и весёлого жизнелюба. Молодых послушников монастырей содержат родители, посылая им припасы. Каждый монах-ламаист живёт в отдельном помещении на собственные средства, то есть духовная свобода каждого из них сочетается с материальной самостоятельностью. При этом «перед изображением Будды вообще никогда ни о чём не просят, потому что Будда переселился за пределы мира желаний, вернее, за пределы всех миров». Своего рода монашескую аристократию представляют собой «ламы-тюльку» (иностранцы их называют «живые Будды»). По убеждению ламаистов, это – перевоплощения святых, умерших учёных и даже существ нечеловеческой природы - божеств, демонов и т.п. Ещё в начале века А. Дэвид-Неэль отмечала в психических тренировках тибетцев необычайно высокую концентрацию мысли, необычные проявления психики, которые тибетцы связывали с понятием «энергетическая волна». Этими волнами можно заряжать различные предметы, они могут передаваться на большие расстояния, посредством их могут создаваться в уме людей образы, иллюзии и т.п.
Тибетский буддизм в силу суровости месторасположения монастырей в горах, «открытых всем ветрам вселенной», отличен от буддизма Цейлона, Бирмы, Сиама и даже Китая и Японии: «Покорение дорогой ценой доступного восприятию человека потустороннего мира, приобретение опыта чистого разума, занятия магией, подчинение оккультных сил – вот цели, для достижения которых воздвигались среди облаков эти крепости и возникали загадочные, затерянные в горных лабиринтах селения». Программа монастырского образования ламаистов следующая: «философия и метафизика…, ритуал (богослужение), магия и астрология…; медицина…, священное писание и монастырский устав…» Арифметике и другим наукам обучают частные преподаватели вне школы. Бывают и диспуты, которые, в основном, сводятся к обмену мыслями, заимствованными из трудов классиков. Поэтому ещё в период путешествия А. Дэвид-Неэль искать подлинных магов и мистиков приходилось не в монастырях, где атмосфера была насыщена уже мирскими интересами, а в уединении.
Оттенки и отзвуки многих более ранних учений (индийской йоги, ранних форм буддизма) Генрих Демулен находит в дзэн-буддизме (у китайцев; у японцев – «чань-буддизм»): «Дзэн – это учение о просветлении, зародившееся на основе буддистского мистицизма». Проникновение буддизма в Китай восходит к 1 веку нашей эры. Демулен отмечает существенное отличие китайского и индийского образа мысли. «Вселенская всеобщность воспринимается китайцами в контексте гармонии с природой, в то время как индийцы стремятся уйти от всего мирского». К тому же «поразительное сходство между основополагающими доктринами даосизма и буддизма состоит в естественном познании мира и жизни, которое провозглашается как в сутрах Махаяны, так и в трудах великих китайских мыслителей Лао-дзы и Чжуан-цзы». Тем не менее «с первых дней существования в дзэн ощущался сплав индийского мистицизма и китайской философии».
В наши задачи не входит рассматривать процессы развития отдельных учений и их взаимодействия. Мы отметим лишь отличие странствующего аскета в Китае от индийского отшельника. Если в Индии «одежда и чашка на камне под деревом» представляли единственную собственность странствующего аскета, в Китае, с его более суровым климатом и иными культурными обычаями, подобная притязательность была неуместна», отмечает Демулен. В период становления дзэн члены монашеской общины должны были выполнять различную повседневную работу: колоть дрова, молоть рис и возделывать его поля, заготавливать бамбук. «При этом от практики сбора милостыни полностью не отказывались, ибо она служила напоминанием об отречении от собственности – одном из правил буддийского монашества». «Основным заветом была обязательность ручного труда», «медитация, молитва и ручной труд – всё было строго регламентировано». Сохранилось всё это и в наши дни. Внешне дзэн- буддисты вели себя как полоумные, но зато «они не ведали страха, ибо ничего не желали и ничего не могли потерять». «Со временем индийский буддизм полностью укоренился на китайской почве, индийская метафизика приобрела черты даосской философии, а китайская культура обогатилась древнебуддийским наследием…». Надо отметить, что последователям буддизма, как и последователям других духовных учений, были свойственны духовные кризисы, сопровождавшиеся тоской и потерей веры в истинность учения. Демулен пишет, что один из величайших наставников японского дзэна Хакуин (1685-1768) пал духом, когда прочитал о трагической кончине китайского наставника Йен-доу, убитого грабителями. Если человеку такого уровня уготован тяжкий жребий, «то что проку в дзэн», опечалился Хакуин. Несколько дней он не вставал с постели и отказывался есть, готов был отнестись к образам Будды и сутрам как ненужному хламу. Лишь через три года он достиг просветления. Позднее он отметил, что в этом психическом процессе есть две фазы: «Великое Сомнение», при котором в состоянии крайнего психического напряжения сознание доходит до «точки кипения», когда ум не в состоянии выдержать данную нагрузку; затем возникает экстатическое состояние, которое приносит освобождение, чистоту и радость. Были у него сомнения и на последующем духовном пути, когда физическое нездоровье создало нервное расстройство, но он практически излечился путём самонаблюдения и правильного дыхания, восстановления тока жизненной энергии. При этом «глубоко дыша, человек наполняет область пупка и нижнюю часть тела дыханием жизни и направляет поток пробуждённой энергии (ки) к пяткам». Одновременно он произносил определённые слова, комментирующие весь процесс.
Своеобразная буддийская йога, на основании которой затем развивалась монастырская школа шаолиньского бокса, буддийская тантра, важдраяна, то есть «алмазная колесница», в начале обосновалась в Тибете. За пределами Гималаев она называется «чань», в Японии – «дзэн». В Китай, в монастырь Шаолинь, её занёс некий индийский отшельник, святой по имени Бодхидхарма, который был учителем дхьяны (буддийской медитации). (Об этом пишет А. Филозов в журнале «Эгоист», № 6 за 2009 год). Придя в Шаолинь, отшельнику пришлось вступить в противоборство со сложившейся там системой духовного совершенства. Ведь монахи постоянно медитировали, прерывая это занятие лишь чтением молитв нараспев. Даже посуду им мыли служки-миряне. Изменить столь монотонный и далёкий от совершенства образ жизни монахов Бодхидхарма сумел лишь после того, как 9 лет сам просидел в позе лотоса. Поскольку ноги за это время отнялись, ему пришлось разработать специальную гимнастику для восстановления здоровья, ставшую основой «шаолиньсы цюаньфа», «ушу» (способа одухотворения плоти). По сути это – ответ на традиционные способы нападения, применяемые разнообразными профессиональными и спортивными видами единоборств.
В. Фомин, И. Линдер в книге «Диалог о боевых искусствах Востока» отмечают, что боевые искусства Востока широко практиковались не только в воинских сословиях, но и в среде миролюбивых буддистских монахов, а китайские и японские монастыри оказались центрами формирования многих известных школ борьбы (кстати, этот фактор не является чем-то исключительным; достаточно вспомнить высокий уровень боевой подготовки монахов на Руси и превращение монастырей в крепости, а монастырской братии – в воинские гарнизоны). Но Восток в этом плане оказался более консервативным, а его традиции боевых искусств более жизнестойкими. Основной причиной подобной жизнестойкости, наверное, можно считать наличие культурного ядра, мировосприятия, основанного на древней концепции «инь-ян», и наличие в основных религиозных и культурных традициях Востока (даосизме, буддизме, дзэне) конкретных установок на самосовершенствование и психологических практик, которые не позволяли противопоставлять насильственные военные действия высшим гуманным законам бытия. При этом, в соответствии с традициями, на первом этапе освоения мастерства, как и для массового сознания, была важна чёткость позиций в определении нравственного и безнравственного. С наступлением зрелости нравственная проблема требовала более гибкого, динамичного решения, выводя человека как бы «по ту сторону добра и зла».
В средние века целое семейство боевых искусств было поднято с «уровня простой боевой техники (японский термин «будзюцу») до уровня воинского пути (японский термин «будо»)». «Ядром системы, безусловно, являются отношения учителя и ученика, причём определяющей фигурой является мастер-учитель». Его авторитет на Востоке превосходит авторитет родителей. Наиболее благоприятные условия для обучения, как боевым искусствам, так и для передачи культурно-религиозных традиций, состояли «в сплаве профессионального обучения с совместной жизнедеятельностью». Одним из определяющих факторов здесь являлась иерархическая система отношений между старшими и младшими учениками. Практиковалась традиция передавать начинающим самую грязную и тяжёлую работу с постоянными придирками к ним. Тех, у кого не хватало терпения, выгоняли. Проверялась также честность претендентов. Требовалась самозабвенная преданность избранному делу, неукоснительное следование принятым нормам и традициям. Были и весьма экстремальные испытания. Духовное единение с наставником становилось признаком зрелости, но не поощрялось подражание, так как необходимо было воспитывать ещё более совершенных мастеров. Помимо основных, во многом стабильных монастырских школ, существовали «спонтанные» школы даосских отшельников, строивших занятия, «сообразуясь со своим внутренним мироощущением».
Н.В. Абаев в монографии «Чань-буддизм и культурно-психологические традиции в средневековом Китае» пишет, что буддизм, проникший в Китай в 1 в. н.э. подвергся сильному воздействию, в результате чего возникли многочисленные школы буддизма, одна из которых, чань (по японски, - дзэн), появилась на рубеже V-V1 веков; её считают «самой китайской» школой, продолжением даосизма. При этом если в кофуцианстве основное значение придавалось смысловым, вербальным и знаковым системам знания и передачи информации, то в даосизме и дзэн-буддизме провозглашалась невозможность выразить высшую истину в словах и постичь её в рамках дискурсивно-логического мышления. В даосизме, например, молчание выступало как «знак высшей мудрости».
В.Н. Шутов в «Анатомии религий» отмечает, что конфуцианство в Китае сосуществует с даосизмом и буддизмом. Это учение включает в себя идеи, связанные с даосизмом: идею единства мироздания и гармонии Вселенной; идею духовной, бестелесной первоосновы, пронизывающей всё. В.Н. Шутов отмечает принцип внутренней непротиворечивости и стройности учения; культ Неба и признание множественности духов, богов. Конфуций – достоверная историческая личность, родился в 551 г. до н.э. в семье обедневшего аристократа. Главное его внимание было направлено на создание благоденствующего государства, так как он родился в период упадка Поднебесной. Конфуций – не божество, а Учитель, он старался опираться на традиционные китайские ценности, важным элементом которых был культ предков и высокий статус семейно-родовых отношений. В учении Конфуция отсутствует глубокий мистицизм и метафизическое мудрствование, зато есть склонность к порядку, регламентации жизни, практицизм, деловитость и трудолюбие, уважительное отношение к горнему миру (Небу) при некоторой отстранённости от него. Для китайского духа характерен также коллективизм и гармония противоположностей (пассивной, инь, и активной, ян) при отсутствии стремления к резким переменам (пожелание добра выражается следующим образом: «Да не жить тебе в эпоху перемен»).
В.Н. Шутов в «Анатомии религий» анализирует также иудаизм. О происхождении еврейства существует ряд версий: евреи принадлежат к семейству семитских народов, издавна проживали на просторах Центральной и Юго-Западной Азии, освоив скотоводство; обязаны своим происхождением переселению древних ариев с севера на юг и смешению их с туземным населением. Иудаизм возник на стыке кочевой и оседлой жизни. Всего вероятнее, считает В.Н. Шутов, истоки иудаизма и еврейства связаны с севером Средней Азии и уходят корнями в районы Каспия, низовий Волги, Междуречья и т.п. (позднее в низовьях Волги возник Хазарский каганат). Он видит связь слова «Израиль» с «Ра» - это древнее название Волги. Многоликое движение евреев складывалось из знатоков-левитов («левого» направления мудрости по отношению к исходной); воинов-завоевателей и кочевых низовых масс. Иудаизм предполагает веру в собственную избранность и грядущую власть на Земле. Ряд свойств иудаизма: стремление к господству; обилие элементов архаизма; сплочённость представителей иудаизма; отношение с другими строится по принципу полезности. Иудаизм – во многом, это система организации еврейского народа, признак крови особенно важен. Тора, основная книга правил и знаний, требует буквального соблюдения Закона, его нарушение считается грехом, зло и добро, по сути, - это исполнение или неисполнение Закона.
Основные качества Бога иудеев (Иегова): этот Бог, прежде всего, - Бог иудеев; нет промежуточных уровней небесной иерархии; общение с Богом осуществляется лишь через избранных людей; Бог установил Закон, похожий на договор; блага обещаются на Земле в виде грядущей родовой власти; характер Бога непознаваем. Культ тяготеет во многом к Луне (отсюда – символ Чаши); характерно дуалистическое восприятие мира, сочетание матриархата и патриархата, двуединая власть – священство и царь. Основой иудаизма являются Десять заповедей Ветхого Завета, к которым в христианстве добавились ещё две – о любви к Богу и ближнему. Строгость выполнения заповедей и необходимость выживать среди других народов выработали особую методологию поведения евреев, в основе которой – своей цели достигать чужими руками и использовать «козла отпущения». К характерным чертам иудаизма можно отнести: возведение грозного и непознаваемого Бога на недосягаемую высоту; признание его жестокости; борьба с другими верованиями; использование крови животных при религиозных отправлениях; упорство в достижении своих целей; преобладание денежно-договорных отношений во взаимоотношениях между членами еврейской общины и внешним миром; поддержание родового единства; соблюдение древних установлений; герметичность, закрытость многих деяний; ставка на будущую общемировую власть (строительство, своего рода, «вавилонской башни» общемирового масштаба); стремление к установлению отношений «пастух-овцы»; отсутствие проявлений откровенной щедрости; индивидуализм при стремлении объединения еврейства и отделения его от других народов.
О дохристианской традиции уединения, свойственной иудаизму и воспринятой христианством, пишет французский историк Эрнест Ренан: «Все смотрели тогда на пребывание в пустыне Иудейской как на подготовление к великим деяниям, как на некоторого рода «удаление» перед совершением дел общественного характера. Иисус подчинился этому обычаю…, и провёл сорок дней в полном одиночестве, в строгом посте, не имея другого общества, кроме диких зверей…По народным верованиям, пустыня была наполнена демонами…, он подвергался страшным испытаниям, сатана то стращал его видениями, то искушал соблазнительными обещаниями…, в награду за его победу ангелы явились служить ему». «Воздержание от мяса, вина, чувственных наслаждений считалось послушничеством, обязательным для людей откровения».
Было принято также помещать всевозможных нарушителей, в том числе и разрушителей традиционных верований, в заключение, «под стражу» (так, например, поступили с предтечей Христа, Иоанном Крестителем). Как сообщает Э. Ренан, восточная тюрьма – это не одиночная камера. Заключённый, прикованный за ноги, помещается во дворе у всех на виду или в открытом помещении и беседует со всеми проходящими.
В.И. Курбатов в книге «Великие пророки и прорицатели мира» рассматривает способность некоторых людей к особому дару предвидения и духовного наставничества. Прежде всего, необходимо делать различие между прорицателями и пророками. Если первые предсказывали грядущее, то пророки, например, у израильтян, обращались к людям от лица божества с требованием переустройства жизни в свете определённого идеала.
В.И. Курбатов перечисляет критерии подлинности пророков и их отличия от лжепророков. Так, например, «пророческий экстаз» (это состояние часто наступало внезапно, и было вызвано определёнными воздействиями, например, музыкой, и «включало полную потерю личности, чувства страха и боли») был характерен для лжепророков, но его могли испытывать и истинные пророки. Лжепророки часто числились при царском дворе, получали жалованье и изрекали пророчества, которые хотел от них услышать царь. Но и этот критерий не окончательный, так как библейский пророк Самуил, Нафан (при Давиде) и другие в некоторой степени были «профессиональными» и подлинными пророками. «Для пророка необходимо, чтобы, как его разум, так и воображение, были совершенны. Пророки в качестве наставников и вождей народа превосходят учёных, которые способны воспринимать Божественную эманацию только разумом, а также правителей-законодателей и предсказателей, обладающих лишь совершенным воображением». «Еврейские мыслители-экзистенциалисты интерпретируют пророчество как диалог между человеком и Богом, а не как восприятие человеком Божественного послания», то есть речь не идёт о вселении в тело пророка духа Божьего, приводящего к трансу, одержимости и т.п. Но «пророк отделён от соотечественников, и на нём лежит тяжкое бремя его избранности», хотя кругозор у различных пророков может быть разным. (Я бы сказала, что пророки – это духовные новаторы).
Наверное, главным отличием истинного пророчества от ложного является его исполнение, но и это условие необходимое, но не достаточное, так как не все слова и предсказания, которые сбываются, исходят от Бога. Могут быть и искушения. Но «истинный пророк несёт слова убеждения и раскаяния, призывая народ к праведности и послушанию». Кроме того, как указывает В.И. Курбатов, «лжепророки, согласно Иеремии, крадут имя Господа, присваивают себе право говорить от Его имени и раздувают своё значение, придуманное ими самими. Подлинный пророк – выполняет волю Яхве, говорит от Его имени и Его властью».
Воля Бога пророку может сообщаться по-разному: в видении; реже – в ночном сновидении; через слуховое восприятие, но чаще всего – через внутренне вдохновение. «Вступление Бога в душу пророка приводит его как бы в «сверхнормальное» психологическое состояние». Другим людям полученное пророком от Бога пророчество могло сообщаться устно (если оно относилось ко всему народу, то провозглашалось в храме или в местах народных собраний). Оно могло иметь письменное изложение («пророк Иеремия, заключённый в темнице, излагает пророческие откровения в книжном свитке и поручает Варуху прочитать их людям дома Господня: «Может быть, они вознесут смиренное моление перед лицом Господа и обратятся каждый от злого пути своего» (Иер. 36:1-7); а когда этот свиток попал в руки Иоакима, царя Иудейского, и был предан сожжению, тогда Иеремия написал другой с дополнениями», - пишет В.И. Курбатов в книге «Великие пророки и прорицатели мира»). Как видим, земная, во многом безнравственная власть, во все времена соперничала с властью духовной, небесной и нравственной. Третьим способом (помимо устного и письменного) сообщения пророческих откровений В.И. Курбатов называет символические действия, которые часто дополнялись устным или письменным пояснением или сообщением. Часто пророки доказывали истинность своих пророчеств с помощью великих чудес. Надо вновь подчеркнуть особую чистоту их учения и собственной жизни.
Надо отметить также различные виды исполнения пророчеств – «буквальное и духовное исполнение, частичное и полное, первичное и вторичное, единичное, двойное или повторяющееся». Иногда исполнение того или иного пророчества «находится в зависимости от выполнения людьми определённых условий». В книге В.И. Курбатова и в другой литературе о пророчествах можно найти примеры многочисленных подтверждений тех или иных предсказаний. Тем более что существовали различные школы пророческой интерпретации (они часто касаются полноты и времени исполнения пророчеств). (Автор воздержится от примеров и комментариев на эту тему, хотя, понятно, что некоторые пророчества могли напоминать проклятия или излагать почти абсолютно неизбежные события, как, например, разрушения городов, гибель той или иной цивилизации и т.п., либо относиться к самому отдалённому, недостижимому будущему).
«Возвещаемое пророками имеет две грани: обличительную и утешительную». В Иудее, пишет В.И. Курбатов, «пророчество – правосудие и человеколюбие Божие – поставляло пророков как блюстителей правды, поборников благочестия, обличителей пороков и беззаконий и проповедников покаяния для грешников…» В Ветхом Завете запечатлены слова и деяния многих пророков (праотца евреев Авраама, Ноя, Ильи), но особое место занимает пророк Моисей, который 40 лет водил евреев по пустыне, «чтобы их души стали свободными».
Но «основанием и средоточием пророчеств Ветхого Завета служат пророчества о Мессии…. Будущее Мессианское время описывается в пророческих книгах как эпоха внутреннего преобразования избранного народа и всего человеческого рода». Кроме того, «весь Новый Завет учит, что Христос вернётся, несмотря на то, что Его пришествие откладывается. Книга пророка Даниила также учит, что Бог непременно утвердит Своё вечное Царство».
Христианство, родившееся в период саморазрушения античной цивилизации, отвергло и присущий последнему институт оракулов (предсказывать уже ничего не надо было, так как всех ждёт лишь Страшный Суд, конец света и Второе Пришествие, «а всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух антихриста»). Всякий, отрицавший эти догматы, с точки зрения христианства, был лжепророком, то есть «истинный пророк тот, кто проповедует, что Мессия уже пришёл в лице Иисуса, а ложный пророк тот, кто отрицает его пришествие и ждёт какого-то будущего обманщика», то есть другой истинной религии после христианской быть не может.
Тем не менее, как отмечает Архимандрит Тихон (Шевкунов) в отношении скандально известного Григория Распутина: «В истории человечества есть загадочные личности, о которых мы окончательно ничего не узнаем до Страшного Суда Божия. Иной раз необходимо отказаться и от исследования этих личностей – эти исследования заранее обречены на бесконечные и бесплодные словопрения. Но, тем более, должны отказаться от того, чтобы восхитить себе суд Божий о человеке» (эпиграф к биографии Григория Распутина, написанной А.Н. Варламовым и изданной в «ЖЗЛ»). А.Н. Варламов приводит в своей работе многочисленные свидетельства многогранности и противоречивости натуры Распутина: невежественный и одновременно красноречивый; лицемер и фанатик; святой и грешник; аскет и бабник; актёр и прозорливец. Многие духовные люди, знавшие Распутина, больше всего сокрушались, что этот «старец» не имел наставника, не прошёл школу послушания. Но почти любой новатор (в том числе и в духовной сфере) бывает не в ладах с традициями, расценивается приверженцами традиционного знания, как еретик (например, известный подвижник здорового образа жизни Порфирий Корнеевич Иванов).
Наиболее подробно остановимся на организации жизнедеятельности в условиях затворничества, уединения в христианстве. Прежде всего, обратимся к истокам христианства. Австрийский мыслитель, основатель духовной практики «антропософия», Рудольф Штайнер в работе «Христианство как мистический факт» заметил: «Почву, из которой вырос дух христианства, нужно искать в мудрости мистерий». Эту почву он находит в образе жизни «ессеев и терапевтов, которые существовали задолго до возникновения христианства. Ессеи были замкнутой палестинской сектой и ко времени Христа их числилось около четырёх тысяч. Они составляли общину, требовавшую от своих членов такого образа жизни, который развивал в душе жизнь высшую и тем обуславливал возрождение. Вступавший член подвергался строгому испытанию, чтобы проверить, действительно ли он созрел для подготовления к высшей жизни. Принятый должен был пройти через искус…Близко к ессеям стояли жившие в Египте терапевты…Христианство стремилось лишь к тому, чтобы сделать достоянием всего человечество то, что было достоянием секты».
Эрнест Ренан считал личность Христа человеческой, что, на мой взгляд, не умаляет ни его подвига, ни значения его учения для человечества, ни уникальности его личности. «Эту великую личность, ежедневно до сих пор главенствующую над судьбами мира, позволительно назвать божественной не в том, однако, смысле, что Иисус вмещал всё божественное или может быть отождествлён с божеством, а в том смысле, что он научил род человеческий сделать один из самых крупных его шагов к идеалу, к божественному…Он не был безгрешен; он побеждал в себе те же страсти, с какими мы боремся; никакой ангел Божий не подкреплял его, кроме его собственной чистой совести; никакой Сатана не искушал его, кроме того, которого каждый носит в своём сердце… Но никогда ни у кого интересы человечества не преобладали до такой степени, как у него, над светской суетой. Беззаветно преданный своей идее, он сумел всё подчинить ей до такой степени, что вселенная не существовала для него. Этими усилиями героической воли он и завоевал небо. Не было человека, быть может, за исключением Сакья-Муни, который до такой степени попирал ногами семью, все радости бытия, все мирские заботы. Он жил только своим Отцом и божественной миссией, относительно которой он был убеждён, что выполнит её».
Э. Ренан в своих книгах воспроизводит величайшую трагедию сильного духом предельного идеалиста, которая, по воле истории, перешла в триумф. И он длится уже Третье тысячелетие! Ведь большинство людей, как справедливо отмечает Ренан, хотят иметь живого и человечного посредника между собой и Богом.
Петербургский адвокат и литератор К.Б. Ерофеев в работе «Суд на Иисусом Христом: взгляд адвоката» (СПб.: Издательство «Древо жизни») провёл скрупулёзное исследование «законности» судилища над основателем христианской религии. Ведь этот «самый несправедливый за всю мировую историю судебный процесс произошёл в рамках самых прогрессивных для своего времени судебных систем» (иудейской и римской). Если первая была построена на принципе наказания, равнозначного вине, «как было ещё установлено в данном от Бога Моисею законодательстве – око за око, зуб за зуб», то вторая содержала самые совершенные правовые законы. Но оба суда проходили с нарушениями сложившегося законодательства. В частности, древнееврейский суд (синедреон) собрался ночью, что было запрещено древнееврейским правом, а вынесение смертного приговора запрещалось в день накануне свободы или праздника (суд состоялся в ночь Пасхального Седера, великого праздника Песаха). Не было и двух свидетелей, приговор был вынесен на основании косвенных доказательств; процессуально неправильно было требовать от подсудимого клятвы в своей виновности, а «лжемессианство» по еврейским законам могло караться смертью лишь в том случае, если обвиняемый был сознательным мошенником, жуликом, а не искренне обманывался. Неясно также, был ли должный кворум (состав) суда.
«Передача подсудимого в рамки римских оккупационных властей обусловлен тем, что вести уголовные дела был уполномочен лишь римский прокуратор». За богохульство синедреон мог приговорить подсудимого к смертной казни, но утвердить его и привести в исполнение мог лишь римский наместник. Возможно, что в случае с Христом первосвященники хотели переложить ответственность на римлян. Суд у Пилата происходил в два этапа. Их разделял суд у Ирода. Пилат, не получив от Иисуса признания в богохульстве и покушении на власть римского кесаря, отправил его на суд Ирода, правителя Галилеи с 4 года до н.э. по 39 год н.э. Иисус не ответил ни на один вопрос Ирода, который хотел видеть его, и был отослан обратно к Пилату. Возможно, существовал сговор между иудейскими и римскими властями ещё до ареста Иисуса, а Ирод предупредил Пилата, что в случае оправдания Иисуса, создастся угроза для власти кесаря. Пилат надеялся, что иудеи попросят отпустить Иисуса, а не закоренелого преступника Варавву, но этого не произошло (версии – в работе К.Б. Ерофеева). Но «Распни!» кричали, вероятно, не более ста-двухсот человек, а не весь еврейский народ. «Пилат не только не нашёл вины в Иисусе, но и признал в нём праведника». Пилат так и не понял Иисуса. (Наверное, он и не мог его понять). Есть точка зрения, что римляне-язычники стали орудиями Божьего суда в отношении избранного народа, а христианство можно рассматривать как религию возврата к человеческим жертвоприношениям.
Исследуя энергетический, магический характер христианства, его духовную, нравственную силу, которая во многом стал антиподом общепризнанной силы политеистического языческого могущества Рима с его «зоологической «волей к власти», публицист Олег Харебин (статья «Энергетический феномен христианства», журнал «Стратегия России», № 4, апрель 2018), отмечает, что «власть имеющим» Христос стал после сорокадневного поста в пустыне, когда «разобрался» с коллективным бессознательным языческого греко-римского мира путём выражения личного отношения к «искушениям». Он овладел своим либидо (не фрейдовским, сексуальным, а юнгианским – энергетическим), стал свободным, могущим честно и искренне либидо распоряжаться. Кто способен властвовать над собой, способен (а может, и обречён) и к духовной власти над другими». При этом «как власть имеющий, Христос резко и мгновенно ставит институт императоров на место, провозгласив принцип разделения, дифференциации светской и духовной власти: «итак отдайте кесарю кесарево, а Божие Богу (Мф., гл. 22)». Тем самым наметилось разделение церковной и светской, мирской власти. Но в Х1 веке, считает этот публицист, «когда завершился процесс окончательного смешения аборигенных народов….с пришлыми германскими варварами…, в Западной Европе с магическим христианством было покончено». Поэтому возникшее в 752 году Папское государство, «видя слабость и раздробленность земных властителей, само возжелало земной власти…». Но мне представляется, что, с одной стороны, дуализм власти (духовной и материальной, светской) существовал всегда. С другой стороны, эти две формы власти постоянно причудливо взаимодействуют и проявляют себя как в повседневной жизни, так и в политике.
Во времена Христа считалось, что при проповеди человек говорит не сам от себя, а от Бога, то есть между ними нет посредника. «Те состояния, которые в наше время считаются патологическими, как, например, эпилепсия, видения, некогда считались признаком силы и величия», - пишет Ренан. Разнообразие языков было препятствием на пути распространения христианства. В ортодоксальном иудаизме еврейский язык считался «священным языком», хотя египетские евреи употребляли греческий язык. Христианство пошло в этом смысле ещё дальше – Божье слово в христианстве уже не имеет своего языка, соединяя все языки и народы воедино. Но молитва стала соединением экстаза со словами не сразу; на первом этапе распространения христианства наблюдается некоторое пренебрежение языком вообще (наблюдались частые случаи «глоссолалий»).
Истинным идеалом христианства уже на первом этапе стала община людей, в которой всё имущество – общее. Затем идеалом жизни становится монастырь, как приют для желающих жить лишь духовной жизнью. «Еще два столетия спустя, - отмечает Ренан в работе «Апостолы», - христианство производило на язычников впечатление коммунистической секты. Не нужно забывать того, что терапевты дали образец этого образа жизни, который вёл своё начало от Моисея. Так как законодательство Моисея было главным образом нравственное, но не политическое, то его естественным продуктом были социальная утопия, община, синагога, монастырь, а не гражданское государство, нация, город». Христиане отличались от остальных иудеев только верой в то, что Мессия уже пришёл, и видели в нём Христа.
«Царство Моё не от мира сего», то есть христианское учение в пределе – это совершенный идеализм и полное отрешение от земной жизни. Но история самой христианской церкви – это типичная история любой социальной структуры. Э. Ренан отмечает, что первобытная христианская церковь была как бы маленькой демократией, союзом бедных, в котором избрание пресвитера (это старший в общине) происходило путём жребия. Священников не было. Единственным священником был Иисус. Крещение стало необходимым условием вступления в секту. Но кроме крещения необходимо было дарование Святого Духа (путём произнесения молитвы и возложения апостолами рук над головой неофита).
Поначалу ведение хозяйства и административных функций лежало на апостолах, но потом эти обязанности были возложены на семь мудрых и уважаемых верующих: Стефана, Филиппа, Прохора, Никанора, Тимона, Пармена и Николая, которым дали сирийское название «шамашин» (по-гречески – диаконы). К этой должности в ту пору допускали и женщин.
Для обозначения союза верующих применялось еврейское слово «кагал» (равнозначное греческому ессlesia, означавшее «народное собрание»). Отлучение считалось смертным приговором, которое могло происходить при нарушении закона.
И хотя ещё иудейство имело своих мучеников, начиная со смерти Стефана, сообщает Э. Ренан, началась эпоха христианских мучеников. Мученики открыли эру нетерпимости. Первоначальная иерусалимская община после убийства Стефана (между 36 и 38 годами его побили камнями ортодоксальные иудеи при попустительстве римских властей) рассеялась. Совместная жизнь верующих прекратилась. Начиная с 40-го года н.э. активизировалось крещение язычников. Постепенно осуществилось слияние рас, о котором мечтал Иисус, а христианство попало в водоворот уже западного мира. Эту идею внесли в мир, прежде всего, Святой Варнава и апостол Павел. До этого христиан именовали «назореями» (Иисус - «Ганн-Назари», «Ганосри», в Антиохии их стали называть «христианами»). Но смешение христианства с иудаизмом в той или иной степени сохранилось. «Антиохия была городом Павла, - пишет Ренан, - Иерусалим – городом старой апостольской коллегии». Все великие христианские миссии в дальнейшем направлялись на Запад; Римская империя Древнего мира стала ареной их действий. Римская империя нашла своё отражение в основании римской Церкви, хотя после Иудеи первой страной, в которой укрепилось христианство, была Сирия.
Но параллельно с христианством в Западном мире распространялось и иудейство. Синагоги обнародовали законы и становились органами управления. В прежнее время на стороне этого народа было нравственное превосходство. Иудейство и христианство стали средством союза людей вне государства и национальности.
Подлинным гонителем христиан стал Ирод Агриппа, внук Ирода великого (с 41 года), после которого прекратилась независимость Иерусалима. Оставляя в стороне вопросы обрядности, христианство продолжало монотеистическую пропаганду иудейства, хотя священная книга иудеев, Талмуд, в средние века подвергалась строжайшей цензуре на предмет упоминаний христианства – отдельных иудеев даже сжигали на костре за хранение старых версий Талмуда.
Современное христианство подразделяется на три основные ветви: католичество, реформаторские течения, православие. В.Н.Шутов в «Анатомии мировых религий» отмечает, что христианство впитало в себя многие языческие религиозные идеи и иудейское наследие. Идея Сына Божьего связана с греческой философией, учение о смерти и воскрешении отражает восточные культы умирающих и возрождающихся богов, как и почитание женского начала. Идея троичности Бога связана с древнерусским православием. Основные постулаты христианства: признание божественной природы Иисуса Христа; идея спасения на небе с последующим поселением в раю; идея бренности земных ценностей и соблазнов; идея вселенскости, наднациональности; идея возвышения меньших над большими; идея жертвенности; утверждение любви, а также: идея существования высшей небесной иерархии и её связи с живущими на Земле; построение Царства Божия на Земле с участием людей при гибели прежнего мира; личное спасение путём покаяния, исполнения заповедей и послушания.
Основные отличия католицизма (оформился в 1054 году) от других ветвей христианства: утверждения чистилища, как промежуточного уровня между раем и адом; Святой Дух исходит не только от Отца, но и от Сына; идея создания священного фонда заслуг перед Богом и права римско-католической церкви распоряжаться им; наличие догмата о непогрешимости Папы в делах веры; отличие в обрядах; признание большего числа, чем семь, основных соборов; длительный период ограничения в ознакомлении мирян с Библией и её толкованием. Характерны также: социальное разделение и индивидуализм, допущение интенсивной церковной экономической деятельности; крестовые походы и борьба с ересями.
Протестантизм возник как реакция против доминирования католицизма в Западной Европе, он состоит из отдельных подветвей: лютеранство, кальвинизм, пресвитерианство, англиканизм и другие. Для протестантства характерны: сильно выраженный индивидуализм; повышенный интерес к древнему Священному Писанию; упрощение догматики; оправдание стремления к богатству; элементы протеста против прежней власти. Практически протестантизм связан с развитием капитализма и материализма.
Православие (охватывает примерно 150 миллионов человек), включает в себя солидные пласты древнерусского наследия. Оно удалилось от ветхозаветности, но для него характерна длительная борьба с древнерусскими верованиями, что, как отмечает Шутов, явилось причиной излишнего упования на Бога и социальной пассивности, самоуничижения, потери воинственности; «ближний рассматривается почти как «любой»; религиозный подвиг – это подвиг смирения, испытание тягот. В православии произошло переосмысления ряда древнерусских установок, придания им даже противоположного или однозначного смысла (например, слова «дьявол» и «ведьма» по происхождению не столь однозначны); признание первозданности греховности (в древности греховность означала отклонение от религиозно-нравственных устоев коллективной жизни). В.Н.Шутов отмечает также более частое использование в древнерусской традиции звука «р» и анализирует основные отличия православия от других ветвей христианства: «отеческий», а на «приказной» статус горнего мира по отношению к земному миру; сложность представления о горнем мире (своего рода «иерархический монотеизм», обращение молящихся к многочисленным святым); идея равенства перед Богом; это религия Света, Солнца; идея соборности; выстраивание столпов между низами и верхами общества; повышенный интерес к чудесам; страх Божий подвигает, прежде всего, на совершение богоугодных дел; культ женского начала в лице Богородицы поднят на большую высоту; снисхождение вниз не считается зазорным; социальная пассивность и ориентация на жертву.
«Христианство и, особенно, православие «предлагает» радикальнейший путь перерождения человеческого общества – через смерть старого мира, второе пришествие Иисуса Христа, Страшный Суд, за которым последует новое жизненное устроение – Царство Божие». В.Н. Шутов отмечает, что основные вехи солнечного цикла связаны с символикой креста и круга, коловращения. Это и череда главных событий в течение года. Зимнее солнцестояние – Рождество Христово – Новый год, святки, праздник Коляды. Весеннее равноденствие – Пасха Христова - воскресение природы, начало полевых работ, древнерусский праздник Красная Горка. Летнее солнцестояние – Иоанн Предтеча - апофеоз лета, Иван Купала. Осеннее равноденствие – Рождество Богородицы – сбор урожая, праздник рожениц, Рода.
Тем не менее, все знают, что переход к христианству на Руси происходил далеко не гладко, поэтому вряд ли когда-нибудь затихнут споры о сравнительных достоинствах и недостатках язычества (ведизма) славян и христианства. Наверное, у той и другой религии есть свои «плюсы» и «минусы», каждая из них по-своему отражает единую реальность и по-разному программирует сознание человека. То, что свершилось, то свершилось, поэтому надо понимать, что современный человек многосложен, возврат к первозданной чистоте веры вряд ли возможен, но надо, по возможности, учитывать и критику любой веры. П.В. Свиридов в книге «Миф эпохи Водолея», например, подкрепляет своё мнение, что «христианство как институт, было насильственно внедрено в историко-культурную ткань русского этноса в качестве господствующей идеологии, отвечая потребностям центральной власти», ссылкой на призыв византийского патриарха Фотия. После очередного успешного нападения русского флота на Константинополь в 860 году, что было до даты официального крещения Руси, Фотий сказал, что овладевать руссами следует не только с помощью оружия, но и «с помощью всевышнего». П.В. Свиридов ссылается также на высказывание авторитетного в иудейских кругах Рабби Адина Штайнзальца о том, что «христианство – это упрощённая, примитизированная, подогнанная под детское сознание индоевропейских народов иудейская религия». Как отмечает П.В. Свиридов, «борясь за выживание и усиление позиций, христианство полностью отрицало ценности античного язычества, в том числе культ здорового, сильного, красивого тела». Он приводит факт, отмеченный в летописи, повествующей о хождении на Русь Андрея Первозванного, как его отказались слушать наши предки, ходившие в баню каждый день, под тем предлогом, что сподвижник Христа, проведший в пути без удобств многие месяцы, «вонял сильно». Вот вам пример, когда духовное вступает в противоречие с материальным на бытовом уровне! Христианство, особенно на Западе, не только утверждало культ бедности, что не мешало роскоши феодалов и папского двора, но и считало отсутствие гигиены проявлением крайней аскезы (описание жизни в монастырях Западной Европы приводится ниже). Христианство способствовало также снижению ценности земной жизни по сравнению с загробным миром.
Но есть и принципиально иные оценки роли христианства, по которым оно лишь преодолело кризис языческого мира. Вот что пишет по этому поводу С.А. Сошинский (сборник «Чудеса истинные и ложные», М.: Даниловский благовестник, 2007): «Если взглянуть на необъятный свод христианских молитв (я говорю в первую очередь о православных молитвах, полнее отражающих реальности первого тысячелетия), то они представляют собою бесконечное неотступное прошение, взывание к Богу, и неотступное усилие восхождения к Нему от греха и распада, от всего, что может быть названо семенем тления. Хорошо известен кризис языческого мира на рубеже христианкой эры, не только кризис античной цивилизации, но и других цивилизаций (Индия, Китай и т.д.), которые, как это видно из последующих пятнадцати веков, не имели силы для динамической устремлённости, хотя и свидетельствовали о себе самобытной культурой. Но достаточно внимательно почитать христианские молитвы, чтобы увидеть, какою силою этот языческий кризис был преодолен. Церковные песнопения, богослужения, подвижничество, Таинства – всё в совокупности являет собой великую лестницу на небо, чтобы всякий истинно желающий имел в них опору подниматься». Но при этом: не только само усилие человека осуществляет этот духовный подъём, предопределяет участие человека в космическом бытии, но и: «обновление мира было даром свыше», «было явлено человеку как дар, как чудо». «Во Христе связь с Богом восстанавливается. Поэтому должна в некоторой форме восстановиться и власть над природой, как внешней, так и внутренней. Должны обновиться и жизнь, и знание». Тем не менее, рядом сосуществует языческий миропорядок, поэтому «грех истребляется во Христе, он же нарастает по нашему произволу». И процессу обновления человека в православии во многом способствовала выработанная веками практика духовного подвижничества, осуществляемая, прежде всего, в глубоком уединении.
Мы знаем, что глубокое уединение в православии возможно лишь с благословения патриарха, так как преждевременное удаление от мира ради келейного подвига может стать формой самообольщения, хотя традиция духовного уединения была известна на Руси задолго до христианизации.
Историк и мыслитель Георгий Федотов, как пишет в предисловии к его книге «Святые Древней Руси» Протоиерей Александр Мень, показал, что «именно в допетровские времена сложился…архетип духовной жизни, ставший идеалом для всех последующих поколений». Генетически русский религиозный тип связан с общехристианскими началами и византийским наследием (для него характерно не только влияние «иноческого аскетизма», но и «пышная красота священнодействия, отображающего неподвижную вечность»). Как отмечает А. Мень, «этический элемент, разумеется, не отрицался, но он нередко отступал на второй план по сравнению с эстетикой – этим зеркалом «небесной иерархии». Христианская же духовность на Руси уже в первые десятилетия после князя Владимира, сохранив аскетическую традицию Византии, усилила евангельский элемент, поставив во главу угла «действенную любовь, служение людям, милосердие». Этот этап развития древнерусской святости в эпоху ордынского ига сменяется новым – мистическим. Его воплощением является Сергий Радонежский. А. Мень пишет: «Федотов считает его первым русским мистиком», отмечая его близость с афонской школой исихазма, для которой была характерна практика духовного самоуглубления, молитвы, преображения личности через её сокровенное единение с Богом.
В третьем, «московском», периоде развития русской духовности этическая, социальная направленность, вступает в противоречие с мистической и аскетической, что привело к расколу церкви.
В «Заключении» своей книги Георгий Федотов констатирует, что для древнерусской святости характерна «её светлая мерность, отсутствие радикализма». «В монашестве мы почти не видим жестокой аскезы, практики самоистязаний. Господствующая аскеза русских святых – пост и труд». Не отвергали русские святые и книжного труда, хотя лишь немногие достигали учёности, зато многие святые Руси были иконописцами. Мистика, в смысле созерцательности, менее характерна для русской духовности, чем для греческой святости или католичества. «Ещё с меньшим правом можно говорить о ритуалистическом, или литургическом, направлении русской святости». Но при этом «идеалу рассудительной мерности» русский святой всё же изменяет в парадоксальной форме выражения идеала Христова смирения, - путём «социального опрощения», граничащего с юродством. В итоге «Древняя Русь была сильна простой и крепкой верой, до конца утоляемой в ограде Церкви, в её быте и в её узаконенном подвижничестве…, святое беспокойство и «богоискательство», - явление нового времени».
Е.И. Рерих пишет в своей брошюре «Знамя Преподобного Серия Радонежского»: «Одним из отличительных признаков великого народа служит его способность подниматься на ноги после падения». («Ванька-встанька»!). «В жизни русских монастырей со времён Сергия начался замечательный перелом: заметно оживилось стремление к иночеству». Если за 100 лет (1240 – 1340 гг.) на Руси возникло десятка три новых монастырей, из «куликовского поколения и его ближайших потомков» вышли основатели до 150 новых монастырей, так как «древнерусское монашество было точным показателем нравственного состояния всего мирского общества: стремление покидать мир усиливалось не оттого, что в миру скоплялись бедствия, а по мере того, как в нём возвышались нравственные силы». Если до половины Х1V в. почти все монастыри возникали в городах или под их стенами (в междуречье Оки и верхней Волги), с этого времени численный перевес получают обители, возникшие в лесной глухой пустыне, «ждавшей топора и сохи» (среди лесов костромского, ярославского и вологодского Заволжья). Поэтому к борьбе с недостатками духовной природы человека «присоединяется новая борьба с неудобствами внешней природы: лучше сказать, эта вторая цель стала новым средством достижения первой». То есть, организуя внешнее жизненное пространство, человек организует и пространство внутреннее, эмоциональное, интеллектуальное и духовное. Когда-то Преподобный Исаак Сирин сказал: «Когда мы в покое – демоны веселятся, а когда в трудах – Ангелы радуются».
Начинателем и образцом в этом организующем процессе был Сергий со своею обителью и учениками. Он родился в 1314 году в семье именитых бояр Ростовских Кирилла и Марии и был наречён при крещении Варфоломеем. Вотчина его родителей находилась в четырёх верстах от Ростова Великого, по дороге на Ярославль. Родители его были именитыми, но тихими и религиозными, охотно принимали странников. У Варфоломея был старший брат Стефан и младший Пётр. Грамота в церковной школе давалась ему плохо, поэтому родители часто его наказывали, а слёзная молитва самого отрока не помогала учению. Однажды, разыскивая коней в поле, Варфоломей встретил «старца-схимника, погружённого как бы в молитвенное созерцание». Старец, в ответ на просьбу Варфоломея молитвой помочь одолеть ему грамоту, пообещал, что Господь отныне даст ему разум в учении. Родителям же отрока он пояснил, что сыну их «надлежит сделаться обителью Пресвятой Троицы, дабы многих привести вслед себя к уразумению Божественных Заповедей». В 1330 году Варфоломей вместе со старшим братом Стефаном (к этому моменту тот овдовел и принял монашество) поселились в пустынном месте в 30 верстах от Радонежа, недалеко от речки Кончуры. Здесь впоследствии и возник славный Троицкий Монастырь.
Годы одиночества проходили в неизбежной борьбе с «тёмными силами». Ведь как справедливо указывают описатели жизни многих святых, «никто не может пребывать в непрестанном горении и постоянном восхищении духа, ибо не выдержала бы плоть его, особенно же в первые годы, поэтому за высоким подъёмом неминуемо следует уныние и даже острая тоска». «Лишь при неуклонном стремлении, при строжайшей дисциплине духа, с годами устанавливается внутреннее равновесие, и каждый подвижник находит свою меру постоянного горения, иначе говоря, устанавливается непрестанный ток общения с Силами Высшими», - пишет Н. Яровская в очерке о Преподобном Сергие Радонежском (сборник Е.И. Рерих). Преподобный сам рассказывал ученикам о мучивших его видениях («вплоть до «самого сатаны» и «полчищ бесовских»). Но были и чудесные видения и явления: когда порывом ветра загасило лампаду, Сергий настолько воспылал духом, что «книга просияла Светом Небесным», и он смог прочесть о житие Богородицы без лампады. Совладал он и со страхом перед дикими зверьми. С одним медведем он делился своими скудными запасами.
Постепенно в округе стали распространяться слухи о его подвижничестве; обитель стала наполняться учениками (поначалу их было не более 12 по причине трудности добывания пропитания). По мере роста обители Преподобный ввёл более строгий порядок, приближавшийся к первым христианским общинам – все равны и ни у кого нет ничего своего, вся жизнь общинная. «В келиях своих иноки большую часть времени проводили в чтении священного писания и в молитве; прекращая всякое сношение с братией…Будучи основоположником нового иноческого пути, Преподобный Сергий не изменил основному типу русского монашества, как он сложился в Киеве Х1-го века, но в его облике проступают ещё более утончённые и одухотворённые черты. Кротость, духовная ясность, величайшая простота являются основными чертами его духовного склада. При непрестанном труде мы нигде не видим поощрения суровой аскезы, нигде нет указаний на ношение вериг или истязаний плоти, но лишь непрестанный, радостный труд, как духовный, так и физический».
В обители была строгая дисциплина, от учеников требовался постоянный контроль над мыслями, словами и поступками. В его воспитательной школе создавались мужественные, бесстрашные люди, способные отказаться от всего личного ради общественного блага, творцы нового сознания и идеала братства и сотрудничества. Преподобный Сергий запрещал братии ходить по деревням и просить подаяния даже при отсутствии пропитания. Сам он не принимал от братии даже пищи без труда. Он действовал на других, прежде всего, личным примером, не произносил длительных проповедей, а его облик излучал умиротворяющую и ободряющую благодать.
Расширение общины потребовало постройки новых зданий: трапезной, поварни, пекарни, кладовых, амбаров и учреждения между братией целого ряда хозяйственных и церковных должностей. Преподобный учредил и странно-приёмный дом. Наверное, он первым положил на Руси начало монастырской благотворительности. Народ обрёл в нем духовного и телесного целителя. Монастыри были рассадниками жизни и просвещения; они развивали земледелие, строительство, ремёсла, закладывали основу государственности.
Обитель Сергия не обошли и распри, которые были инициированы его братом Стефаном. Сергий покинул обитель и построил другую, Киржачскую, куда потянулись его ученики. Возникали и внешние угрозы разрушения. Русь томилась под игом татар. Велико было нравственное влияние Преподобного на Великого князя Дмитрия. Хан Мамай решил окончательно сокрушить Русь, сговорился с Литовским князем Ягелло и русским князем Олегом Рязанским и двинул в 1380 году всю рать на Русь. Преподобный Сергий 18 августа благословил в Обители князя Дмитрия и его сподвижников на битву, предсказал погибель врагов. Для подкрепления духа послал он князю с собственноручной грамотой двух иноков, Александра Пересвета (бывшего боярина Брянского) и Андрея Ослябя (боярина Люберецкого) (они прослыли в миру богатырями). «Преподобный облёк их в великую схиму». Дмитрий, приняв личное начальство над воинством, смело повёл полки на Куликовское поле. Битва состоялась 8 сентября 1380 года. Перед очами Сергия проходили все перипетии боя, которые он сообщал братии во время церковного богослужения.
Как сообщается в брошюре «Знамя Преподобного Серия Радонежского», во второй половине Х1V века с православного Востока на Русь стало проникать учение Григория Санаита, так называемое «умное делание», суть которого заключалась в постоянном удержании в памяти Сил Высших, с последующим введением в сердце непрерывного общения с ними. Для этого использовались даже механические приёмы. Нигде нет указаний, что «умное делание» применял Преподобный, так как его общение с Богом достигалось путём раскрытия сердца. Вся жизнь его была постоянным прозрением в далёкое и близкое будущее. За полгода до своей кончины он получил откровение о своём исходе, который произошёл 25 сентября 1392 года на 78-ом году жизни. Чудесная его помощь Руси и обители не прекращалась и после смерти (в частности, во время смуты 1607-1613 гг.).
Более чем тысячелетняя история православия на Руси, как отмечается в книге В.И. Буганова и А.П. Богданова «Бунтари и правдоискатели в русской православной церкви», доказала его жизнеспособность, что не означает отсутствие внутренних конфликтов и разногласий, а также – наличия определённого и уникального опыта духовного подвижничества среди так называемых «еретиков» (движение стригольников в середине Х1V века; движение новгородских и московских еретиков конца ХV века, учение Феодосия Косого). Внутри приверженцев православия множество примеров противостояния официальной церковной доктрине (А.Ф. Замалеев, Е.А. Овчинникова «Еретики и ортодоксы», Л.: Лениздат, 1991), а также – борьбы между церковной (духовной) властью и властью царской, государственной (мирской); между позицией крайнего аскетизма, ограничений и сторонниками умеренного жизнелюбия; между идеей принятия любой власти и борьбой за равенство, всеобщее братство и справедливость даже с оружием в руках; между гностицизмом и ортодоксальным христианством; между представителями института церкви и антиклерикалами; между сторонниками экуменизма, объединения, более тесного взаимодействия христианских церквей и убеждёнными в чистоте собственных религиозных представлений (достаточно перечислить лишь несколько «еретических» течений на Руси: арианство, нестарианство, евтихианство, ереси монофизитов и другие). При этом зачастую древнерусские еретики пытались найти аргументы своей правоты именно в канонических текстах «против абсолютного засилия канонических догм». Далеко не все сведения о многих внутренних баталиях в недрах церкви сохранились (их иногда тщательно выкорчёвывали «огнём и мечом»), зато история раскола Русской православной церкви ХУП века – это весьма известный и поучительный опыт. Реформы Патриарха Никона хотя и закончились его победой, его личная судьба была трагической, так как в конце жизни он пытался духовную власть в лице церкви и себя лично поставить выше власти царской, что привело к его отстранению от патриаршества, фактической ссылке и смерти. Надо отметить, что борьбу за власть он вёл упорную и последовательную (В.И. Буганов, А.П. Богданов «Бунтари и правдоискатели в русской православной церкви»).
В любом случае при рассмотрении монашества и опыта духовного подвижничества на Руси нельзя не выделить опыт старообрядчества. Как пишет К. Кожурин в книге «Духовные учителя сокровенной Руси» хотя «без малого семьсот лет – от святого князя Владимира до царя Алексея Михайловича – пребывала неизменной православная вера на Руси…», которую «…русские приняли от греков, когда Церковь Христова была ещё едина. Но враг рода человеческого не дремал…Так пал Первый Рим. Затем отпавшие католики стали прельщать греков…, в 1453 г. пал Второй Рим – Константинополь. Остался последний оплот православной веры в мире: Третий Рим – Москва. К тому времени Московская Русь была уже сильным, независимым государством….».
Тем не менее, «в 1653 г. начались церковные реформы патриарха Никона, которые раскололи русское общество на два лагеря».
В задачи этой книги не входит рассматривать исторические и идеологические аспекты раскола христианской церкви на Руси, тем не менее, напомним основные его вехи. «В 1645 г. в Москве образовался кружок ревнителей церковного благочестия – так называемых боголюбцев. В этот кружок входили молодой царь Алексей Михайлович, царский духовник протопоп Стефан Внифантьев (Вонифатьев), протопоп Иоанн Неронов и некоторые другие. Целью кружка было благоустройство Русской Церкви. Боголюбцы понимали необходимость определённых церковных реформ, призывали к соблюдению христианской морали, много внимания уделяли проповеди, устраивали центры христианского просвещения, стремились поднять авторитет Церкви в глазах народа».
В 1646 году к кружку боголюбцев присоединился Никон (в миру Никита Минов), тогда ещё безвестный игумен северной Кожеозерской пустыни. Добившись архиерейской власти на Новгородской земле, во многом благодаря благоприятному впечатлению на царя, Никон начал вводить новации на вверенной ему земле. Он единолично вершил суд и расправу, рассматривал и уголовные дела, жестоко расправлялся с теми, кто жаловался на него царю; вместо древнего унисонного (одноголосого) пения ввёл партесное, по западному образцу.
«В 1651-1652 гг. среди боголюбцев начались разногласия по поводу выбора пути церковной реформы, - констатирует в своей книге К. Кожурин. «Епископ Павел Коломенский, протопоп Аввакум и протопоп Иоанн Неронов ревностно выступали за реформирование Церкви по русскому образцу, на основе постановлений знаменитого Стоглавого собора 1551 г., а митрополит Никон и царь Алексей Михайлович склонялись к реформированию по современному им греческому образцу, ошибочно принимая его за эталон древнего церковного предания».
По убеждению Б. Кутузова на церковной реформе лежит «тень Ватикана» (об этом он пишет в книге «Тайная миссия патриарха Никона»). Костры из книг и стремление «править прямое по кривому», лишь ухудшило общее качество писаний, усилило влияние Запада и Византии. Даже вместо древнего пения было введено новое, итальянское, крестные ходы и венчание стали ходить против Солнца, а иконы начали писать в западной манере. Но самое главное – церковь утратила дух соборности и попала под власть государства! А церковная иерархия (епископы, священники) отделились от народа, что во многом способствовало тенденции появления в народе таких психологических качеств, как «лжесмирения» и «лжепослушания». Затем появились такие явления, как отправления церковных таинств за деньги и нарушение тайны исповеди (то есть произошла коммерциализация и секуляризация церкви).
Всё это способствовало расколу русского общества. Кутузов отмечает, что на Поместном Соборе Русской Православной Церкви 1971 года старые русские церковные обряды были признаны спасительными и равночестными обрядам новым. «Осуждение собором 1667 года русского старого обряда было, как показывает более тщательное и беспристрастное исследование этого явления, сплошным недоразумением, ошибкою…». При беспристрастном рассмотрении раскола древней Русской церкви можно признать, что не старообрядчество от неё откололось, а «новообрядчество», которое, к тому же, насильно насаждалось на Руси с помощью казней и репрессий. В результате столкнулись как бы две «картины мира», одна из которых в результате оказалась ориентированной на Запад, другая – опиралась больше на русские традиции.
Тем не менее, мне представляется такое деление весьма условным, так как в его основе лежит всё то же дуалистическое, дихотомическое восприятие мира. В реальности, как старообрядчество, так и новообрядчество, сами по себе весьма неоднородны, да и ассоциировать то и другое с исконно русской или западной традицией можно, лишь не вдаваясь в детали. Но нас интересует не история вопроса и не идеологические расхождения. Нас интересует опыт подвижничества и опыт добровольного затворничества, который был как у старообрядцев, так и у представителей Русской Православной Церкви (РПЦ).
В силу того, что новообрядчество достаточно прочно срослось со светской властью и обществом, а старообрядчество было изгнано из официальной жизни общества (ведь главенствовало тоталитарное мышление), старообрядчество во многом в конце ХУП века повторило опыт мученичества и святости первых христиан. (Позднее, при Советской власти, подобный опыт станет достоянием и представителей РПЦ).
К. Кожурин пишет: «Мученическая смерть за веру всегда почиталась высшим христианским подвигом…Как известно, первыми русскими святыми стали именно князья-мученики Борис и Глеб…» Для староверов местом сбора гонимых за свою веру людей стала Куржецкая обитель, расположенная среди лесов и болот Новгородской земли. Здесь в 1656 году состоялся первый собор, чётко обозначивший свою непримиримую позицию к церковным реформам. Затем были, так называемые «кочующие соборы».
Старообрядцы – это, почти все, - яркие личности. Но даже среди них выделяется протопоп Аввакум (Аввакум Петрович Кондратьев, родился 25 ноября 1620 года в селе Григорове Закудемского стана Нижегородского уезда – ныне – Большемурашкинский район Нижегородской области). В результате обличения «никоновских ересей» протопоп Аввакум был сослан в Тобольск, а затем, вместе с экспедицией воеводы А.В. Пашкова, в Даурию. Вместе с ним все тяготы жизни на протяжении 11 лет сибирской ссылки и путешествия переносила и верная протопопица Анастасия Марковна с малолетними детьми.
Протопоп Аввакум не оставлял практику «умной» молитвы (идущую от византийского исихазма) и постоянно по памяти воспроизводил всю церковную службу. По примеру восточного христианина Григория Паламы, который обосновал положение о том, что космос и жизнь человека пронизаны Божественной благодатью, а приобщение к ней осуществляется посредством молитвы, протопоп Аввакум учил: «Во время молитвы, - окружит меня дух, и распространится ум, и радости неизглаголанные исполнится сердце». По мнению К. Кожурина, исихазм очень сильно повлиял на мировоззрение средневекового русского христианина, «сформировал на Руси тот образ отношения человека к окружающему миру и образ познания мира, который исследователи называют «кардиогносией» (т.е. «сердцеведением»)». Этот образ мыслей и жизни невольно вступал в противоречие с европейским гуманизмом, который насаждался с помощью реформ ХVП века.
13 мая 1666 г. в Успенском соборе Кремля протопоп Аввакум был расстрижен и проклят вместе со своим сподвижником диаконом Феодором. Его друзьям (священнику Лазарю и иноку Епифанию) были отрезаны языки. После суда протопопа Аввакума привезли в Никольский Угрешский монастырь и поместили под церковью в отдельную «палатку студёную над ледником». Здесь ему в праздник Вознесения Господня было видение Богородицы и Христа с «силами многими». «И Христос сказал, укрепляя страдальца: «Не бойся, Аз есмь с тобой!» 5 сентября 1666 г. его доставили в Боровский Пафнутьев монастырь, а в следующем году – переместили в Пустозерск, у Полярного круга, где вскоре заключили в «земляную тюрьму», в которой он провёл 15 лет, терпеливо снося жестокие страдания. За эти годы протопоп Аввакум написал свыше 40 сочинений, в которых обличал, увещевал противников, проповедовал старую веру и ободрял своих сподвижников. Карикатуры с надписями, порочащими царя, изготовленные протопопом Аввакумом, распространялись даже в Москве, что заставило власти принять решение о его казни вместе со сподвижниками. 14 апреля 1682 года он был сожжён в срубе вместе с диаконом Феодором, священником Лазарем и иноком Епифанием. Перед смертью Аввакум в точности предсказал скорую кончину молодого царя Фёдора Алексеевича: 27 апреля 1682 г.
Не менее героическим для старообрядцев является и пример боярыни Феодосии Прокопьевны Морозовой (инокиня Феодора). Ни лишение половины вотчин, ни репрессии не подействовали на неё. Даже в миру она вела монашеский, аскетический образ жизни, под одеждой носила власяницу. Местом её заточения был тюремный острог в городе Боровске. Вместе с ней содержалась её сестра, княгиня Евдокия Урусова, и их единомышленница, Мария Данилова; до них здесь находилась инокиня Иустина. В сырой и тёмной земляной тюрьме Боровска они провели около двух лет. После того, как режим их содержания ужесточился (у них отняли книги, иконы, одежду и пищу), их худая одежда истлела, яма кишела всякими насекомыми и гадами; им давали очень мало еды и питья. Но, как пишет К. Кожурин в своей книге, «мученицы продолжали творить непрестанную молитву, навязав из тряпиц пятьдесят узлов вместо отобранных чёток и по ним, словно по «небесовосходной лествице» устремляясь в иной мир».
После нового расследования в 1675 г. на площади в срубе было сожжено 14 боровских узников, а Морозову и Урусову посадили в «пятисаженные ямы», оставив их без еды и питья, где они и умерли от голода. Но народ в духовном поединке Морозовой с царём был на её стороне!
Во все времена Соловки не переставали давать Русской Церкви святых. «Соединение молитвы и труда, религиозное освещение культурно-хозяйственного подвига отмечает Соловки ХV1-ХVП вв.», - пишет К. Кожурин. Но мирная жизнь нарушилась в 1653 году, после нововведений и хулы на «двуперстное крестное знамение, которым знаменовались святые Зосима и Саватий Соловецкие, Сергий Радонежский и Кирилл Белозерский». Иноки Соловецкого монастыря продолжали служить по старым книгам, они писали царю челобитные, в которых умоляли оставить их в прежней вере. В 1668 году царские войска предприняли осаду главного оплота старой веры – Соловецкого монастыря. Четыре года длилась осада монастыря. Были и артиллерийские обстрелы, и приступы; нашёлся и предатель… «Проникнув в обитель, стрельцы начали жестокую расправу над иноками, которой, наверное, позавидовали бы даже зверствовавшие впоследствии на Соловках большевики». Некоторых страдальцев заморозили живьём в яме, медленно пуская туда воду. «Всего же в обители было замучено порядка 500 иноков и бельцов!» Казни сопровождались разграблениями монастырских святынь (как не увидеть в этом аналогию с «изъятием церковных ценностей»?). Говорят, что царь в последний момент раскаялся, но не успел снять осаду монастыря; более того, после внезапной болезни, он умирает, что было воспринято как Божья кара. Новый царь, Фёдор Алексеевич, наказал штурмовавших и разорявших обитель за превышение полномочий, заточив начальника стрельцов Мещеринова в тех же Соловках. Предатель же Феоктист повредился в уме, удалился в блудную страсть и сгнил заживо от болезни.
Из книги К. Кожурина мы узнаём, что за несколько десятилетий до начала раскола некий старец Капитон, который проповедовал приближение конца света, стал основателем «движения так называемых лесных старцев». «Собственно, «капитоновщина» явилась наиболее последовательным проведением в жизнь традиций восточно-христианской аскетики на русской почве ХVП столетия» (преподобного Симеона Столпника (356-459 гг.), который почти сорок лет провёл на своём столпу-площадке и в посты оставался без пищи, и Марии Египетской). Известно, что Капитон был уроженцем Заволжья, давшего Руси немало монахов-пустынников, находивших спасение души в многочисленных лесных скитах Русского Севера. «Скитское житие – любимая форма монашеского жития у преподобного Нила Сорского – в дальнейшем получит широкое развитие именно у старообрядцев». Капитон вёл суровую жизнь аскета: спал очень мало и в вертикальной позе («повисаше»); непрестанно молился; носил короткий плащ, не защищая ноги от холода; даже в праздники не разрешал своим ученикам ничего есть, кроме семян и ягод. Он и его ученики были пессимистами, придя к неутешительному выводу, что мир уже обречён, и единственный способ спасти свою бессмертную душу – уйти из этого мира. Все «крайности» проявления самоотречения порождались не только сознанием обречённости мира, но и собственной греховности. Поиск святости приводил к Капитону не только русских людей; среди его последователей был, например, Вавила, из лютеран, закончивший Сорбонну. Аскеты, подобные Капитону, не только били себя и истязали молитвами и поклонами, но и томили себя зноем и холодом, думая непрестанно о смерти. Об всём этом пишет в своей «Лествице» Иоанн Летвичник, описывая некую обитель под названием «Темница». Так называемая внецерковная («беспоповщинская») практика была распространена на Руси издавна; она выполнялась по келейному (не церковному) уставу, превратившемуся затем в устав скитский, по которому совершали службы многие монахи и, особенно, старцы и отшельники. Эта практика, естественно, существует и в настоящее время.
Старчество – специфическая черта русского православия, в форме которого происходило развитие духовного отцовства, руководства. И особенно актуальным старчество проявило себя в старообрядчестве, так как дом каждого старовера представлял собой монастырь в миру. Расцвет старчества во многом связывают с Оптиной пустыней и с Саровом, куда с середины Х1Х в. устремились представители разных сословий в поисках альтернативы «казённому» православию. Монашество во многом противостояло не только официальной церковной жизни, но и реформам Никона. Местное духовенство в своей массе стояло на более низком нравственном уровне, чем монашество и старообрядчество.
От старца иногда, в отличие от священника, требовалась личная харизма и духовный авторитет; его наставления выражали личный опыт Богообщения и единения с Богом. «В нём важен и воздействовал – живой пример, самое явление его личности…В общении со старцем, в его наставлениях человеку явственно приоткрывался иной мир, иной, высший образ существования». При таком подходе становится ясно, что церковная иерархия, – не самое главное, что необходимо для спасения душ, поэтому понятно, почему церковь не одобряла непосредственный опыт Богообщения!
Как пишет К. Кожурин, «к концу ХVП столетия старая вера укрепилась по всему Поморью, которое недаром называли «старообрядческой Фиваидой». Здесь по завету отцов и страдальцев Соловецких возникает крупнейший духовный центр, оказавший мощное воздействие на всё старообрядчество вплоть до наших дней,- Выговская поморская пустынь». Для северного поморья была характерна малочисленность священства и куда большая, чем в официальном православии, роль в церковной жизни самих мирян, большая их религиозность и ответственность в деле спасения души. В условиях севера, практически, сформировалась уникальная система совместного, общинного хозяйствования. Однако и в этом регионе гонения на старообрядцев не прекращались. Безысходность приводила к самосожжениям или сожжениям осаждаемых карательными отрядами самодержавия. Тем не менее, старообрядчество продолжало жить. Выдающийся проповедник староверов в новгородской земле Феодосий Васильевич (происходил из древнего рода князей Урусовых) после гонений на староверов, организованных митрополитом новгородским Иовом, переехал в 1699 году в Невельский уезд Речи Посполитой (в Польшу), куда за ним переселилось множество других единоверцев. С разрешения польских властей близ деревни Русановой Крапивинской волости были устроены мужская и женская обители (прожили там 9 лет). Устав монастырей во многом воспроизводил уставы подвижников Древней Руси – преподобных Пафнутия Боровского и Иосифа Волоцкого. В обителях имелись больницы, богадельни, многочисленные хозяйственные постройки, в которых постоянно работали все члены общины. Вдали от «греховного мира» «христианский мир» обителей был скорее не проявлением гордыни, а тяжёлым бременем людей, отказавшихся от компромисса с собственной совестью. Процветание обителей являлось соблазном для грабительских набегов польских солдат, поэтому староверы вынуждены были искать новые места. При содействии Александра Даниловича Меньшикова Феодосий получил разрешение переселиться с братией на земли князя в Псковской губернии, в Великолуцком уезде, «причём через торопецкого и великолуцкого коменданта Анатолия Алексеева им была обещана «в вере их вольность» и разрешено молиться по старопечатным книгам». Затем старообрядцы получили во владение мызу под Юрьевом Ливонским (ныне Тарту). При поездке через Новгород для оформления во владение Ряпиной мызы Феодосий был заточен в Орлову палату Архиерейского приказа, где и умер 18 июля 1711 г. Автор книги «Духовные учителя сокровенной Руси» К. Кожурин сравнивает роль Феодосия в деле сохранения древней православной культуры с ролью библейского Моисея. Нынешние староверы на новгородской, псковской, латвийской, литовской, эстонской, белорусской и польской земле - потомки сподвижников Феодосия Васильева.
Известно, что Пётр Первый назначил себя главой новообрядческой церкви; тогда была ограничена свобода выбора мирянином своего духовного отца; стала нарушаться тайна исповеди; крещение осуществлялось не по Апостольским правилам (путём трёх погружений), а поливанием и даже окроплением водой. Но для старообрядцев при Петре 1 были введены некоторые послабления: правительство видело в них уже свободных граждан, им разрешалось открыто жить в городах. При царствовании Николая 1 вновь началось гонение на старообрядцев. Выговскую пустынь душили экономически и духовно, были нанесены удары и по другим центрам старообрядчества. К. Кожурин с горечью констатирует: «Удивительная история! Веротерпимость в Российской империи распространялась на все религии, включая магометанство и язычество. Одни лишь староверы, коренные русские люди, должны были терпеть всевозможные притеснения и гонения за свою приверженность вере своих предков – древнеправославию».
Подобно первым христианам «выговцы» и «федосеевцы» придерживались строгой аскезы и безбрачия, как и первые христиане, ожидавшие скорого конца света. Как свидетельствует К. Кожурин, даже после того, как христианство в римской империи стало государственной религией и началось обмирщение церкви, «возникло монашеское движение – «великий исход в пустыню». Сам основатель монашества преподобный Антоний Великий дал обет безбрачия и советовал своим ученикам воздерживаться от семейной жизни. Так же и для первых русских иноков Киево-Печерского монастыря брак казался трудносовместимым с полным христианским идеалом. Например, преподобный Моисей Угрин (Х1в.) твёрдо помнил слова апостола Павла об угождении Богу и жене. Спустя четыре столетия преподобный Иосиф Волоцкий учил вполне в духе раннего беспоповства: «Девство брака выше есть и много честнейше». В Греции церковное заключение брака (венчание) вошло в жизнь с Х1 в., а на Руси – с ХШ столетия.
В старообрядчестве было велико влияние иноческой исихастской традиции, причём не в своей мистико-созерцательной форме (св. Григорий Синаит, св. Григорий Палама, св. Симеон Новый Богослов), а в жёсткой аскетической (традиция преподобных Антония Великого, Макария Египетского, Ефрема Сирина, Исаака Сирина, Максима Исповедника, Иоанна Лествичника и Дионисия Ареопагита). Колыбелью монашества была Киево-Печерская лавра и её пещеры. В 1720 году вышел царский указ, запрещавший затворничество, столпничество и другие суровые формы аскезы (тем более что они усиливали авторитет подвижников в ущерб авторитету господствующих иерархов). Но старчество сохранилось и в современной России.
Богослужение пустынников было предельно простым, они постоянно читали Иисусову молитву (в её дореформенном варианте – «умное делание») и клали определённое количество поклонов. Старообрядцы и по домам молились по Иисусовой молитве или по Псалтырю.
Основным стержнем старообрядчества было богослужение, как форма сотворчества Бога и верующего во Христа человека, как сочетание внутренних и внешних составляющих, вербальных и невербальных, при гармонии всех символических форм выражения истины, среди которых: иконопись, церковная гимнография, композиторское искусство, архитектура и, конечно, переживание соборности. Применение старообрядцами лестовки (древняя разновидность чёток из кожи или материи) относится к первым векам христианства. Её ввёл преподобный Пахомий Великий, основатель монастыря Фаваидской пустыни в Египте, желая приучить своих учеников к непрестанной молитве. «Перебирая её, молящийся мысленно восходит по лестнице добродетелей». В старообрядческих храмах молятся и крестятся все одновременно, а не как когда кому вздумается или захочется в «порыве чувств». Молиться на коленях считается католическим обычаем; земные поклоны делаются в специальный молитвенный коврик; «руки во время молитвы складываются на груди горизонтально, на уровне локтей, одна на другую – правая на левую». В храме запрещаются хождения и разговоры. Пение старообрядческое – древнерусское знаменное пение, одноголосое. Церковное чтение отличается тем, что для каждого вида служебного чтения существует своя интонация, мелодия. В монастырях правилами предписывалось: «трудоделание, повиновение настоятелю, отказ от личного имущества; осуждались излишества в одежде, пище, украшении икон», но все члены общины были равны, все общинные дела решались единогласно. Были не только мужские, но и женские монастыри.
Основная цель любого монашества – приближение к Богу и отдаление от мирского. На этом пути лишь немногие достигали святости. Ссылаясь на работу Владимира Топорова о Георгии Фетотове, А. Мень в предисловии к книге Г. Федотова «Святые Древней Руси» отмечает: «понятие святости имеет свой источник в дохристианской традиции. В славянском язычестве это понятие связано с таинственным избытком жизненной силы». В «Библии» святость означает связь земного, человеческого с тайной божественного. Святой имеет печать иного мира. То есть святые в христианской традиции – это не только добрые, праведные, благочестивые люди, но и причастные запредельной реальности. Они указывают также путь в будущее.
Митрополит Иерофей Влахос в «Православной психотерапии» отмечает, что «святые богословствуют не по-аристотелевски, с помощью логики и философии, но как рыбаки, то есть подобно апостолам, на основании собственного опыта, пройдя через внутренние очищение и откровение ума». Но, как признаёт Г. Федотов в книге о святых, «русские святые – не русский народ. Во многом святые являются прямым отрицанием мира, то есть жизни народа, к которому они принадлежат. Идеализация русской жизни была бы извращённым выводом из сияния их святости».
«Слово «святость» в Ветхом Завете связано с семитским корнем кодеш (kdsh) – «святость», «священность»). Производные от этого корня слова встречаются в языке ветхозаветных книг 830 раз…», - сообщается в издании Поместного Собора Русской Православной Церкви, посвящённом юбилею 1000-летия Крещения Руси, «Канонизация святых» (Троице-Сергиева Лавра, 6-9 июня 1988 г.). При этом предлагается выделять «два взаимосвязанных аспекта – этимологический и семантический. С одной стороны, это кодеш – «выделить», «очистить», «объявить что-то неприкосновенным». «Семантическая окраска понятия «кодеш» в контексте Ветхого Завета обуславливается чрезвычайным откровением Божиим, Бог явил Себя Святым, Он открыл Свою Святость».
В текстах Ветхого Завета можно наблюдать и признаки святости. «Святость есть отличительная черта Бога, уже само имя Его свято». «Бог завещает, чтобы Его святое имя не бесчестилось». Поэтому в Ветхом Завете устанавливаются «подробности жертвоприношения – богослужения, необходимые для соблюдения чистоты – святости культа…с глубокой верой…и личным совершенством…». «Устанавливая культ, Господь выделяет для Себя место (земля, святилище, храм), избирает Себе удел-клир (священники, левиты, певцы, назореи, пророки), предметы (приношения, одежда) и время (субботы, юбилейные годы, праздники)».
Однако, как подчёркивается в издании «Канонизация святых», в книгах Ветхого Завета «наблюдается различие в понимании святости в Законе и у Пророков, наибольший акцент в Законе ставится на святости ритуала, на внешнем исполнении предписаний. О более высоком идеале говорят пророки, неустанно повторяющие, что исполнение внешних предписаний и приношения жертв недостаточно, но для святости ещё необходимы правда, послушание, милость и любовь». Именно эти качества явились принципиально новыми в Новом Завете, то есть «святость и любовь во Христе тождественны. В силу Своей святости Христос так любит Своих, что, жертвуя Собой, приобщает их к Своей славе: «И за них Я посвящаю Себя, чтобы и они были освящены истиною» (Ин.17,19)». Для всех верующих открывается возможность «стать реально новым творением» благодаря дару благодати крещения.
«В преимущественном смысле святыми Церковь с самого начала своего существования называет тех людей, которые, очистившись от греха, стяжали Духа Святого в разнообразии даров Его в нашем мире. Очищенный от греха причастен святости и бессмертию, так как грех есть жало смерти (1 Кор. 15, 56)». Обетование телесного воскрешения в христианстве явилось основой почитания останков святых, «как тел, причастных благодатному действию Духа Божия через облагодатствованные души этих тел».
Первоначальные списки святых Древней Церкви «составляли ветхозаветные патриархи и пророки, новозаветные апостолы и мужи апостольские, а также пострадавшие за Христа свидетели-мученики; всех их можно отнести к единому разряду христианских святых.
К спискам этой категории должны быть отнесены и «святители» - первоиерархи Церквей…». Хотя «чествование мучеников было несколько выше, чем епископов…». «Другую категорию святых – «преподобных» - составляли прославленные в христианском подвиге отшельники, аскеты-анахореты, распространившиеся в большом количестве в пустынях Египта и Палестины с конца четвёртого века».
К этой же категории христианских святых надо отнести и «исповедников» - людей, претерпевших за Христа истязания, пытки или заключение, ссылку, но не пострадавших как мученики. Как сообщается в «Канонизации святых», «ещё одну категорию святых Древней Церкви составляют прославившиеся заслугами перед Церковью цари и князья, получившие наименование «святых благоверных». На Руси – это: князь Владимир, княгиня Ольга, святые братья Кирилл и Мефодий, и другие.
«Начиная с четвёртого века в монашеской среде Александрийской Церкви возникает ещё один тип святости – юродство». Сам по себе подвиг юродства не является самоцелью; позднее появились запреты Церкви на мнимых юродивых. «Подлинно юродивые приносили не только плоть иимение своё в жертву Богу, но и высшее дарование Бога человеку – разум. Такой безумный Христа ради должен был исполнять функцию общественной терапии, т.е. подвиг юродства всегда направлялся вовне, на исцеление общества людей самых разных социальных сфер». На Руси первым юродивым был киевопечерский чернец Исаакий, умерший в 1090 году. Затем, вплоть до четырнадцатого века, в источниках юродство не встречается. Расцвет этого подвига в Русской Церкви приходится на период с ХV до начала ХVП века. С середины ХVП в. число канонизированных юродивых резко уменьшилось. Наиболее известные святые-юродивые – это: Преподобный Симеон Эмесский (V1 век); Блаженный Андрей Цареградский (Х век); Василий Блаженный (ХV-ХV1 вв.), именем которого назван собор на Красной площади в Москве, - он мог изобличать в грехах самого Ивана Грозного. В ХVШ веке в Петербурге – это подвижница Блаженная Ксения Петербургская, которая почитается и поныне. Она стала юродивой после смерти любимого мужа.
Подвиг «юродства Христа ради» взял на себя в годы коллективизации крестьянин из села Каурчиха, Алексей Иванович Ворошин (Мученик Алексей). Он, уважаемый среди односельчан как исключительно честный человек, всё свободное время посвящавший молитве и чтению духовной литературы, был избран в 1917 году ими председателем. Но через год в деревню прислали нового главу сельсовета, поэтому Ворошин сдал ему ключи, печать, уединился в келье, чтобы полностью отдаться молитве и посту. Через девять лет началась коллективизация, и Алексей Иванович покинул келью, оделся в лохмотья и начал проявлять себя странным образом – например, перед конфискацией имущества сапожника появился в гостях у него абсолютно голым. Перед закрытием храма властями зашёл в него в шапке и с папироской в зубах. Власти несколько раз его направляли в костромскую психиатрическую лечебницу, но врачи признавали его здоровым и отпускали. В 1937 году его заключили в тюрьму, где его жестоко пытали, требуя оговорить себя. Умер он в тюремной больнице; на тринадцатый день тело было отдано родственникам и погребено на кладбище в г. Кинешме. 25 сентября 1985 года останки блаженного были перенесены в храм села Жарки. Сейчас мощи блаженного находятся в Свято-Введенском женском монастыре города Иваново (журнал «Фома», июнь 2012).
В журнале «Фома» приводятся основные признаки «подмены» юродства, то есть качеств, отличающих подлинное юродство от его имитации. Это: внешнее целеполагание (юродивый возвещает правду Божию, а не человеческую); внутренняя мотивация (юродство движимо Духом Святым, а не прагматическими, рациональными соображениями); наличие глубокой веры; смиренное принятие насмешек, поношений; обладание пророческим даром. В материале, посвящённом теме юродства, журнал «Фома» задаётся вопросом: «Зачем юродивые взрывали общественный покой?» Юродство и мученичество находится, в основном, в позиции «дополнительности»: там, где возникает мученичество, юродство возникнуть не может. Лишь в советское время юродивые превращались немедленно в мучеников. Юродство византийское было направлено против гнёта Церкви, юродство древнерусское – против политической власти. «Предела политического влияния юродивые достигли при царе Фёдоре Иоанновиче, который действительно их любил уже без меры. При нём сформировался культ Василия Блаженного и культ Иоанна Большого колпака», - утверждает в своём интервью журналу «Фома» православный богослов из Франции Жан-Клод Ларше. Для Петра Первого юродство олицетворяло всё, что он ненавидел в России, так как это нарушало установленные государством законы.
Юродство вносило как бы «хаос» в установленный людьми и правителями порядок. Но поскольку любой, установленный людьми порядок, не совершенен, то его нарушение иногда бывает необходимо. Роль «нарушителей от Бога», на мой взгляд, как раз и исполняют святые и, прежде всего, юродивые. Специалист в области шаманизма, Холджер Колвейт, в фрагменте книги, представленном в работе К. и С. Гроф «Духовный кризис», отмечает: «Святой дурак» указывает на ограниченность человеческих критериев, вновь ставит нас перед неопределённой природой нашего космического бытия, ведёт нас за кулисы, чтобы заставить осознать искусственность наших культурных ценностей, а затем показывает нам мир без предела, потому что он не упорядочен и не классифицирован в соответствии с искусственными противоположностями. Юродивый устраняет эти противоположности, разрушает внутренние и внешние барьеры и заставляет нас лететь кувырком из нашего сделанного на заказ мира линий и разграничений в более всеобъемлющее и целостное измерение, которое не имеет ни начала, ни конца». Но зададимся вопросами: легко ли жить в таком («подлинном») мире простому человеку? Да и нужно ли?
Правила Русской Православной Церкви при причислении подвижников к лику святых в общих чертах напоминают правила Церкви Константинопольской. «Основным критерием канонизации служил дар чудотворный, проявленный при жизни и по кончине святого, а в некоторых случаях – наличие нетленных останков. Сама канонизация имела три вида». Наряду с учётом характера служения (мученики, святители, преподобные, исповедники, благоверные, юродивые) святые разделялись по «распространённости их почитания – местнохрамовые, местноепархиальные и общенациональные». Право канонизации общецерковных святых принадлежало Митрополиту или Патриарху Всея Руси при участии Собора русских иерархов. В монастырях почитание подвижников могло начинаться по решению совета монастырских старцев.
В издании «Канонизация святых» даны краткие описания жизни некоторых святых. Например, вся жизнь Преподобного Андрея Рублёва была связана с монастырями: Троице-Сергиевым и Спасо-Андрониковым в Москве. Богослов Преподобный Максим Грек (ХV в.) в своих богословских трудах писал о приверженности русских к обрядовой стороне веры; он вёл борьбу против местных суеверий: веры в сны, в приметы, гадания и т.п. Его беспокоило увлечение княжеского двора астрологией. Блаженная Ксения Петербургская начала свой подвиг юродства после кончины любимого мужа (ей было 26 лет). В день похорон она надела его мужскую одежду, стала называться «Андрей Фёдорович», раздала всё своё имение, начала скитаться, молиться и стяжала дар прозорливости.
Блестящий пример подвижничества мы находим в описании жития и трудах Святителя Игнатия Брянчанинова. С детских лет он мечтал уйти в монастырь, но стал первым учеником Военного Инженерного училища в Петербурге. (Писатель Николай Лесков описал его жизнь в своём рассказе «Кадетский корпус»). Он служил, но в 1827 году вступил в число послушников Александро-Свирского монастыря Олонецкой губернии (сам Николай 1 был против его увольнения со светской службы). Позднее стал игуменом; был возведён в сан архимандрита; затем – в сан епископа. Несмотря на высокий сан, всегда оставался, по сути, аскетом-пустынником; сохранял внутреннюю сосредоточенность и непрестанно совершал Иисусову молитву, проводил бессонные ночи в слезах и покаянии, умел скрывать от людей свои подвиги.
Житие Преподобного Амвросия, Старца Оптинского, является примером не только святости, но и непрерывной борьбы с телесной немощью, болезнью. Он был сыном пономаря, в 1835 году сильно заболел; надежды на выздоровление не было, поэтому он дал обет уйти в монастырь в случае исцеления. После продолжительной болезни с сентября 1846 до лета 1848 года Амвросий был пострижен в схиму. Позднее он говорил: «Монаху не следует серьёзно лечиться, а только подлечиваться». На протяжении всей жизни он испытывал тяжёлые физические страдания.
Святитель Феофан Затворник (в миру - Георгий Васильевич Говоров) родился в 1815 году в семье священника. В своих учениях он излагал основы православной психологии, опускался в самые тёмные лабиринты человеческого духа; он перевёл писания о духовной жизни основателей и учителей христианского аскетизма «Добротолюбие». Умер 6 января 1884 года. Феофан Затворник писал о смерти: «Умирать – это не особенность какая. И ждать надо. Как бодрствующий днём ждёт ночи, чтобы соснуть, так и живущим надо впереди увидеть конец, чтобы опочить. Только даруй, Боже, почить о Господе, чтобы с Господом быть всегда».
Двухлетним мальчиком митрополит Вениамин (Ваня Федченков) был отвезён матерью к мощам св. Митрофана в Воронеже (после того, как она дала обет совершить паломничество, если он выздоровеет). Там старец-схимник предрёк, что он станет «духовным светильником» (лишь после кончины матери сестра владыки поведала ему об этом предсказании). После окончания духовной академии в 1907 году он принял монашество; много лет занимался научной и административно-педагогической деятельностью, был избран членом Поместного Собора Православной Российской Церкви, проходившего в 1917-1918 годах, был членом Украинского Церковного собора, отстаивал единство Церкви, в феврале 1919 года стал епископом Севастопольским; после эвакуации белых из Новороссийска в Крым епископ Вениамин примкнул к белому движению, стал представителем ВВЦУ (Временного Высшего Церковного Управления) епархий Юго-Востока России при Совете министров при бароне П.Н. Врангеле. Продолжил организационную церковную деятельность в Турции, Сербии, готовил проведение Всезарубежного Церковного Собора; преподавал в Парижском Православном Богословском институте; вместе с другими основал первый приход Московской Патриархии в Париже. С 1933 года он нёс послушание в Америке, оказывал действенную помощь в годы Второй мировой войны Красной Армии. Зимой 1945 года побывал в СССР, а в 1947 году окончательно вернулся в Россию. Ему было вверено управление Рижской и Латвийской епархии. Скончался в 1961 году в Псково-Печерском монастыре. Оставил книгу воспоминаний «На рубеже эпох» и рассказы о праведниках Русской земли «Божии люди» (о старцах Оптиной пустыни, первым из которых был отец Лев, или Леонид).
Митрополит Вениамин, ссылаясь на опыт архимандрита Иоанна (Раева), своего сокурсника по духовной академии, сравнивает монашество с цветущим лугом (сверху – цветы и яркая зелень, а внизу – грязь и даже черви). Он пишет: «Так и монашество,- говорил о. Иоанн, - лишь на высотах и совне – красиво; а самый подвиг иноческий и труден, и проходит через нечистоты, и в большей части монашеской жизни является крестной борьбой с греховными страстями». Да «и в Житиях Святых описываются большей частью светлые явления из жизни их и особенные подвиги. А о греховной борьбе упоминается обычно кратко и мимоходом. И никогда почти не рассказывается о ней подробно. Исключением является лишь житие св. Марии Египетской, от смрадных грехов дошедшей потом до ангелоподобной чистоты и совершенства».
М.В. Лодыженский в книгах: «Свет незримый» и «Сверхсознание и пути к его достижению. Индусская Раджа-Йога и Христианское Подвижничество», пишет о двух главных типах святых людей – «о типе созерцательном и о типе деятельном». Первый тип святых идёт путём аскезы, путём поиска пути непосредственно к Богу; второй тип обретает Бога ну пути большего служения людям и любви к ним. Серафим Саровский совмещал оба этих пути.
Даже в современной России почти каждый знает о Серафиме Саровском (в миру – Прохор Мошнин), который родился в 1759-м году в г. Курске в купеческой семье, а умер в возрасте 74 лет в 1833 году. Как пишет М.В. Лодыженский в работе «Свет незримый», «тысячу дней и тысячу ночей простоял он на камне». Было ему тогда 40 лет, и этот подвиг он совершил с целью развить духовность и окончательно победить искушения. Но судьба и после этого посылала ему испытания – хотя в руках Серафима был топор, он позволил разбойникам в лесу изуродовать себя («голова его была пробита, рёбра сломаны, грудь отоптана»). Но нравственная, духовная мощь его продолжала возрастать. На седьмом десятке лет Серафим Саровский закончил уединённую жизнь и стал активно помогать людям. Он обладал даром исцеления и прозорливостью.
Примером нелёгкого служения христианскому идеалу является жизнь и подвиг Патриарха Тихона (19 января 1865 – 7 апреля 1925 года) (в миру – Василий Иванович Беллавин). Михаил Вострышев в серии «ЖЗЛ» представил его биографию. 14 декабря 1891 года в возрасте 26 лет он был пострижен в монашество с именем Тихон в честь святителя Тихона Задонского, чудотворца и великого учителя иночества, дав обет исполнения трёх жёстких ограничений: девства, нищеты и отречения от собственной воли ради служения Богу. Отец Тихон много лет занимался воспитанием будущих священнослужителей, стал прекрасным организатором, написал множество интересных работ; выступал с проповедями, а позднее принял на себя бремя Патриаршества в тяжёлое для России и церкви время 21 ноября 1917 года (дата интронизации в Успенском соборе Кремля). Ещё при наречении в сан епископа Люблинского в речи архимандрита Тихона проявилась вся глубина понимания нелёгкого своего служения: «И истинная жизнь епископа есть постоянное умирание от забот, трудов и печалей». Будучи епископом Алеутским и Аляскинским на американском материке отец Тихон особое внимание уделял распространению православия, строительству приютов и церковно-приходских школ.
Как известно, патриаршество на Руси отменил Пётр Первый, испугавшись конкуренции Церкви, учредив для управления церковными делами Духовный коллегиум или Синод. В начале ХХ века в России было более ста миллионов прихожан, которые жаждали восстановления соборности и патриаршества, которое по стилю своего управления «более приближало к строю, начертанному в канонах», - писал в Святейший Синод архиепископ Алеутский и Северо-Американский Тихон. Став Патриархом, Владыка Тихон обрёк себя на путь мученика, на котором было всё: гонения и насмешки; допросы, тюрьма и перспектива расстрела. Страна проходила через зверства гражданской войны, массовые расстрелы и нечеловеческие муки духовенства; через голод и принудительное изъятие церковных святынь (1922 год), революционные трибуналы над священнослужителями и мирянами, которые сопротивлялись произволу властей; уничтожение храмов и святых мощей (перетряхнули раки с мощами великих русских святых Александра Невского, Сергия Радонежского, Тихона Задонского). Вскрытия неоднократно сопровождалось надругательствами и глумлением. Владыка Тихон выступал не только с проповедями и речами, но и писал воззвания и протесты в Советское правительство, в которых давал оценку подобному вандализму и безбожию.
Но, как отмечает автор книги о Патриархе Тихоне, «владыка не только знал, как надо жить, но и готов был умереть». В письме из тюрьмы он писал: «В детстве и отрочестве я зачитывался житиями святых и восхищался их героизмом, их святым воодушевлением, жалел, что времена не те и не придётся переживать то, что они переживали. Времена переменились, открывается возможность терпеть ради Христа от своих и чужих. Трудно, тяжело страдать, но по мере наших страданий избыточествует и утешение от Бога….Об этом я ранее говорил другим, но мои страдания не достигали полной меры. Теперь, кажется, пришлось пережить всё: тюрьму, суд, общественное заплёвывание, обречение и требование самой смерти под якобы народные аплодисменты, людскую неблагодарность, продажность, непостоянство и т.п., беспокойство и ответственность за судьбы других людей и даже за самою Церковь».
В России к 1917 году существовало четыре лавры и около 1200 штатных и заштатных монастырей, пустынь, киновий, скитов, общин, сообщается в книге М. Вострышева «Патриарх Тихон». Монахи владели землёй, имели свои мельницы, кузницы, мастерские, заводы, скотные дворы и стада молочных коров. Монахи занимались рыболовством, пчеловодством, разводили фруктовые сады, изготовляли церковную утварь, печатали книги. «За первые три года правления большевиков в России уничтожили 673 монастыря. Остальные, находясь под бдительным оком «комиссаров по монастырям», доживали последние дни». Несмотря на обращения Патриарха Тихона лично к Ленину, была закрыта Троице-Сергиева лавра, откуда были вывезены мощи преподобного Сергия Радонежского. Сам факт церковного служения Патриарха был поставлен под личный контроль председателя ВЦИК М.И. Калинина (но богомольцы, в том числе и из числа рабочих фабрик, добивались разрешений у Калинина). Много проблем Церкви в те годы создавали и обновленцы.
Хочу процитировать слова отца Тихона в отношении таинства брака, который он уподоблял благодатному союзу Христа и Церкви, который крайне необходим в земной юдоли плача и печали. Опираясь на семейный опыт своих родителей (отец был священником), он убеждён, что жена является мужу «лучшим товарищем, другом, утешителем и помощником мужчины, как человека по преимуществу ума, твёрдости, мужества, характера. Муж получает восполнение своих сил из даров женской природы; в жене он находит себе поддержку и помощь».
Ныне, как мы знаем, святитель Тихон, Патриарх Московский и Всея Руси причислен к лику святых. Люди идут поклониться его святым мощам.
Надо отметить, что в современной России происходит возрождение интереса к православной культуре; монашество и святость получают своё дальнейшее развитие. Архимандрит Тихон (Шевкунов) в книге «Несвятые святые» и другие рассказы», анализируя приход подобных себе молодых людей в монашество, пишет: «Шёл 1984 год…Ещё год назад все мы были убеждены, что в монастырь в наше время идут либо фанатики, либо безнадёжно несостоявшиеся в жизни люди! Да! – и ещё жертвы неразделённой любви». Но, на самом деле, друзья Шевкунова были весьма успешными и образованными молодыми людьми (сам он закончил сценарный факультет ВГИКа). «Так почему же мы пришли в монастырь и всей душой желали остаться здесь навсегда?» - задаёт он вопрос. «Мы все хорошо знали ответ на этот вопрос. Потому что каждому из нас открылся прекрасный, не сравнимый ни с чем мир. И этот мир оказался безмерно притягательнее, нежели тот, в котором мы к тому времени прожили свои недолгие и тоже по-своему очень счастливые годы». И об этом мире, «бесконечно светлом, полном любви и радостных открытий, надежды и счастья, испытаний, побед и обретения смысла поражений, а самое главное – о могущественных явлениях силы и помощи Божией», Шевкунов рассказал в своей книге.
Шевкунов откровенно поведал читателям также о череде искушений, соблазнов и заблуждений, о непростом периоде послушничества. В частности, он рассказал о спиритических сеансах (во время одного из них был вызван дух Сталина, который предсказал, что страной будет править «какой-то Горбачев»). Несмотря на точность подобных прогнозов, «без всяких причин нас всё больше охватывали безотчётная тоска и мрачная безысходность. Всё валилось из рук. Неумолимое отчаяние овладевало нами». А потом вызываемый ими дух подвёл к мысли о самоубийстве. Вовремя пришли молодые люди в церковь, рассказали всё священнику, потом стали читать Евангелие, а через год Шевкунов понял, что «жизнь без Бога будет лишена для меня всякого смысла».
В книге Шевкунова предстаёт череда «несвятых святых», некоторые из которых (например, архимандрит Псковско-Печорского монастыря Иоанн (Крестьянкин) прошли через тюрьмы и лагеря. Отец Иоанн отзывался о времени, проведенном в лагерях, как о самом счастливом в своей жизни, «потому, что Бог был рядом… Почему-то не помню ничего плохого…Только помню: небо отверсто и Ангелы поют в небесах! Сейчас такой молитвы у меня нет…»
Святой Франциск Ассизский, католический святой, родился в 1182 году в Италии, в семье богатого торговца сукнами. Он обладал врождённой добротой и альтруизмом. Он начал усердно способствовать восстановлению церквей и храмов, собирал подаяния для этого, сам переносил камни для их постройки. Питался он также подаянием и начал жизнь отшельника: дни и ночи проводил в горячих молитвах в пещере или в шалаше. Ему представлялось, что его судьба – стать апостолом и начать проповедовать покаяние и приближение Царства Небесного. Сам Папа благословил Франциска и его братьев на это, подчинив авторитету католической церкви. Потом было путешествие в Египет с миссионерскими целями. Несмотря на то, что его здоровье всегда было слабым, ел он мало, а спал в сидячем положении с камнем или деревом вместо подушки. Мистическое чувство проявлялось у него в различных видениях (иногда уподоблялся Христу, а с неба к нему нисходил шестикрылый серафим) и в стигматах (на руках и ногах появились как бы следы гвоздей, а на правой стороне груди – след от удара копья, из которого источалась кровь). В 1226 году, с приближением смерти, Франциск, как пишет М.В. Лодыженский, «выразил своё преклонение перед нищетой. Он приказал раздеть себя до нага и положить на голую землю». Умер он 3 октября 1228 года и был канонизирован римской католической церковью, как святой.
Лео Мулен в книге «Повседневная жизнь средневековых монахов Западной Европы Х-ХV века» анализирует историю основных монашеских орденов Европы в Х-ХV веках. Святой Бенедикт Нурсийский, живший в V1 веке (Папа Пий ХП назвал его «Отец Европы» в 1947 году), стоял у истоков монашества, а «первый крупный централизованный орден на Западе, Клюнийский (Х век), был основан по бенедиктинскому уставу в духе «Монастырского капитулярия» св. Бенедикта Аньянского (скончался в 821 году), обеспечивающего известное единообразие монастырских уставов».
Монастыри находили себе место среди лесов и горных долин, в тишине и уединении, вдали от городов, рассадников соблазнов и погибели. В ХШ веке, как бы в противовес городской роскоши, в Европе создаются ордена, которые будут беднее самых бедных (даже непосредственно в городах). Создаются нищенствующие ордена: «в 1209 году – францисканцы, объединившиеся вокруг Франциска Ассизского (1182 – 1226); кармелиты с уставом 1226 года, времён св. Симона Стока; доминиканцы, ревностные чада кастильца Доминика де Гусмана (1170-1221)». Последний нищенствующий орден – минимы (создан в 1435 году св. Франческо де Паоло). Одни из них занимались строгим соблюдением догматов веры и вели созерцательный образ жизни, другие – помощью ближним (например, тринитарии и мерседарии занимались выкупом христиан, попавших в руки берберов). Идеал бедности притягивал христиан потому, что он во многом являлся и идеалом свободы от собственности, освобождением от зависимости, символом «полного отречения» от земной жизни, ибо единственным богатством представлялся Христос, то есть, фактически, идеалом было «инобытие», идеал небесный. В результате некоторые нищенствующие монахи просили подаяние натурой, что, по сути, ставило их в зависимость от общества. Поэтому, наверное, европейское и даже православное монашество шло по пути организации собственного независимого хозяйства.
Св. Бенедикт принимал во внимание слабости человеческой природы, поэтому даже рацион питания в его уставе не прописывался жёстко. Хотя долгий день монаха и распорядок его дня отличался особой строгостью и строгим регламентом. Особое место в них отводилось, конечно, молитве (индивидуальной и коллективной), участию в богослужении. Прежде всего, в ночные часы и при первой заре, в предрассветные сумерки. Надо отметить, что искусственное освещение в монастырях в средние века было редкостью.
Вкушать пищу разрешалось не раньше полудня. В некоторых обителях есть можно было лишь один раз в сутки (например, зимой в 3 часа дня, а в Великий пост – в 6 часов вечера). Иногда летом, особенно при совмещении с сельскохозяйственными работами, предусматривались две трапезы: обед в полдень и легкий ужин около 17-18 часов, отменявшийся во время постов. Меню монаха в большинстве монастырей было более чем скромное. В него входила каша, овощи, некоторые фрукты, бобы (наряду с ними основной пищей являлся хлеб), яйца, молоко. Иногда – сыр и мясо. Тем не менее, именно монастыри освоили первыми и усовершенствовали в Европе методы консервации вин, изготовления печенья, пряников, сыра, сидра и мёда. Причём эти продукты запасались не только для монахов, но и шли на продажу. Применялись специи (перец, тмин, шафран, мускатный орех, имбирь, корица), душистые травы и приправы (кервель, петрушка, укроп, чеснок, хрен, горчица, уксус), оливковое и сливочное масло. Большинство монахов всё же были вегетарианцами, ограничивалось потребление мяса четвероногих животных (за исключением дичи). Традиционной пищей считалась рыба (каскады живорыбных садков, обнесённых камнями, монахи сооружали с незапамятных времён). Уже в средние века монахи практиковали искусственное оплодотворение рыбы. Автор книги «Повседневная жизнь…» утверждает, что «именно монахам мы обязаны традицией потребления сыров». Существовали и сладости – разнообразная выпечка, включая вафли. Некоторые монахи во время постов питались только хлебом и водой. Но были ещё большие крайности. Лео Мулен пишет: «Среди наиболее строгих аскетов отметим св. Целестина. Он постился ежедневно, а три раза в неделю питался только хлебом и водой. Часто он довольствовался одними капустными листьями без хлеба; в его году было шесть Великих постов…, св. Симеон вкушал пищу, судя по всему, только один раз в неделю в течение всего Великого поста, а в другое время года – один раз в три дня….». Были и другие, не менее удивительные примеры самоограничения, которым следовали не только восточные подвижники, но и западные.
«Монахи стояли у истоков нашего этикета», так как, например, не разрешалось заглядывать в тарелку соседа, заходить на кухню, питаться вне трапезной.
«Церковь вернула виноградникам достоинство», так как в христианстве для литургии нужно было вино. Ссылаясь на Ж. Клодьяна, Лео Мулен пишет, что «роль монашества в «селекционной работе и в совершенствовании виноделия остаётся главенствующей до ХVШ века. Поистине, монахи в буквальном смысле – «отцы виноградарства». И этим делом руководил непосредственно сам аббат. Редко какой монастырь не имел своего виноградника. «С появлением Устава св. Бенедикта, распространившегося по всему Западу, вино окончательно сделалось разрешённым и рассматривалось как элемент ежедневного рациона питания». Патриарх Запада не рекомендовал пить воду и утверждал, что делает уступку общественному мнению, слабости человеческой природе и «принципу дискретности» (то есть индивидуальному подходу), хотя вино не подходит образу жизни монахов. Он позволял превышать рацион в трёх случаях: в связи с местными условиями (сухой климат и отсутствие фруктов в рационе питания); по случаю сезонной работы (жатва, сенокос, работа в мастерских); в период летней жары. С приходом св. Бенедикта Аньянского (1Х век) к вину стали относиться строже – оно разрешалось как лекарство для больных, стариков и тем монахам, «коим необходимо подкреплять свои силы в суровых дисциплинах». «Если верить историку Кастельно, в 1Х веке потребление вина составляло 1132 литра в год на монаха (а по моим подсчётам даже больше!)», - пишет Лео Мулен. «В конце Х1V века монахи бенедиктинского аббатства Сен-Пьер-де-Без получали по литру вина в праздники и примерно по пол-литра – в будни дни…В Х1V веке австрийские монахи выпивали от двух до четырёх литров вина в день!». Таким образом, изменённое состояние сознания достигалось не только за счёт молитвы! Правда, зачастую, даже для гостей вино в монастырях разбавлялось водой. Но в Средние века вообще мало пили простую воду. Приготовление пива также долго являлось уделом монастырей. Монахи стояли у истоков производства очень известных марок вин Западной Европы, ликёров, водки. Из Египта они привезли и освоили перегонные аппараты. Шла хорошо и торговля монастырским вином.
Помимо ограничений в еде и добровольного голодания, жизнь монаха подвергалась испытаниям холодом, так как даже в ХХ веке монастыри плохо отапливались (друг Лео Мулена, монах-кортезианец, сообщал ему, что в декабре 1969 года температура в монастыре опускалась до минус 10-15 градусов). Из-за этого иногда монахи ели очень много простой и не очень питательной пищи, поэтому большинство имели плохие зубы и страдали болезнями системы пищеварения.
Монастырская аскеза сказывалась и на одежде монахов, которая зачастую была грубой, жёсткой и колючей. Некоторые даже умышленно, с гордостью носили изношенную, латаную и грязную одежду (за исключением тамплиеров – монахов-воинов). Каждый монашеский орден имел свою «униформу», которая подвергалась строгой регламентации. То же – в отношении обуви, которая чаще всего была кожаной на деревянных подошвах, но некоторые монахи ходили босиком. Не все носили и нательное бельё. Анхенский собор 817 года постановил, что монахи сами должны стирать и чистить свою одежду. Для этого предусматривались специальные помещения, ёмкости, мыло, щёлок, горячая вода. Одежду часто сушили на траве. Спали на циновках (она заменяла матрац, подушку и одеяло); реже – на досках или земле.
В средневековых монастырях было плохо с гигиеной. Не разрешалось мыться без разрешения (прежде всего, в общественных банях). В баню ходили 2-4 раза в год (пожилые монахи ходили чаще), но нательное бельё стирать разрешалось без ограничений. Телесную нечистоту считали одной из форм испытаний. Тем не менее, мыть руки предписывалось перед едой и после неё, после сиесты, перед утреней, после мессы; перед тем, как совершить омовение ног тринадцати бедным в Чистый четверг на Страстной неделе. Борода отпускалась в знак презрения к роскоши и социальной условности, но отцы её брили, хотя процедура бритья в Средние века уподоблялась операции. В качестве лечения часто прибегали к кровопусканию.
Мы уже упоминали различные «крайности» при умерщвлении плоти. Лео Мулен напоминает о св. Колумбе, который каждую ночь читал Псалтырь, стоя в холодной воде. Некоторые монахи, в частности Доминик Закалённый, бичевали себя особыми способами, чтобы добровольно перенести Христовы страдания. «Основатель ордена гранмонтанцев св. Этьен де Мюре так часто простирался ниц лицом к земле, что весь покрылся синяками, которые выступили у него на коленях, локтях, даже на лбу и носу…», «основатель ордена иезуитов принёс на своих плечах прокажённого, омыл его язвы и выпил потом эту воду….». Иногда подобное усердие не приветствовалось, и ему препятствовали другие монахи, так как оно могло расцениваться как «происки демонов».
Наверное, Западная демократия также зародилась в монастырях. Прежде всего, существовал примат церковного собора, а жизнь в монастырях протекала строго по уставу, который регламентировал права и обязанности как руководящих, так и подчинённых. Делом всех были не только выборы иерархов всех уровне, но и самоуправление. Было распространено делегирование полномочий, существовало право отзыва избранных руководителей и обязательное присутствие народа для подтверждения законности избрания. Умирающий аббат часто сам назначал себе преемника, либо это делал самый мудрый и старый монах. На протяжении столетий аббат избирался пожизненно. Существовала строгая процедура избрания. Перед выборами председатель или приор перечислял добродетели, которыми должен обладать избранник. При отсутствии единодушия (принцип абсолютного большинства был принят ещё в 1V веке), относительное большинство запрещалось, как и жеребьёвка, если абсолютное большинство не получалось. В V1 веке в подобном случае св. Бенедикт рекомендовал «избрание меньшинством, которое, тем не менее, выносит наиболее здравое решение и потому должно возобладать над большинством заблуждающимся». До начало выборов назначали двух или трёх монахов, которые пользовались общим доверием и должны были «рассмотреть добросовестность побудительных причин каждого монаха». В подобных случаях возникали конфликты. В ряде случаев применялась весьма непонятная процедура «избрания как бы Духом Святым».
Самоуправление монастырём осуществлялось на основании своего рода «закреплённого разделения труда», то есть обязанностей. В монастыре были должности: настоятель (аббат), его «заместитель» - приор, деканы («десятники»), келарь (эконом, главный администратор), камерарий («финансовый директор»), прекантор (старший певчий), канцлер, ризничий (хранитель сокровищ – отвечает за церковную утварь), санитарный брат (заботится о больных и ведает монастырской больницей), госпиталий (ведает приёмом гостей), елемозинарий (раздаёт милостыню нищим), наставник новициев. Существовала и группа советников. Поскольку в монастырях происходили кражи, монахи нанимали также сторожей. Из многочисленных служителей особенно важны были визитаторы – представители королевской или церковной власти, которые, по сути, инспектировали монастыри.
Тем не менее, монахи – это не роботы. Как отмечает Лео Мулен в своей книге, «у каждого в обители есть своя странность, недостаток, повторяемые ошибки, «жало в плоть» (2 Кор., 12:7). Это может быть заметно, а может и храниться в тайне». «В аббатстве есть свой лентяй, брюзга, аккуратист, рассеянный, усердный в благочестии, готовый обманываться, льстец, учёный, на все руки мастер, энтузиаст…, нытик. Есть трудный монах…Есть свой ворчун, необычайно услужливый; есть самый преданный и самый неумелый…». Список можно продолжать до бесконечности, так как человеческая природа многослойна, многогранна и неистребима даже в монастыре!
В европейских монастырях, помимо молитвы и винопития, разрешалось не так уж мало. Это не только производство вин, сельское хозяйство, садоводство, лесоводство, селекция растений, скотоводство, пчеловодство, строительные работы, но и чтение, переписывание ценных книг (это был замечательный способ преодоления праздности и повышения уровня образования, являлось составляющей аскезы). В ХШ веке, например, книги переписывались исключительно монахами. И это при скудном освещении: коптящих горелках из жира и тряпки, без очков! Книги были редки и дороги, но в монастырях были библиотеки, хотя в некоторых из них книги приковывали цепями! Если аббатству грозила опасность, именно книги надлежало спасать в первую очередь! Среди тех, кто начал впервые использовать печатный станок, были бенедиктинцы, цистерцианцы и представители некоторых других монашеских орденов. Они начали развивать искусство ксилографии, гравюры и калькографии, открывали первые школы. Паломники являлись непременным элементом средневекового пейзажа. Их группы достигали 700 человек. Монахи публиковали для них путеводители и создавали специальные ордена для их защиты.
Монахи занимались также добычей свинца, гипса, серебра, золота, железа, торфа, угля, они владели судами для его экспорта (например, в Шотландии в 1217 году аббатство Калрес владело 170 судами). Разрабатывали соляные копи, создавали настоящие промышленные центры – суконное, кожевенное, дубильное, стекольное и т.п. производство. Они строили мосты и дороги, мельницы, осушали болота и использовали водные ресурсы. Численность монахов в монастырях Европы составляла в среднем 25-30 человек, но были и исключения (аббатство Клюни, основанное в 928 году, имело 700 монахов).
Именно благодаря монашеству в Х1V веке начали осуществляться многочисленные социальные миссии: попечение о приговорённых к смерти, погребение умерших от чумы, забота о душевнобольных. Были случаи, когда монахи добровольно занимали место христиан, попавших в плен и ставших рабами. Нередко у монастырей искали защиту и пропитание не только нищие, но и крестьяне, которые могли также работать на монастырь. Монахи поддерживали общества взаимопомощи, сельскохозяйственные «кооперативы». На протяжении столетий гостиницы, больницы, приюты, богадельни оставались монополией монашества. Монахи были во многом новаторами и рачительными хозяевами. Эксплуатация ими земли была разумной, в отличие от косности крестьян. Они использовали удобрения (ил, например), ввели трёхлетний севооборот. Монашеские ордена имели возможность мобилизовать необходимые финансовые ресурсы для долгосрочных проектов, они могли накапливать капиталы, а не только иметь запасы зерна, овощей, фруктов, мёда и т.п.
Но физическая и коммерческая деятельность всегда были вторичными по отношению к молитве, либо рассматривались как средство её беспрепятственного обеспечения. Ничто не должно было совершаться прежде молитвы. Наверное, поэтому монахи раньше других начали использовать различные технические усовершенствования, чтобы освободить больше времени для досуга, который был исключительно посвящён молитве или чтению. Многие из них мечтали подражать птицам небесным, которые «не сеют, не жнут». Много времени посвящалось благотворительной деятельности, делам милосердия.
Монашество и затвор – проверенный метод достижения особого состояния сознания и в исламе. Ислам объединяет примерно 1 млрд. человек, в основном, в центре Евразии. В.Н. Шутов отмечает, что ислам иногда считается соединением идей христианства и иудаизма с некоторой примесью древних языческих верований, а его будущее связано с решением геополитических проблем исламских стран. В основе ислама – откровение, полученное пророком Мухаммедом (он – раб Божий и одновременно Посланник Божий), свод записей которого (Коран) был сделан при его третьем преемнике, Османе. Считается, что это третье (после Торы и Библии) откровение, которое использовало их элементы. Характерные черты ислама: возможность общаться и обращаться истинно верующему непосредственно к Богу; необходимость личной активности; связь с высшими силами может осуществляться наяву. В период становления ислама основной удар борьбы с предыдущими религиями был направлен не на иудаизм или христианство, а на язычество. Ислам для многих стран стал государственной религией. Монотеизм ислама чётко выражен. Сторонники ортодоксального ислама являются приверженцами умеренности во всём. В исламе много самоограничений: посты, запрет на наркотики и спиртное, на изображения всего живого; запрет на ростовщичество; запрет абортов. Для него характерна особая активность и боевитость при открытости учения и доступности его для всех, простоте догматов (при этом существуют знания высшего уровня); ислам обещает после смерти рай с вполне земными удовольствиями. В исламе отсутствует обрядовая мелочность; существует классификация поступков (от запрещающих до рекомендуемых и обязательных пяти деяний: почитание Аллаха, молитва 5 раз в день; пост, налог в пользу бедных, паломничество). Разрешается убивать человека, если он покушается на жизнь мусульманина; нет пафоса аскетизма и страданий; существует нацеленность на земную жизнь, практицизм; правоверный может иметь до четырёх официальных жён и наложниц. Возможно, именно идея равенства (при достаточно высокой религиозной и социальной дисциплине) породила массу ответвлений ислама.
Как сообщается в книге «Суфизм» А.А. Хисматуллина, в исламе Мухаммад – избранный свыше посланник, передающий послание от господа. Согласно мусульманской традиции, в разное время к людям было послано 124 000 посланников и пророков (возможно, их было и больше, но лишь часть посланий была зафиксирована письменно; от многих остались лишь имена). Все они на разных языках говорили о существовании мира, качественно отличающегося от мира видимого, о ценностях, имеющих непреходящее значение. Они предлагали также путь, образ жизни для того, чтобы убедиться в сказанном. Коран – это текст послания, который до определённого времени бытовал в устной передаче. Тафсиры - толкования текста Корана, появляющиеся внутри мусульманской общины (мусульманская община - Умма, на первых порах состоявшая из первой жены Мухаммада, его раба Зайды, подаренного ему женой, а затем усыновлённого, и мальчика Али, отданного дядей на воспитание). Хадисы – предания о высказываниях Мухаммада.
Важными представляются основные события жизни пророка Мухаммада перед откровением: смерть годовалого сына Касима; последовательное рождение четырёх дочерей; ремонт Кабы, святилища доисламских арабов (это было сакральной операцией).
Мотив жертвы (потеря сына и невозможность иметь наследника) характерен, наверное, для основателя любой религии, а не только мусульманства. То есть: для «облегчения пути к Богу» забирается всегда самое дорогое для конкретного человека. (Позднее Мухаммад лишился и своего приёмного сына Зайды). Возможно, это связано с необходимостью концентрации усилий человека на главном.
После ремонта Кабы Мухаммад начинает подвергаться видениям; уединяется для аскетических упражнений, где ему является верховный ангел Джабраил (Гавриил), который приказывает читать текст, исходящий от Господа. Во время откровения он испытал испуг, поэтому просил жену закутать себя в покрывало, так как он боялся стать духовидцем, которых недолюбливал, но жена успокоила Мухаммада, что Аллах не допустит этого. В промежутке между двумя появлениями ангела Мухаммад испытывал тоску, уныние и даже думал о самоубийстве. В данном варианте получения знания сочетается два основных способа – пассивный и активный. В первом случае потусторонние божественные силы инициируют избранника, во втором – он сам домогается божественных сил и знания.
Уже отмечалось, что изначально Коран бытовал лишь в устной форме, передачей которой владеют по памяти халифы. Халиф – это «заместитель», глава мусульманского, теократического государства; первые халифы (632-661 гг.) считались преемниками пророка Мухаммада; при Омейядах (661-750 гг.), как сообщается в «Атеистическом словаре», они признавались наместниками самого Аллаха, но с Х века халифы – это первосвященники.
Таким образом возникла проблема разночтения Корана. При третьем праведном халифе Усмане (644-656) текст Корана фиксируется путём тщательного отбора и становится каноном. Из всех возможных способов чтения признаются правоверными лишь семь. Появляются профессиональные чтецы Корана (мукри, кари), которые владеют изустной традицией передачи всего текста и обучают этому других.
В исламе существует четыре традиции передачи духовного знания (А.А. Хисматуллин «Суфизм»):
1) Традиция увайси. (Принятие знания от духа умершего к живому). Увайси нельзя стать по собственному желанию; решение принимается свыше. Но земной наставник при этом отсутствует.
2) Наследственная трансляция духовного знания (от отца к сыну, шейх-заде). В исламе эта традиция идёт от воспитанника Мухаммада, Али, ставшего в умме четвёртым праведным хилифом. Он женится на дочери от первой жены Мухаммада Фатиме. Дети от этого брака Хасан и Хусейн, их потомки дают шиитскую ветвь наследования духовного знания. В дальнейшем борьба среди мусульманской элиты привела к появлению сект внутри шиитов.
3) Духовное усыновление. Сын обретается по признаку духовного, а не генетического родства («фарзанд-и-манави»).
4) Традиция наследования духу живущего. (На основе взаимодействия «Учитель-ученик» - «Муршид-мурид»).
М.Т. Степанянц в работе «Исламский мистицизм» отмечает, что мусульманский мистицизм в начале сводился к аскетизму, хотя аскетическая практика у арабов существовала и до ислама. Ранний ислам не знал монашеских орденов, но постепенно аскеты стали собираться в Басре для совместного чтения Корана и обсуждения своих мистических переживаний.
Социальное расслоение арабского общества в VП-VШ вв. способствовало развитию мистико-аскетического направления. В VШ в. в среде мусульманских правоведов (факихов) произошёл раскол: одни настаивали на строгом следовании слову Аллаха и его пророка, т.е. Корану и сунне. Другие (приверженцы мнения), сирийские и иракские факихи, допускали использование логических доказательств. Во второй половине VШ-1Х века был достигнут компромисс – разрешалось суждение в определённых пределах. В этих условиях мистицизм являлся анти ортодоксальной формой. К Х в. сформировались первые суфийские объединения, типа приютов для коллективной жизни с целью достижения общей цели – единения с Богом (до этого были лишь странствующие дервиши), в ХШ в. возникают образовательные центры во главе с наставниками, которые положили начало мистическим школам. По мере роста могущества Османской империи в ХV в. возникают таифы – ордена, характеризующиеся полным подчинение воле шейха. (Шейх – это арабский «старец», как сообщает «Атеистический словарь», это – глава, предводитель рода, племени, а также – руководитель исламской общины, богослов и законовед). Власть шейха обычно передавалась по наследству, но в некоторых орденах они избирались. Обычно для принятия в братство необходимо было прохождение трёхлетнего испытательного срока служения шейху и Богу. Ордена выполняли не только религиозные, но многочисленные социальные функции. Их молитвы и оккультная техника использовались для врачевания физических и психических недугов, способствовали социальной стабильности и индивидуальной интеграции.
На сегодняшний день наиболее достоверным происхождением термина «суфий» считается от «суф» (шерсть), так как одежда из шерсти издавна считалась атрибутом отшельнической жизни, поэтому «суфий – это мусульманский мистик, а суфизм, или в оригинальном звучании тасаввуф, соответственно, - исламский мистицизм». По данным А.А. Хисматулина, суфизм прошёл основные этапы развития:
VШ-1Х вв. - мистические настроения в общине приводят к появлению аскетов, отшельников и бродяг, живущих вдали от мирских соблазнов.
Х-ХП вв. - появление школ мистицизма; появились суфийские обители ханака/рибат, странноприимные дома, выполнявшие также функцию постоялых дворов, клубов с нефиксированным числом членов. Это были места коллективного отправления религиозных предписаний: молитв, радений, постов и т.п., а также – места обучения и культурные центры с письменными сводами регуляции коммунальной жизни, подкреплёнными ссылками на Коран.
ХШ-ХV1 вв. - появление братств, закрепление учеников за определёнными учителями и определённой мистической школой.
Называть объединения суфиев орденами считается некорректным, так как это, скорее, кланы или семьи. В них существовала лишь минимальная иерархия, связанная с разграничением функциональных обязанностей.
Как отмечает выдающийся исследователь ислама Абд ал-Хусайн Зарринкуб (книга «Ценность суфийского наследия», под редакцией А.А. Хисматулина), если последователи шариата неукоснительно следовали внешним предписаниям и установка, основным действием для них являлись молитвы, а исламский аскетизм в основном имел умеренный характер, ему были чужды излишества как йогов, так и христианских подвижников, суфии считали себя «поборниками сокровенного знания», их познания опирались не на разум и аргументацию, а на сердце, а жизнь строилась на множестве ограничений. Конечной целью такого познания (суфии называли его ирфаном («гнозис») являлось «соединение и слияние с сущностью и атрибутами Истины (Бога)». Если прибежищем последователей шариата являлась мечеть и мадраса, то суфии создавали себе общины и братства, обители-кельи и странноприимные дома-обители.
Поэтому не мудрено, что последователи шариата и знатоки религиозных наук (улама) отвергали суфиев и обвиняли их в излишествах и допущении греховных поступков. «Единый Бог, на взгляд мусульман, находится на такой высоте святости и абсолютного совершенства, что не имеет с человеком никаких отношений и связей», - отмечает Абд ал-Хусайн Зарринкуб. В свою очередь суфии, практиковавшие сорокадневные уединения и самоотречения, обвиняли последователей шариата в невежестве, а знатоков религиозных наук – в заблуждении.
История суфизма содержит множество упоминаний о его выдающихся подвижниках и мучениках. Например, Абу-л-Хусайн Нури (умер в 908 г. в Багдаде) претерпел много страданий из-за своих высказываний о божественной любви. В это же время жил Халладж, жизнь и смерть которого, как пишет Абд ал-Хусайн Зарринкуб, «являются самой интригующей духовной драмой суфизма». Он не только путешествовал по миру (был в Индии), вёл отшельнический образ жизни, имел как приверженцев, так и противников среди аппарата халифата, сторонников шариата и суфиев, но и читал мысли людей, совершал множество необъяснимых деяний. В результате был «обвинён в занятиях недозволенной аллегорической трактовкой Корана, в явной ереси…», в претензиях на божественность. Его били кнутом тысячу раз (утверждают, что он ни разу не застонал), повесили и у, всё ещё живого, отрубили руки, ноги и голову. Надо отметить, что подобная участь настигла и некоторых других суфиев, что заставляло их быть осторожными даже при наличии поддержки всесильных властителей. По причине преследования им часто не доверяли и простые люди (базарный люд, ремесленники, крестьяне), которые всё же тянулись к суфиям.
Мистическое чувство соединения с Абсолютным Бытием, свойственное ирфану, то есть способу познания Истины суфиями, является общим для многих народов и религиозных практик, в психологии оно известно как изменённое состояние сознания. Достигается это состояние, как правило, с помощью аскетической практики и специальных упражнений, иногда – за счёт применения таких средств, как опиум, конопля, гашиш, вино и кофе. «Условием получения подобных мистических познаний выступает откровение (кашф), экзальтация (ваджд), наличие сокровенных и внутренних озарений (ишракат). Истина, которая не является составной частью чего-либо, наряду с величием обладает ещё и совершенством и великолепием. И, конечно, единственным путём достижения великолепия является стезя любви (ишк), а не разума (акл). Именно поэтому эзотерическое знание (ирфан) имеет дело с любовью и страстью; оно избегает научных занятий и споров, которые являются продуктом разума и логики». По убеждению суфиев, человеческая душа (нафс) может достигнуть высшей цели путём уничтожения бытия и через инобытие в Истине. Тем не менее, все эти состояния (экзальтации и откровения) случаются далеко не с каждым, то есть требуют «наличия особенных душевных способностей». На этом пути суфий проходит ряд стадий или стоянок (марахил). При этом для совершенствования важны определённые состояния, которые повторяются на разных стоянках. Среди этих состояний: самонаблюдение, интроспекция, благожелательность, страх перед Богом, надежда, вожделение, привязанность, успокоение и уверенность. Несмотря на необходимость личных усилий и непреклонности прохождения стадий практического Пути приближения к Истине, достижение конечного результата зависит только от Божьего благоволения. «Мир с точки зрения суфия – это привал на пути к горнему миру, но на этом привале случается много бед и несчастий. Привязанность к дольнему миру – это первый шаг к порочности; мирские наслаждения служат преградой на пути человека к Господу», - пишет Абд ал-Хусайн Зарринкуб в книге «Ценность суфийского наследия». Он отмечает, что корни суфизма некоторые авторы находят в зороастрийском учении, в индуизме и брахманизме; многочисленные связи обнаруживаются и с христианским монашеством, с иудаизмом (Каббалой), с вавилонскими и иранскими традициями и ритуалами. Данный автор отмечает, что суфизм не является единым течением, а состоит из множества учений, в которых отражены такие основные жизненные принципы: мысль об отрешённости и уповании на Бога; добровольная бедность и аскеза, самоограничение; духовное путешествие и т.п. Все эти принципы присущи и другим религиозным и мистическим течениям и системам.
История суфизма, которая изложена в работе Абд ал-Хусайн Зарринкуба, знает как его взлёты, так и падения, как периоды расцвета суфийских обителей, так и утраты их былого влияния, хотя суфийские братства были распространены во всех исламских странах. В них существовали определённые правила общежития, давалась присяга на верность, они служили прибежищем для обездоленных, в них практиковалось как уединение, покаяние, молитвы, бдения, рыдания, посты, так и совместные трапезы, богослужения, беседы с шейхом. При этом мусульманские отшельники, в отличие от христианских аскетов, не отказывались от женитьбы и не считали жён и детей преградой на пути к Богу и Истине. Ритуалы некоторых братств, связанные с богопоминанием (зикр) специфическими телодвижениями и духовным опьянением, как сообщает Абд ал-Хусайн Зарринкуб, «представляли собой устрашающее зрелище. Дарвиши братства в состоянии самозабвения, случалось, достигали такого уровня опьянения, что не чувствовали ударов ни деревянными, ни железными предметами. В подобном состоянии они валялись на земле, а шайх топтал их ногами на глазах у зрителей. Тем не менее, всё это почиталось дарвишами для себя как великое благо». Были и примеры применения лечебной магии; в состоянии транса дервиши хватали огонь руками и поглощали пламя. На подобных собраниях и радениях случались и смертельные случаи.
Здесь мне невольно хочется привести параллель с «радениями» хлыстов, их исступлённым богообщением и еретическим почитанием своих лидеров «христами», «богородицами», «святыми», с их крайностями аскезы, породившей «скопцов» с ритуальной ампутацией «срамных» частей тела и строгим запретом на матерную брань (А.А. Панченко «Матерная брань в религиозном контексте», сборник статей «Злая матерная…» под ред. В.И. Жельвиса, М.: Ладомир, 2005).
Несмотря на поддержку суфиев некоторыми правителями, их немалое на них влияние, были и те, кто считал их обманщиками, хвастунами, еретиками и неверными. Среди суфийских течений и их представителей были и такие, которые отвергали любые формы притворства и тщеславия, не выставляли свои деяния напоказ, вели обычный, неприметный образ жизни или «унижали собственное ego и преднамеренно становились объектом упрёков, чтобы обуздать гордыню…» (в этом стремлении некоторые доходили до суицида), либо, наоборот, выказывали себя в глазах народа грубыми и порочными.
Целью воспитания суфиев являлось формирование совершенного человека, который не пренебрегал ни шариатом (путь строго соблюдения религиозных установок), ни хакикатом (от слова «истина» - мистический путь постижения Божественной Истины). Тем не менее, считалось, что абсолютно совершенным в одну эпоху является только один человек на весь мир (назывался он «Полюс времени» или «Владыка Эпохи»), что является конечной целью каждого идущего по Пути к Истине. Численность святых, по мнению суфиев, в каждой эпохе равняется числу 356. Если один из них покидает мир, то его место занимает другой. Все святые делятся на категории и группы, «состоящие из трёхсот, сорока, семи и пяти, а также из трёх и одного». Известны и другие группы иерархии (с опорой на триста святых).
Учение о святости в исламе (разработано ал-Хакимом Мухаммадом б. Али ат-Тирмизи, конец 1Х века), как сообщает А.А.Хисматулин в работе «Суфизм», имеет двойственную природу (пассивную и активную). Четыре тысячи пассивных святых не знают, что они святые. Категорию активных ат-Тирмизи подразделяет на триста лучших (ахйар), сорок заместителей (абдал), семь благочестивых (абрар), четыре столпа (автад), трёх вождей (нукаба), один полюс (кутб) или одного заступника (гаус). Эти святые знают о существовании друг друга. Все они управляют миром. Состояние святости даруется свыше. Святые действуют в состоянии опьянения (сукр) или трезвости (сахв). Если пророки строго соблюдают законы и предписания, то святые могут нарушать их непроизвольно, находясь в разных состояниях.
Лале Бахтияр в книге «Суфий: Образы мистического поиска» отмечает, что во всех суфийских братствах принято уединяться для поминания Бога в укромной келье. Цель – достигнуть состояния непрерывного внутреннего уединения (ритрит). Пророк часто уединялся в горных пещерах, поэтому ритрит рекомендуется не только в кельях, но и на природе. Добровольный затвор (халват) так описывается шейхом Аль-Алави: «Я помещаю новичка в келью после того, как он дал обет не покидать её, если понадобится, в течение сорока дней. В келье ему следует денно и нощно повторять про себя божественное имя (Аллах), при каждом повторе делая протяжный выдох на «ах» - пока не кончится воздух. Перед этим он должен семьдесят пять тысяч раз произнести шахаду (ла илаха илла Ллах – нет бога кроме Бога). Он соблюдает днём строгий пост, принимая пищу лишь после заката солнца и до времени рассвета. Некоторым фукара /мистикам/ для внезапного просветления достаточно несколько минут ритрита, другим требовались дни, третьим – недели» (подробнее в разделе 3.1).
В братствах суфиев различают 9 степеней футуватт («верующих с любовью»). Первые три – члены торговых гильдий (подмастерья, подёнщики и мастера); три следующие относятся к церемониям; три последние – это шейх и его доверенные лица.
Мне представляется, что люди, склонные к духовному подвижничеству изначально, иногда даже с детства, редко бывают счастливыми. В миру, среди обычных людей им бывает часто одиноко, тоскливо, их душу переполняет неведомая тоска, боль и ад. Им присуща тоска по идеалу, которая, по-видимому, является выражением потребности человека в трансцендентном. Чтобы избавиться от негативного состояния психики, перейти в благополучное состояние сознания, они всё сильнее устремляются к вечному, чтобы яснее ощущать безграничность, трансцендентность бытия. И находят они его только в богоискательстве. Как признаётся Иоанна Кронштадский: «Господи, Ты непрестанно побеждаешь во мне ад, по молитве моей, и если я доселе ещё не в аде, это Твоя милость…». Своё «плохое» состояние верующие в Бога стремятся компенсировать «хорошим», то есть той энергией, которая высвобождается и конденсируется за счёт аскезы, физического ограничения вкупе с молитвой. Предельное состояние богоискательства И. Кронштадский выразил так: «Да не будет земных идолов для сердца: денег, яств, одежд, чинов и знаков отличия и проч. Надо употреблять самую простую, нелакомую пищу, чтобы не привлекала сердце, употреблять немного – только для подкрепления». «Помышляй всегда, что без Бога ты окаянен, беден, нищ, слеп и наг душевно, что Бог для тебя – всё: Он - твоя правда, освящение, богатство, одеяние, твоя жизнь, твоё дыхание, - всё».
Более подробно практики уединения для духовной работы в разных религиях рассмотрены в разделе 3.
1.5. Преодолеть или покориться? Трудная участь больных «Ничем люди так не пренебрегают, как своим здоровьем. И ничего не желают так исступлённо, как здоровья…Если приходят болезни, это означает, что мы нарушили какие-то законы Природы»
«Как смешны люди: когда Бог их зовёт к себе, они срочно зовут врача»
104-летний Андрей Ворон
Профессор И.Д. Барчук в брошюре «Законы здоровья» пишет: «Понятие здоровья человека включает три его составные и взаимосвязанные части: состояние ума (умственное здоровье), состояние тела (физическое здоровье) и жизненная установка личности (нравственное здоровье). Все эти части здоровья и общее его состояние не являются постоянными и зависят от возраста, периода жизни, внешних условий и степени развития самого человека,- его знаний, умения думать, культуры, образа жизни».
Факторы, от которых зависит здоровье, можно условно разделить на внутренние и внешние (индивидуальные и социальные). Внутренние факторы связаны с генетикой, то есть наследственностью, с воспитанием, жизненными установками. Внешние факторы, угрожающие здоровью, это: голод, отравление, техногенные и экологические катастрофы, эпидемии и войны, а также – стрессы, порождаемые, в том числе, и всеми этими факторами. Влияют также факторы, связанные с профессиональной деятельностью и условиями труда. Здоровье связано и с уровнем развития медицины, в том числе, профилактической.
Как отмечается в издании «Психологический институт в современном научно-психологическом пространстве: Международные Челпановские чтения 2014» (статья А.В. Котеневой), «понятие здоровья в медицине и психологии характеризуется сложностью, многозначностью, в нём отражаются самые разнообразные стороны человеческого существования – духовные, социальные, психологические, физиологические. Сегодня ряд отечественных авторов (В.А. Ананьев, В.С. Никифоров, М.Ф. Секач) указывают на необходимость комплексного подхода к изучению феномена здоровья в контексте духовного становления человека, его самореализации, способностей к адаптации и телесного функционирования». Этот автор особо отмечает характер представления о здоровье и болезни в христианстве, которое связано, прежде всего, с пониманием смысла и целей человеческой жизни. В христианстве самым значимым аспектом здоровья является «качество отношений человека с Богом и окружающими людьми». Необходимо различать телесное, душевное и духовное здоровье. Проявлением духовного здоровья в христианстве является «особое духовное состояние, называемое благодатным», оно связано также со стремлением человека «стяжать благодать и восстановить подлинные отношения с Богом, жизнь по вере и божественным заповедям…». Кроме того, «здоровье – это состояние целостности и гармонии духа, души и тела». Это есть «целостная мудрость». Наиболее значимой духовно-нравственной категорией в христианстве является грех. Грех понимается как «всякое отступление от заповедей Божьих и нарушение закона Божия (делом, словом, помышлением)». Тем не менее, нет однозначной связи между телесным, душевным и духовным здоровье. «Человек здоровый в медицинском отношении может быть глубоко больным с духовной точки зрения и наоборот…У духовного человека может развиваться душевный недуг или состояние физического недомогания и болезни…». Бывает и так, что «душевная болезнь для православного человека может оказаться спасительной, и, наоборот, психическое здоровье без духовной устремлённости может привести к трагическим последствиям для неверующего человека». Нельзя также забывать, что болезни могут иметь не только греховные причины. «Они могут быть попущены Богом для испытания человека. Бывают случаи, когда человек явно преступает христианские заповеди (убивает, прелюбодействует, крадёт), но обладает хорошим физическим здоровьем».
Христианин не должен уделять всё своё время телесному здоровью, но и не должен безответственно относиться к болезни. «В идеале здоровье личности представляет собой гармонию духа, души и тела, целостную мудрость, в которой духовный уровень бытия человека преображает другие уровни здоровья»
По данным НЦЗД РАМН число здоровых детей по разным регионам России – 2-10%. 40 % новорожденных имеют различные заболевания, 10% - хронические. Более 80% новорожденных имеют симптомы перинатальных черепно-мозговых травм. Поэтому необходимо восстановление комплексного подхода к оздоровлению нации. (Е.Ю. Шахматова «Материалы Международного Форума «Интегративная медицина», 2007 г.).
«Здоровье школьников в стране неуклонно ухудшается – это подтверждает полвека наблюдений с хрущёвских времён и до сего дня», - сообщается в статье «Глаза боятся и…правильно делаются» (это беседа журналиста с руководителем отдела НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков ФГБНУ «Научный центр здоровья детей», профессором Н.А. Скоблиной: газета «Труд», 23 сентября 2014 г.). Если в 1960-е годы полностью здоровых, гармонично развитых школьников было 36% от общей численности, в 70-е – уже 22%, то «в 90-е годы отклонений по здоровью не имел лишь каждый десятый. А сейчас таких осталось вообще 3%. А 80% имеют выраженные проблемы со здоровьем…», - констатирует Н.А. Скоблина. 65-75% детей до 10 лет имеют отклонения, связанные с костно-мышечной системой, резко возросло число детей с отклонениями сердечно-сосудистой системы; нервно-психические расстройства выявлены у 50-75% российских учащихся.
При этом, по данным Минздрава РФ («В регистре не значится», «Новые известия», 13 мая 2015), порядка 12 тысяч россиян (7 тысяч из которых дети) признаны больными редкими или орфанными заболеваниями, угрожающими жизни (медики и эксперты утверждают, что таких больных гораздо больше). Минздравом выявлено 216 редких заболеваний, но лишь лечение 24 из них осуществляется за счёт местного бюджета. Считается, что такие болезни встречаются с частотой один случай на 10 тысяч населения. Среди этих болезней: болезнь Крейтцфельдта-Якоба (БКЯ), мукополисахаридоз, муковисцидоз, пароксизмальная ночная гемоглобинурия и другие. Многие из них являются наследственными. Лечение этих болезней, действительно, обходится недёшево. Как сообщается в представленной статье, Министр здравоохранения РФ В. Скворцова отметила, что в самую дорогостоящую группу входит около 200 человек, на лечение которых требуется 4,5 миллиардов рублей в год.
Кроме того, как метко отметил русский писатель, современник Пушкина, А.В. Вельтман в романе «Новый Емеля или превращения», «ни в одной практике нельзя так утаить невежества, как в медицинской, в которой все действия совершаются во внутренностях человеческих. Тут заслуги природы можно приписать себе, а свои злодеяния свалить на природу». Да и уровни знания-невежества в медицине условны, они связаны с парадигмой науки и мышления. Не говоря уж о степени кооперации человека с природой или степени волевого над ней насилия, как и степени и формах борьбы или смирения с недугами.
Актрису Ф.Г. Раневскую в преклонном возрасте спросил как-то один корреспондент: «Над чем вы сейчас работаете?». Она ответила: «Над собой». «В чём это выражается?» - «Симулирую здоровье!». В этом ответе, наверное, во многом заключена суть самой жизни. Абсолютно здоровых людей не существует. Даже «практически здоровые» люди встречаются крайне редко, не говоря уж о критериях определения здоровья. Болезнь, наверное, можно отчасти рассматривать как средство не столько естественного отбора, сколько средство ограничения экспансии (во времени и пространстве) проявлений того или иного, вида, индивида, организма… На уровне психики в болезни можно усматривать своеобразный способ ухода от сложных жизненных проблем и средство привлечь к себе внимание и энергию других людей.
Я не стану здесь вдаваться в «метафизику» этого явления и доказывать, что чрезмерное, как и недостаточное проявление тех или иных свойств у индивида чревато отбраковкой или болезнью, болью (пусть даже только душевной). Болезни были всегда. Даже в Пермском периоде истории Земли (то есть более 200 миллионов лет назад) были обнаружены животные с раковыми опухолями. Победить болезнь и смерть в нашем проявленном мире, думаю, никогда не удастся. Смерть, наверное, необходима Природе, чтобы осуществлять процесс эволюции и развития; абсолютизация жизни несовершенной особи, индивида (стремление их к жизни вечной) вступает в противоречие с жизнью других существ, осуществляется с привлечением всё новых дополнительных внешних ресурсов. Возможно, что принцип жертвенности заложен в природу каждой отдельной особи, как и принцип самосохранения. На определённом этапе своего развития человек должен принести в жертву мирозданию и свою жизнь, чтобы обеспечить его вечное существование. Да и вопрос совершенства должен быть рассмотрен с позиций его относительности.
В борьбе с болезнями, наверное, надо соблюдать меру вмешательства в естественные процессы, так как, помогая одним, мы отнимаем, сокращаем жизненную силу других, а в случае с трансплантацией органов даже иногда лишаем жизни потенциальных доноров. Конечно, мера вмешательства в организм человека и течение болезни в каждом отдельном случае или в той или иной культурной традиции, своя. Она определяется запасом жизненных сил тех, кто приходит на помощь больным, их лечебным опытом и технической оснащённостью, мотивацией врачей, персонала, родных и самого больного. Она связана также с моделью мира, принятой той или иной культурной традицией и участниками врачебного действа. В некоторых случаях на помощь, как говорится, приходит Сам Господь Бог, то есть к исцелению подключаются неожиданные невиданные резервы! Да и мера переносимости боли, страдания у разных людей различна, как и отношение к болезни. По мнению Н. Бехтеревой, если человек болен, то в мозгу создаётся матрица устойчивого патологического состояния. И чтобы выздороветь, надо пройти через сложное состояние дестабилизации.
Жизнь почти каждого человека протекает в более-менее постоянной борьбе с болезнями, собственными недомоганиями, слабостями и проблемами. Хотя, конечно, степень ограничений и проблем, которым подвержен конкретный человек, отличается иногда на порядок, так как та или иная болезнь может иметь разные стадии и в разной степени поражать организм…А многие профессии создают и формируют те или иные хронические заболевания и недомогания. Балетные танцовщики, например, никогда не выходят на сцену абсолютно здоровыми. По словам балерины Екатерины Максимовой, «тело постоянно болит». Известный фигурист Евгений Плющенко для того, чтобы продолжить свои выступления на льду, перенёс несколько сложнейших операций. Профессиональный спорт чаще всего подрывает здоровье человека. «Хочешь увидеть себя через десять лет – пробеги марафон», - сказал как-то знаменитый бегун Серафим Знаменский. А тяжелоатлеты уверяют: «Каждое поднятие штанги – это маленькая смерть». Об этом пишут в книге «Резервы и рекорды нашего организма» И.С. Бреслав и Л.А. Брянцева.
Тем не менее, дух соревнований и способность переносить физические перегрузки присущ даже многим инвалидам, что подтвердили Х1 Параолимпийские игры в Сочи 7-16 марта 2014 года. Это были соревнования в 5-ти зимних видах спорта: горные лыжи, биатлон, лыжные гонки, следж-хоккей, керлинг на колясках. Российские спортсмены завоевали 1-е место и получили 80 медалей (30 золотых, 28 серебряных и 22 бронзовые). От инвалидов словно исходила какая-то позитивная энергия – с ними люди хотели общаться. (Впервые термин «параолимпийские игры» упоминается в связи с проведением Олимпийских игр 1964 года в Токио. Официально название было утверждено в 1988 году на зимних играх в Инсбруке. Идея игр принадлежала нейрохирургу Людвигу Гуттману, который в 1948 году для бывших военнослужащих с повреждениями опорно-двигательной системы организовал спортивные состязания). («Парламентская газета», № 8, 2014).
Степень здоровья меняется и с возрастом, поэтому очень важно жить в соответствии со своим возрастом и получать соответствующую «пищу» - для тела, эмоций, ума, духа, так как многомерная и многоуровневая (спектрально-целостная) природа человека предполагает, что у человека есть физическое тело; есть эмоции, есть интеллект; есть ценностные ориентации. Каждая составляющая и даже отдельная черта характера имеет свой собственный цикл развития. Пик физического развития приходится на более ранний возраст. В частности, максимум физической силы проявляет человек в возрасте 20-30 лет. А вот с выносливостью дело обстоит сложнее! Для неё очень важна мотивация, а это свойство иногда усиливается именно с возрастом. Пик эмоций приходится примерно на 35 лет, интеллектуальной жизни – на 45-50 лет, социальной – на 50-55 лет. К тому же пики активности связаны не только с общим состоянием организма, тренировками, но и со временем года и даже дня. Последствия перегрузок часто накапливаются постепенно. Специалисты уверяют, что профессиональный спорт не только вреден, но и существует физиологический предел для установления всё новых спортивных рекордов. И «стражами», охраняющими человека от перегрузок, являются эмоции и ощущение «больше не могу!» Пик эмоционального развития наступает позже пика физической активности. Пик интеллектуального развития наступает позже, чем пик эмоционального. Эмоции и интеллект также могут испытывать перегрузки и изнашиваться раньше положенного срока…Пик ценностного, нравственного развития, мне кажется, приходится на преклонный возраст, если развитие правильное. Ведь возможна и деградация.
В пожилом возрасте часто уменьшается способность адаптироваться к изменениям внешней среды, то есть отношение ко всему новому часто отличается болезненной раздражительностью! У меня есть предположение, что если тот или иной «параметр жизни» слишком эксплуатировать в плане изменчивости, то происходит его истощение, как и любого другого качества («футуршок» Тофлера – это, наверное, одно из проявлений предела восприятия изменчивости).
Непомерно тяжёлая работа, связанная с переноской тяжестей и со сборкой механизмов, может снизить общую физическую работоспособность и привести к преждевременному истощению, к старению организма, к болезни. Вредное производство и жизнь в неблагополучных регионах Земли создают многочисленные угрозы физическому и психическому здоровью людей. Так, например, есть исследования (В. Голвачев статья «Стоп-Марс», газета «Труд», 4 июня 2013), что космонавты умирают от рака чаще «земных» граждан (в США – в два раза чаще: из 19 умерших в настоящее время американских астронавтов 11 умерли от рака; в России – в 2,5 раза чаще: из 23 умерших космонавтов 10 умерли от рака). Предполагают, что основная причина повышенного риска – радиация.
И.Д. Барчук цитирует слова врача и писателя В. Вересаева («Записки врача»): «Болеют все: бедные – от нужды, богатые – от довольства, работающие – от напряжения, бездельники – от праздности. Во всех людях, с самых ранних лет гнездятся разрушения, организм начинает разлагаться, не успев ещё развиться». Этот «мрачный» вывод подкрепляется научными исследованиями физиологии и психологии (З. Фрейд пишет о наличии не только инстинкта жизни, но и инстинкта смерти). Физиолог И.И. Мечников утверждал, что человеку присуща «естественная смерть», а продолжительность его жизни может достигать 100 лет и даже превышать этот возраст («По Библии, Муфасаил достиг 969 лет», но И.И. Мечников считал, что «предание это основано на ошибочном расчёте»).
В своих «Этюдах оптимизма», изданных в начале ХХ века, И.И. Мечников констатирует: «Статистика показывает, что наибольшая смертность в людском роде выпадает на ранний детский возраст. В один первый год жизни средним числом умирает ¼ всех детей. После этого периода наибольшей смертности, последняя постепенно уменьшается до наступления половой зрелости. Затем смертность опять медленно и постепенно возрастает, достигая высшей своей степени между 70 и 75 годами. После этого она опять понижается до конечного предела человеческой жизни». Но мы знаем, что достижения современной медицины нарушили данную природную закономерность; всё больше слабых, недоношенных детей и детей-инвалидов обретают право на жизнь. Но в ряде случаев подобные «неуспешные» особи, которые в природном мире были бы обречены на смерть, достигают громадных жизненных успехов, становятся известными людьми (ведь отставание в одном аспекте может сочетаться с выдающимися способностями в другом).
И.Д.Барчук перечисляет основные ограничители, помимо продолжительности жизни, которые детерминируют жизнь. Это: ограничение роста и развития организма человека пределами 22-23 года, после чего начинается его старение; ограничение некоторых биологических циклов организма человека (репродуктивного, например); ограничение параметров оптимального функционирования организма (температуры, давления, влажности и т.п.); ограничено число делений основных клеток организма (50-60 раз). Ограничены сроки обмена веществ и обновления органов (например, кожный покров обновляется в течение 27 дней; костные структуры – в течение 3 месяцев; общий срок обновления клеток человеческого организма составляет 100 дней (в течение жизни обновляются около 300 раз). Ограничена сознательная деятельность человека, когда она представляет угрозу для его жизни; важным регулятором здоровья человека является сон. Цивилизованность общества, по мнению многих людей, определяется не только отношением к детям, старикам, женщинам, беднейшим людям, но и к инвалидам, больным. Тем не менее, мы знаем, что в древней Спарте со скалы сбрасывали слабых новорожденных детей, а фашистский режим в Германии уничтожал психически больных людей. Ю. Воробьевский в книге «Бедлам» пишет, что под воздействие пропаганды Геббельса многие немцы были убеждены, что «на их материальное благополучие уже напали орды прожорливых дебилов», поэтому 1 сентября 1939 года в Германии был принят закон об эвтаназии – «гуманном» истреблении больных. На партийном съезде в 1929 году в Нюрнберге Гитлеру аплодировали после заключительных слов: «Если бы в Германии ежегодно рождался миллион детей и 700-800 тысяч самых слабых уничтожались, то конечным результатом, возможно, стало бы укрепление наших сил».
В настоящее время, в связи с общепринятой моралью, а также благодаря достижениям медицины, значительно сократилась ранняя детская смертность, выживают и живут долго инвалиды детства, общество и государство проявляет к ним немалую заботу. То есть в цивилизованном обществе принято больным помогать и создавать особые условия для инвалидов. Но, как правило, от декларирования этих принципов до их реализации – пропасть. Никто и никогда не подсчитывал и не подсчитает необходимый запас энергии, жизненных сил или хотя бы финансов для поддержания и, тем более, реабилитации всех инвалидов. К сожалению, далеко не каждый, кто громче всех заявляет о своей беде, больше всего нуждается в помощи. Некоторые люди носят свою болезнь как орден, стараются извлечь из неё максимум выгоды (хотя бы моральной, вызвав всеобщую жалость), другие – стараются скрыть или преодолеть невероятными усилиями, иногда всё же с привлечением дополнительных социальных ресурсов: финансовых, лечебных; особых мер заботы и ухода. Изучением и, тем более, составлением баланса потребностей и возможностей в каждом отдельном случае никто не занимается. Этот баланс устанавливает сама жизнь. В некотором смысле мы имеем бездонную пропасть, так как вылечить всех и каждого, помочь может только сам Господь Бог! Но почему же Он не делает этого? Почему рождаются дети-инвалиды, почему инвалидами и хронически больными становятся иногда талантливые, гениальные и даже высоконравственные люди? Возможно, в природе существует некоторый механизм, запускающий почти беспредельное разнообразие форм и проявлений жизни, поэтому «норма» практически не существует; она лишь отражает некую общепринятую точку зрения на оптимальный способ существования, взаимодействия с миром в конкретное время и в конкретной точке Единого Пространства Жизни. И больные, особенно страдающие люди, несут некую смысловую нагрузку в этом пространстве, являются индикаторами предела человеческих возможностей, которые человечество всё время пытается преодолеть. Кстати, ранняя диагностика многих, даже смертельных болезней, на самом деле, бессильна против природы. Так, например, исследование результатов ранней диагностики рака простаты (они приведены в интервью берлинского психолога Герда Гигеренцера в журнале «Профиль», №12, 2013 г.) показали, что число умерших из людей, прошедших раннюю диагностику, совпадает с числом умерших, проигнорировавших любую диагностику. Более того, современная сложная диагностика (томография, пункция и т.п.) может быть даже опасной для здоровья. Человека может спасти от болезни не диагностика, а правильный образ жизни, профилактика болезней.
В. Франкл в книге «Человек в поисках смысла» описывает пример жизни человека, у которого из-за предродового поражения мозга были поражены все четыре конечности. Всю жизнь он был прикован к каталке, вплоть до позднего отрочества считался умственно отсталым и оставался безграмотным, пока какой-то учёный не заинтересовался им и не организовал его обучение. В результате он создал в доме литературный салон, многие известные учёные стали соперничать друг с другом за право стать его преподавателями, некоторые красавицы боролись за его любовь. «Какой великой силой нужно было обладать этому человеку, чтобы «вылепить» свою жизнь!» «Фатализм невротика представляет собой одну неявную форму бегства от ответственности… Такой невротик предаёт свою неповторимость и непохожесть на других, ища прибежища в типичности и цепляясь за судьбу, которую якобы нельзя изменить». «Недостаток успеха никогда не означает утрату смысла».
В. Франкл пишет о роли страдания, которое призвано оградить человека от того, чего не должно быть. Страдание ограждает человека от апатии и окоченения. Подавляя свои отрицательные импульсы, человек убивает свою внутреннюю жизнь. Судьба человека принимает двоякий смысл: он должен её формировать, где это возможно, и должен претерпеть, достойно принять, где необходимо. Но научиться понимать, когда выбрать тот или иной путь – это особая мудрость!
Надо признать, что истории известны многие инвалиды, ставшие не только полезными, но и весьма известными людьми. Например, Гёте считался тяжело больным ребёнком (родился с сильной асфиксией, то есть нарушением дыхания и кислородной недостаточностью), но признан сейчас гением. Франклин Рузвельт в детстве перенёс полиомиелит и был обречён на передвижение в инвалидной коляске. Сидя в ней, он стал единственным в истории США президентом, избиравшимся на этот пост трижды. В коляске он вывел страну из экономического кризиса, активно участвовал в создании антигитлеровской коалиции.
Как-то в подавленном состоянии, очень давно, я зашла в туалет на Ленинградском вокзале (он был тогда общим, без кабинок, мне пришлось даже в очереди стоять). И вдруг вижу женщину без ног, на инвалидной подушке, с какими-то валиками для рук, - она наверх карабкается! Её поразительная воля к жизни и приверженность общим правилам жизни мне навек запомнилась! Огромным самообладанием и жизненной силой обладала двоюродная сестра моей матери, Орехова Лидия Тимофеевна, которая в годы Великой Отечественной войны вместе с родителями и двумя братьями наехала на мину. Мать погибла сразу, как и один из братьев; отец вскоре с горя отравился, а Лиде оторвало обе ноги. Но она не только родила и вырастила красавицу-дочь Светлану, но и работала до преклонного возраста (умерла в г. Болшево Московской области в возрасте 82 лет). Наверное, в истории почти каждой семьи в России можно найти пример подобной жизнестойкости!
Российское телевидение сейчас нередко показывает сюжеты, посвящённые судьбе инвалидов. Вот женщина без рук с момента рождения (от неё отказалась мать, но она зла на неё не помнит, и даже побывала недавно на её могиле). У этой женщины уже есть внуки (она родила двоих детей от разных мужчин, хотя никто на ней так и не женился: отец одного её ребёнка был студентом, а другой – бывший заключённый). И, представьте себе, она научилась полностью себя обслуживать, никогда не просила подаяния! Даже огород ногами пропалывает, из лейки растения поливает, телевизионным пультом и мобильным телефоном пользуется! Это какую же силу воли надо иметь и жажду жизни!
Не менее удивительные истории мы узнали благодаря телевидению о «хрустальной девочке» (с необыкновенной ломкостью костей), о девочке Вирсавии с внешним сердцем, о сросшихся и живущих где-то за рубежом близнецах. Тут же показали «Гиту» и «Зиту» из Киргизии, которых врачи разделили, но для поддержания их здоровья, как и лечения отца, матери нужны большие средства и медицинские операции. Показали также мальчика, в котором его брат-близнец «прорастает», видеофильм о мужчине-слоне, о парне с ветками вместо рук. А уж карликами нас не удивить! До чего же природа причудлива! И трудно понять, есть ли граница человеческому терпению, как и искусству врачей. Невольно задаёшься вопросом, где проходит граница милосердия? Через душу и волю к жизни самого инвалида, волю и привязанность родителей, либо связано это с экспериментами врачей и гуманизмом общества, до последнего вздоха оберегающих одних, но изымающих органы ещё при жизни у других?
Как отмечается в статье «Ни жив, ни мёртв» (газета «Известия» 23 ноября 1999 г.), «люди - растения» - огромная медицинская, этическая и социальная проблема…» современного человечества. Некоторые медики (Американская академия неврологии и Британская ассоциация неврологов, например) и даже родственники таких больных понимают, что поддерживать жизнь человека в «растительном состоянии» так же антигуманно, как и «консервировать» тела вождей. Тем более что по мере роста достижений медицины, реаниматологии, таких больных становится всё больше. Резолюцию о возможности прекращения лечения подобных больных Совет по этическим и юридическим проблемам Американской медицинской ассоциации принял в 1986 году. Большая часть (88% процентов опрошенных) американской общественности поддержало это решение, хотя в богатых странах Европы, как и в Америке, есть учреждения, где по желанию родственников такие больные существуют годами. В России прервать жизнь подобных людей врач не имеет права.
Вышедшие из комы больные продолжают жить в «растительном состоянии» (вегетативное состояние отличается от комы независимым от аппарата дыханием и наличием цикла сна-бодрствования). В США около 25 тысяч взрослых и до 10 тысяч детей находятся в вегетативном состоянии (в Японии, кстати, их в несколько раз меньше). Рекордным считается случай, когда подобный больной прожил 17 лет! В газете «Известия» приводится классическое описание этого синдрома, данное ещё в 1940 году: «Больной неподвижен, бодрствует, но не говорит. Его глаза бессмысленно перемещаются, не фокусируясь ни на чём, либо больной смотрит прямо вперёд. Разговор с больным, прикосновение к нему или демонстрация ему предметов не приводит к какому-нибудь ощутимому результату». Современная медицина не даёт чёткого ответа на вопрос, что чувствуют такие больные. Учёным проще сказать, что они не чувствуют. Они не чувствуют боли, не испытывают, по-видимому, эмоций. Не функционируют у них части мозга, ответственные за высшую нервную деятельность, но сознание сохранено. Они не реагирует на зрительные, слуховые раздражения и прикосновения. Возвращение у подобных больных сознания происходит в исключительно единичных случаях! Всё зависит от того, насколько пострадал мозг человека.
Информацию об отношение к больному, болезни и здоровью со стороны Русской Православной Церкви можно найти в книге А.С. Бочарова, А.В. Чернышева «Очерки современной церковной психологии». «Само по себе здоровье – дар Божий. Но иногда средства его достижения сами становятся целью…Уход в здоровье или в болезнь – одинаково вероятные варианты для духовно несостоятельного человека…Обманывать больного, скрывать его положение является грехом для врача и окружающих… Христианское врачевание придерживается золотой середины: с одной стороны, дистанцироваться, отстраняться от больного, ибо невозможно подарить свою жизнь тому, чья жизнь в руках Божиих; а с другой стороны – быть рядом, чтобы помочь принять трагическую неизбежность болезни или смерти». В этом сборнике отмечается, что психологи «выделяют четыре основных фактора, имеющих значение для решения вопроса о прекращении жизни больного, находящегося в терминальном состоянии: наличие у больного упорных, непереносимых болей, трудностей в самообслуживании, чувства бессмысленности продолжения жизни, переживания по поводу того, что он – тяжёлое бремя для всей семьи», а ««Православная церковь не призывает к продлению жизни человека всеми методами, пусть даже в ущерб его сознанию и человеческому облику…Православный христианин хочет, чтобы смерть постигла его тогда, когда он обратился к Богу, покаялся, пролил слёзы, принял Таинства. В связи с этим поддержание биологической смерти имеет мало ценности. Но и прерывать её искусственно – тяжкий грех, рассматриваемый как убийство или самоубийство…»
Рассуждая о неизбежности кризисов в развитии цивилизаций, психолог А.П. Назаретян не только честно признаётся в отсутствии веры в абсолютный прогресс общества, анализирует нелепость «бентамовской формулы прогресса: «большее количество счастья для большего числа людей». Он указывает, что «гарантированное выживание почти всех родившихся детей ведёт к накоплению генетического груза, которое, по мнению некоторых учёных, носит экспоненциальный характер». Каждое последующее поколение становится всё менее жизнеспособным, поэтому и сама жизнь должна становиться всё более искусственной. А.П. Назаретян делает предположение, что «цивилизация планеты Земля доживает последние десятилетия…»
Более того, рассматривая идею веры в исторический прогресс и абсолютную эволюцию, как своеобразный «архетип» человеческого сознания, А.П. Назаретян справедливо отмечает, что «фактическое обоснование идеи эволюции опиралось на представление о деградации». Он ссылается также на исследования этнографов, среди которых особенно много противников эволюционной иерархии. Работая внутри многих самобытных культур, они более склонны к релятивизму и отрицают наличие единственной исторической тенденции развития. А.П. Назаретян убеждён, что кризис развития любой системы, включая человеческую цивилизацию, создаёт новые возможности, хотя при этом отмирает старое. О несостоятельности единого подхода к развитию на примере истории и о необходимости учёта характеристик наблюдателя, пишет и С.Б. Переслегин в книге «Самоучитель игры на мировой шахматной доске».
Я также давно пришла к убеждению, что любое развитие сопровождается деградацией, то есть, в природных и общественных процессах нет абсолютного выигрыша. Идея линейного и однонаправленного прогресса опровергает «Спектральная логика». А «неприродные» процессы мне неизвестны; они прописаны лишь в мировых религиях, хотя наука тоже твердит что-то о негэнтропии жизни. В рамках прежней парадигмы мышления, абсолютизирующей линейный и одномерный подход к оценке событий, мы никогда не найдём выхода из нынешнего цивилизационного кризиса и тупика. Хотя, похоже, что переход к новой парадигме мышления невозможен, да и не нужен большинству живущих людей. То есть мир есть и остаётся многоукладным и неоднородным, так как это обеспечивает его непрерывное развитие во всей полноте жизни. Далеко не всем удастся выжить в условиях кризиса, хотя плата за выживание будет различной. Выжить любой ценой и за счёт других – либо путём личных усилий и жертвы – вот вечная альтернатива этого мира.
Иерей русской православной церкви Игорь Йовбак, настоятель храма в честь иконы Божьей Матери «Милостливая» при Полотняно-Заводском доме-интернате в деревне Старки Калужской области в своих записках (статья «Посмотри им в глаза», журнал «Фома», январь 2013 г.) описывает свой опыт контакта с детьми из коррекционного детского дома, в котором много 20-летних юношей с сознанием трёхлетних детей. Он отмечает: «Среди ребят есть несколько очень сильно «нарушенных» детишек, у которых отсутствуют даже элементарные рефлексы, они слепоглухонемые, у них нет абсолютно никакого контакта с окружающими, даже тактильные ощущения отсутствуют. И вот, когда я захожу с Чашей в палату, ребёнок, который с внешним миром ну вообще никак не связан, вдруг начинает улыбаться. Зрения нет, слуха нет, обоняния нет, вкусовые рецепторы не работают…А он поворачивается в сторону Чаши и улыбается, воспринимая кровь Христову, тело Христово душой. И так – каждый раз. Тут психология и физиология уже ничего, полагаю, объяснить не смогут». Иерей убеждён, что подобные дети – «отображение жизни современного мира», «эти дети несут на себе печать греховности нашего общества», хотя обычно люди не хотят даже смотреть в эту сторону, в глаза этих детей. И это не только и не столько страх, сколько стыд. Тем не менее «не те люди больны, которые, в силу обстоятельств, Христа принимают без ума, сердцем. А те, которые, имея здоровый ум, Бога не принимают вообще».
Всероссийская газета «Надежда» (выпускается Всероссийским Обществом инвалидов, ВОИ) регулярно печатает материалы о жизни инвалидов. В № 9 (сентябрь 2012 года) рассказывается о проекте «Сибирская Робинзонада», который был организован 11 лет назад силами Новокузнецкой организации ВОИ и Центральной городской библиотеки имени Гоголя. Он был задуман, как своеобразный ответ на телевизионную программу «Последний герой». Среди участников «робинзонады» немало уникальных людей, живущих полной жизнью наперекор обстоятельствам. Среди них, например, фотограф без кистей обеих рук, Дмитрий Верфель (несколько лет назад его сбил водитель, который вывез его в лес и бросил). Выжил он чудом, благодаря заботливой матери, стал студентом Кемеровского института культуры, затем - индивидуальным предпринимателем: обслуживает свадьбы, банкеты, детские сады. Создал крепкую семью, в которой подрастает сынишка. Сейчас он задумал создать фотоочерк о силе духа инвалидов «Отнесись ко мне как к равному».
В 2012 году на сборы программы приехало несколько счастливых семейных пар, образовавшихся на предыдущих сборах, которые дружно встречали рассвет. Семейная пара Николая и Екатерины Перехожевых прибыла на встречу в лесу на 8-м месяце беременности Екатерины. В предыдущем году Екатерина, будучи журналисткой Прокопьевского телевидения, приехав на сбор «робинзонады» для репортажа, нашла свою судьбу - инвалида-колясочника 1-й группы после автомобильной аварии, которого оставила жена, уйдя от него с дочерью со словами: «Теперь ты ничего не сможешь нам дать. Забудь о нас». Спустя три месяца после знакомства они поженились. Николай говорит о второй жене: «Она безбашенная такая! И при этом очень чуткая. Знаете, другая постесняется с инвалидом на людях показаться, а Катя, наоборот, куда бы ни отправилась, всюду меня за собой тащит. Мы даже в магазин за хлебом вместе ходим…»
Юля Романова вышла замуж за инвалида не ради подвига. В Алексее Макулове, инвалиде 1-й группы, она разглядела настоящего мужчину, влюбилась в него и сделала первый шаг навстречу. Их семья образовалась в 2004 году, а через год уже родился сын Витюшка.
Безногий инвалид-колясочник Денис Курбаткин познакомился со своей будущей женой по Интернету. Очень переживал, встречая её на перроне Новокузнецкого вокзала, на который девушка прибыла из Башкирии. С тех пор они почти не расстаются! И такие примеры счастливых пар не единичны!
Газета «Крестовский мост» (№ 6, 2015) сообщает об уникальной судьбе 28-летнего Александра Похилько, который родился без ног и кистей рук; родители от него отказались, а сейчас его иконописные работы пользуются спросом даже за границей; она дважды совершал восхождение на Эверест. Когда ему исполнилось 4 года (он рос в пятигорском детском доме), его усыновила регент церковного хора Светлана Похилько и увезла в г. Сергиев Посад, поближе к Троице-Сергиевой лавре, устроила Сашу в православную школу-пансион «Плёсково», где он занялся спортом, в частности, бегом с препятствиями на коленях (на протезы его поставили позже); из-за врождённой патологии почки пришлось научиться жить с постоянной болью. В десять лет, находясь в больнице, он нарисовал врачей, после чего приёмная мать купила ему кисти и краски. Она начал рисовать иконы, образование получил в специализированной академии искусств. На вопрос журналиста «Откуда берутся силы?» Александр Похилько ответил: «Молитва помогает справляться с болью и жизненными трудностями. Я никогда не чувствовал себя неполноценным. Равнялся только на здоровых людей, причём взрослых, чего-то добившихся в жизни. Я тоже хотел добиться». Саша помогает и другим, сотрудничает с благотворительными фондами, часто жертвует собственные деньги, мечтает открыть магазин предметов прикладного искусства, а также – создать свою семью.
Физиолог И.И. Мечников отмечает в своих «Этюдах оптимизма»: «хронические больные часто отличаются оптимистическим мировоззрением, между тем как молодые люди, полные сил и здоровья, становятся меланхоликами» («почти все пессимистические теории были задуманы молодыми людьми»). По-видимому, особую роль в мировосприятии играет воображение. И.И. Мечников описывает случай со слепорождённой девушкой, парализованной с детства и подверженной падучей болезни: «Она почти идиотка и, живя неподвижно в своей повозочке, видит, однако, жизнь в самых радужных красках. Она, бесспорно, счастливейший член всей семьи. Хорошее настроение духа и мания величия прогрессивных паралитиков всем известны. Все эти примеры показывают, что вовсе не так легко объяснить пессимизм отклонением от здоровья».
Подобное кажущееся несоответствие прекрасно подкрепляется современными научными исследованиями и философско-религиозными доктринами (например, диалогом учёных с Далай-ламой в книге «Деструктивные эмоции»). Физиология мозга, его строение во многом определяет психологический настрой человека, возможно, независимо от состояния здоровья самого тела.
Исследуя этапы жизни человека, И.И. Мечников всё же приходит к мысли, что существует идеал человеческой природы, который «заключается в ортобиозе, т.е. в развитии человека с целью достичь долгой, деятельной и бодрой старости, приводящей в конечном периоде к развитию чувства насыщения жизнью и желанию смерти».
Отношение к смерти, наверное, - главная проблема жизни не только для больных людей и инвалидов, но и здоровых. По данным директора Центра паллиативной медицины (ЦПМ) департамента здравоохранения Москвы Нюты Федермессер, только 13% людей умирают быстро: «шёл, упал, умер», поэтому «в паллеативной помощи нуждается 87 % от всех умерших». Только в Москве нуждающихся в ней 60 тысяч человек (газета «Известия», 17 мая 2016).
Историю больного человека, приговорённого к смерти, можно прочесть в известном рассказе Льва Николаевича Толстого «Смерть Ивана Ильича». В комментариях к рассказу со ссылкой на утверждение писателя Н.С. Лескова отмечается: «вся обстановка смерти Ивана Ильича представляет собою, конечно, не картину смерти вообще, а она есть только изображение смерти карьерного человека из чиновничьего круга…». То есть, гений Толстого изобразил нам болезнь и смерть среднего человека, который ценит исключительно личное благополучие, ведёт размеренную и приятную жизнь, в которой нет места ни великому служению человечеству, ни напряжённому научному подвигу, ни высокой веры, ни сильной любви и привязанности к близким людям. Мы наблюдаем жизнь и смерть приземлённого человека, окружённого такими же обывателями, исповедующих подобную веру в личное благополучие, воспринимающих смерть ближнего со «странно поднятыми бровями», как такое «приключение, которое свойственно только Ивану Ильичу, но совсем не свойственно им».
Мораль Л.Н. Толстого такова: смерть неотвратима, а человек, стремящийся прожить жизнь удобно и спокойно, существует в призрачном мире «подобия жизни». Поэтому Иван Ильич в процессе болезни достигает как бы противоположного состояния, в котором реальность смерти заслоняет полностью реальность жизни, в которой только смерть и «была действительность». В этом состоянии Иван Ильич не только начинает ненавидеть всех тех, кто всё ещё предполагает по-прежнему жить, но и постигает «ужасный огромный обман», ложь обычной жизни. Но в последние моменты жизни Иван Ильич перестаёт бояться смерти, ему кажется, что её вообще нет, он начинает ощущать свою слитность со всем миром, включая своих самых близких и родных людей, которых он вдруг искренне пожалел и возлюбил.
Тем не менее, мне представляется рассказ Л.Н. Толстого хоть и правдоподобным, но не совсем типичным. Кстати, он опровергается многочисленными описаниями болезни и смерти очень многих его героев (Платона Каратаева, Пьера Безухова, Андрея Болконского в романе «Война и мир», например), которые, рассуждают о болезни и смерти, переживают их трансформирующее воздействие на сознание совсем иначе. Многие из героев Толстого давно объединили жизнь и смерть в одну реальность, хоть и неподвластную человеку до конца, но нераздельную; не печальную, грустную, но и не весёлую, беззаботную. Эта реальность принадлежит Богу или чему-то, кому-то, предельно значимому и непостижимому для сознания человека. И лишь проблески постижения этого «трасцендентного бытия» просвечивают ярче всего в периоды болезни и смерти, во время которых, как это ни парадоксально, человек постигает жизнь вечную!
Конечно, не мне судить, насколько эти, по терминологии психологов, «изменённые состояния сознания» (ИСС), в экстремальных жизненных обстоятельствах, к которым можно отнести болезнь и смерть, «адекватны реальности». Спор о реальности и адекватности тех иди иных ИСС не утихнет, пока жив человек, так как одни люди живут исключительно в условиях пресловутой «нормы», а другие выходят за её пределы только в условиях болезни и угрозы смерти, либо более-менее постоянно с помощью молитв, медитаций или за счёт алкоголя.
Физиолог, разносторонний учёный из США, венгр по происхождению, Ласло Бито всесторонне исследовал тему смерти с точки зрения её естественности и практики пассивной и активной эвтаназии (книга «Эвтаназия? Эвтелия!»). Ведь «благодаря бурному развитию биотехнологий практически безграничным становятся возможности удержать по эту сторону рокового порога человека, едва подающего признаки жизни и лишённого сознания». Несомненно, это создаёт дополнительную нагрузку на общество и определённых граждан – от медперсонала больниц и хосписов до родных и близких. Возникают и дополнительные юридические проблемы – от стремления продлить жизнь полуживого завещателя своего имущества до попыток отправить его быстрее в мир иной. Унизительное состояние зависимости дряхлого человека, одиночество, мольбы страдающих людей являются для многих аргументами к реализации права на добровольный уход из жизни, эвтаназию, которое может быть реализовано как в пассивной форме (отказа от экстремальной медицинской помощи или лекарств), так и в активной форме смертельных инъекций. Ласло Бито вводит понятие эвтелия, «понимая под ним благое завершение жизни и, тем самым, связывая воедино хорошую жизнь и хорошую смерть». Отличие эвтелии от эвтаназии он видит не только в легализации эвтаназии и праве человека на безболезненный уход из жизни, но и в «подготовке души к неизбежному концу». Для этого необходим иной подход к жизненным ценностям и страху смерти. Бито рассматривает отношение к смерти в историческом измерении и в измерении цивилизационном, в зависимости от идеологии, к числу которых можно отнести и религию. Он пытается выявить главные признаки, как начала жизни, так и её конца, то есть точку отсчёта и точку не возврата. Начало жизни - это: яйцеклетка (потенциальная зигота); затем она превращается в эмбрион, который развивается в плод. Потом появляется младенец, затем – ребёнок и подросток. Даже взрослый человека далеко не всегда достигает вершины развития, хотя биологическое развитие достигает своей вершины. «Процесс формирования человека следует понимать пожизненным», - отмечает Ласло Бито, а «духовному созреванию человека способствует любое событие, переживание или поступок, любая информация, логическое заключение…». Поскольку нынешнему времени «открываются всё новые и новые измерения трансцендентного, вселяя надежду верой нашей постичь Творца Вселенной и бытия, дающее смысл всему сущему». (Я бы отметила, что данная перспектива открывается не для всех, так как не только сохраняется, но и расширяется разнообразие уровней сознания, растёт значимость фактора неоднородности Единого Пространства Жизни). И при этом возникает вопрос, что именно определяет индивидуальность человека, его «Я»: геном, ДНК (гены подвержены изменению не только при трансплантации органов), его психика, духовная жизнь? В свете этого некоторые лекарства, медицинские процедуры и, прежде всего, обезболивающие средства типа морфина, «часто вызывают духовную смерть». Как же тогда определить рубеж между жизнью и смертью? «Определение конца жизни также зависит от условия, кого считать человеком, самостоятельной личностью, индивидуальностью, что считать главным элементом идентификации», - задаётся вопросом Ласло Бито. При многообразии нарушений в биологическом и психическом развитии человека, часть из которых не поддаётся коррекции, возникает вопрос: «Какую обладающую человеческими генами биологическую форму жизни следует считать человеческой жизнью?» и «что понимать под смертью с точки зрения биологии?» При этом современные медицинские справочники подробно излагают критерии установления момента смерти. Среди них: прекращение дыхания и остановка сердца, хотя перед этим в мозгу уже могли произойти необратимые изменения, и к больному не вернулось сознание. А, может, можно считать человека живым, если сохранилась хоть одна клетка организма с индивидуальным генетическим составом, способная к самопродуцированию? Способность к движению, как критерий жизненности, также нельзя абсолютизировать, так как «немало обездвиженных людей проживают жизнь, духовно и эмоционально более насыщенную, чем средний здоровый человек». «Жизнь в подвешенном состоянии» - замораживание («криопрезервация»), анабиоз, различные способы замедления жизни (например, путём переохлаждения, голодания, медитации и т.п.) также ставят вопрос о степени жизненности этих состояний, как и характер предсмертных ощущений. Несмотря на то, что даже в животном мире, старые особи иногда окружены особым почтением и заботой, стареющие индивиды в некоторых культурах избирают добровольную смерть. Есть и соответствующие техники остановки дыхания и сердца. Тем более что угасают не только биологические адаптационные возможности, но и интерес, воля к жизни, интеллектуальные способности. Ласло Бито констатирует, что «наше духовное и душевное развитие, а вместе с ними и правовая система в своём совершенствовании не поспевали за медициной и биотехнологией, и, стало быть, нам всё в меньшей степени приходится рассчитывать на естественную смерть». В результате следующим поколениям для этого будет необходима психологическая и фармакологическая помощь.
Отношение к смерти, тем более, насильственной (в отношении, например, преступников и террористов, явных врагов), может быть разным. Её рассматривают как неизбежный итог жизни, как наказание за первородный грех; как наказании за преступление и возмездие. Но она может быть и избавлением от непосильной жизни, физических и моральных страданий. Она может быть и подвигом, жертвой ради дальнейшей жизни на Земле. Ласло Бито приводит информацию о развитии медицинских учреждений, облегчающих кончину. Среди них – хосписы, которые появились впервые в Англии в 1967 году; в США с 1983 года они пользуются поддержкой в рамках федеральной программы здравоохранения. Но пребывание в них больного не может быть безграничным во времени, не говоря уж о финансировании обслуживания.
Каждая болезнь в чём-то обновляет человека, если она проходит. Сознание меняется при переходе к болезни и при выздоровлении. Иногда это происходит постепенно, иногда – резко и бесповоротно. К тому же, существуют наиболее опасные, смертельные и безнадёжные болезни, которые обрекают человека на сильные физические и психические страдания. Несмотря на то, что некоторые религиозные традиции (например, буддизм) считают, что мысли о смерти – это проявление страсти к обновлению и развитию, а болезнь – не только тормоз, но и повод для развития, «домоклов меч» угрозы смерти не всегда способствует просветлению сознания. Чаще всего, он ввергает человека в длительную депрессию.
Состояния раковых больных, показанные на фоне обычной, обыденной жизни медперсонала, родных и близких, можно найти в повести Александра Солженицына «Раковый корпус». Помните, как герой повести, Павел Николаевич Русанов, оказался в палате среди девяти онкобольных. Один из них его сразу «припечатал» фразой: «теперь всё, профессор. Домой не вернёшься, понятно?» «…Павел Николаевич мог, конечно, оборвать его и поставить на место, но для этого он не находил в себе обычной воли: она упала и от слов обмотанного чёрта ещё опускалась. Нужна было поддержка, а его в яму сталкивали. В несколько часов Русанов как потерял всё положение своё, заслуги, планы на будущее – и стал семью десятками килограммов тёплого белого тела, не знающего своего завтра». И наиболее разительной перемена жизни предстаёт Русанову в туалете: «В этой уборной, без кабин и даже без унитазов, он особенно чувствовал себя неотгороженным, приниженным к праху».
Другой персонаж повести, Костоглотов, так описывает своё состояние перехода к болезни сердобольной медицинской сестре Зое: «За эту осень я на себе узнал, что человек может переступить черту смерти, ещё когда тело его не умерло. Ещё что-то там в тебе кровообращается или пищеварится – а ты уже, психологически, прошёл всю подготовку к смерти. И пережил саму смерть. Всё, что видишь вокруг, видишь уже как бы из гроба, бесстрастно. Хотя ты не причисляешь себя к христианам и даже иногда напротив, а тут вдруг замечаешь, что ты-таки уже простил всем обижавшим тебя и не имеешь зла к гнавшим тебя. Тебе уже просто всё и все безразличны, ничего не порываешься исправить, ничего не жаль. Я бы даже сказал: очень равновесное состояние, естественное. Теперь меня вывели из него, но я не знаю – радоваться ли. Вернутся все страсти – и плохие, и хорошие».
Не правда ли: это описание иллюстрирует ту же простую идею: болезнь и угроза смерти – это всегда стресс, это всегда – изменение состояния сознания, иногда уже необратимое и неблагоприятное. Хотя нужно признать, что вся жизнь – непрекращающийся стресс. Особенно, если учесть, что человек в процессе онтогенеза, то есть индивидуального развития, проходит целый ряд возрастных и других кризисов. Гейл Шихи в своей работе «Возрастные кризисы» описывает основные из них, констатируя, что они не связаны только с внешними факторами, но и с неизбежностью внутренних изменений… Особые эмоции вызывает близость смерти и мысль о её неизбежности.
Осознание пациентом неблагоприятного прогноза при онкозаболеваниях проходит следующие стадии:
1) шоковая, при которой рациональная составляющая реакции сведена к минимуму. Выражается страхом, тревогой, депрессией;
2) стадия отрицания. «Нет, не я!» Включаются механизмы защиты, пациент отрицает очевидное, обманывает себя и близких;
3) стадия бунта и протеста. «Почему именно я?» Важно излить свои чувства вовне. Возможен категорический отказ от помощи;
4) стадия «торга». Больной вступает в диалог с врачами, обстоятельствами, потусторонними силами;
5) «депрессивная» стадия;
6) примирение со смертью.
Есть точка зрения, что у больного, умирающего от рака, возможны следующие отношения к смерти: адаптивное (с верой в выздоровление), апатичное (с безразличием к исходу), зависимое (с требованиями к окружающим), неприятие болезни (со сварливостью, страхами и ссорами).
Нам представляется, что возможно ещё отношение просветлённое, которое сверкнуло в конце жизни Ивана Ильича у Толстого, но которое является распространённым отношением среди религиозных подвижников, монахов разных религиозных конфессий. Если они – истинные подвижники.
Интересную, хотя и не бесспорную, трактовку просветлённости жизни даёт М.В. Лодыженский в своих трудах: «Свет незримый» и «Сверхсознание и пути к его достижению. Индусская Раджа-Йога и Христианское Подвижничество». Прежде всего, он подвергает критике позицию Л.Н. Толстого, который «вопреки христианской религии, основанной на вере в Благодать Божию, дающую человеку личное радостное бессмертие… учит, что верование в будущую личную жизнь есть очень низменное и грубое представление. Толстой говорит, что для разумного сознания человека не может быть никакого представления о будущей жизни….под этой жизнью он подразумевает нечто отвлечённое, не представляемое человеком». Далее Лодыженский, с привлечением многочисленных свидетельств мистических откровений христианских подвижников, доказывает несостоятельность мнения Толстого и подчёркивает непреходящий личностный характер жизни после смерти, прописанный христианским учением. Он напоминает читателям слова Серафима Саровского: «Когда меня не станет, говорил Серафим своим духовным детям, вы ко мне на гробик ходите…Припав к земле, как к живому, всё расскажите, и услышу я вас. Вся скорбь ваша отлетит и пройдёт. Как вы с живым всегда говорили, так и тут. Для вас я живой есть и буду во веки».
Тот, кто терял в своей жизни самых родных и близких, не станет сомневаться в буквальности слов Серафима. Для того чтобы тебя слышали не нужно даже ходить на могилку, так как дорогие покойники - везде или нигде. Главное, чтобы мольба была искренней и страстной, шла от сердца, тогда и наступит в душе покой и равновесие. (Психологи в этом случае могут объяснить данный феномен обращением к собственному бессознательному, к тем архетипам, которые помогают даже атеистам, если они не богохульствуют и не смеются над чужой верой и предрассудками).
В диалоге с М.В. Лодыженским Толстой проявляет истинный интерес к многотомному «Добротолюбию», хотя и отрицает при этом свой интерес к христианским подвижникам, несмотря на то, что во «Власти тьмы» он создал образ Акима. По его мнению, «Аким – просто хороший человек». Тем не менее, Толстой делает попытку встретиться с оптинскими старцами, но не решается войти в келью одного из них под предлогом, что тот его не пригласил (но ведь он был отлучён от церкви)!
Насколько серьёзно было противостояние церкви и Толстого, можно судить по дневниковым записям Св. Иоанна Кронштадского, отрывок из которых приводит в своей книге «Бедлам» Ю.Воробьевский. Запись такого содержания была сделана 6 сентября в 9 вечера (накануне дня рождения Толстого, которому 8 сентября 1908 года должно было исполниться 80 лет): «Господи, не попусти Льву Толстому, еретику, превзошедшему всех еретиков, достигнуть до праздника Рождества Пресвятой Богородицы, которую он похулил ужасно и хулит. Возьми его с земли – этот труп зловонный, гордостию своею посмрадивший всю землю. Аминь». Комментарии, думаю, излишни!
Лодыженский объясняет невозможность встретиться Л.Н. Толстому с оптинскими старцами, а также отсутствие возможности в октябре 1910 года задержаться у своей сестры-монахини, Марии Николаевны, в Шамордино, гордыней. Лодыженский приводит возгласы Толстого в день его смерти: «Не понимаю, что мне делать…А мужики-то, мужики как умирают! Так видно мне в грехе придётся умереть…Вот конец и ничего…». Он сравнивает смерть Л.Н. Толстого не только со смертью христианских подвижников, но и со смертью религиозного писателя А.С. Хомякова, который умер «хорошо» от холеры 25 сентября 1860 года, так как соборовался и причастился. «Он так хорошо умирал потому, что сердце его ощутило живое прикосновение божественной силы, к которой он стремился – прикосновение силы, побеждающей смерть, дающей людям уверенность в будущей радостной жизни», - констатирует Лодыженский.
Мне же представляется, что Лев Толстой был честен в своём сомнении, которое распространялось у него и на опыт духовного подвижничества. Поэтому в своей повести «Отец Сергий» он вывел подвижника, для которого смирение оказывается по сути гордостью, так как отделяет его от простых, обычных людей. Поэтому, прозрев, он видит идеал в обычной женщине Пашеньке, которая всю жизнь отдала своему мужу, детям и внукам. Таким образом, для Толстого истинным является то, что естественно и ближе всего к природному началу. Тем самым Толстой ставит под сомнение особую ценность духовного пути христианских подвижников, он словно не доверяет их искренности. На мой взгляд, позиция Толстого во многом близка буддизму, который, наряду с йогой, но уже на личностном и этическом уровне, открыл для себя заново жизнь вечную и непрерывную, в которой все её отдельные составляющие смертны и преходящи только для непросветлённого человека.
Известный исследователь культурного феномена смерти и автор обширной монографии на эту тему «Хроника Харона. Энциклопедия смерти» Александр Лаврин отмечает: «По свидетельству онкологов, многие их пациенты умирают не в примирении с реальностью, а с проклятиями на устах, с воплями: «Сволочи врачи!» «Я буду жаловаться!» Из-за этой психологии врачи, которые создавали в России первые хосписы, столкнулись с проблемой преодоления ложного оптимизма». Преодоление требовалось как от больного, так и от врача. Лаврин объясняет это тем, что наша медицина привыкла скрывать диагноз, что было связано с тем, что «частной смерти нет», так как жизнь советского человека принадлежала обществу, воспевалась героическая смерть за Родину и т.п. (статья «У нас украли смерть», газета «Столичная», 17 марта 2004).
Мне представляется, что дело не только в том, кому принадлежит жизнь и смерть человека («приватизация жизни и смерти», то есть лишение их государственного статуса и коллективного предназначения ничуть не лучше лишения человека права на частную жизнь и смерть). Ведь, в пределе, человеку действительно до конца не принадлежит ни то, ни другое! И жизнь, и смерть человека принадлежат Богу и Природе, то есть они имеют смысл лишь при соприкосновении с вечностью, при переходе во всё более трансцендентное состояние. Поэтому коллективистские привычки советских людей, героизация жизни и смерти куда ближе к такой позиции, чем частное и поэтому усечённое представление о них. Впрочем, многое зависит от масштаба как личности, так и коллектива, от идеологии, религии, исповедуемой частным лицом или государством. Таким образом, государство, общество, как и понятие Бога, могут, как устремлять человека по пути расширения бытия и сознания, помогать преодолевать собственный эгоизм и усиливать трансформирующее начало в человеке, так и лишать его таких возможностей, ограничивать его потребность в трансцендентном. На мой взгляд, атеизм советской поры не лишал большинство людей этой потребности, а лишь перемещал её из сферы воображаемого мира в социальную сферу служения другим людям, а не абстрактному Богу.
Подробнейшую историю напряжённой борьбы между жизнью и смертью приводит в своей книге «Зигмунд Фрейд. Жизнь и смерть» его врач и биограф Макс Шуре. В 1923 году у Фрейда диагностировали рак; он прожил с этим диагнозом до 23 сентября 1939 года. Фрейд был заядлым курильщиком, так как курение помогало ему сосредоточиться, поэтому рак в ротовой полости, наверное, был связан с этой привычкой, а также со старением организма, стрессами и, возможно, другими факторами, оценить которые мы не в силах. Он перенёс множество операций, нуждался в специальном протезе, который много раз менялся и без которого он не мог ни говорить, ни есть. Но при этом Фрейд почти не прекращал работу психоаналитика, часто выступал перед разными аудиториями и написал много работ. Его мучили не только физические боли, но и моральные страдания: потеря дочери и внука, многих родных и друзей, разногласия с учениками, непонимание коллег… Всего не перечислишь. Фрейд страдал депрессиями, но мужественно боролся за жизнь, постоянно ожидая смерти. Ещё в 1913 году Фрейд отмечал, что «постигая смерть разумом, человек может надеяться победить не саму смерть, но свой страх перед нею». Он отмечал эволюцию отношения человека к смерти – у большинства людей встреча с ней вызывает полную растерянность, так как обычно о ней не думают и воспринимают как случайность. Постепенно человек привыкает к мысли о смерти, она уже не вызывает тяжёлых переживаний. Религиозные доктрины, признающие бессмертие или посмертное существование, Фрейд считал иллюзиями, в которых воплощаются страстные и наиболее настойчивые желания людей, прежде всего, в расширении рамок земного существования. Хотя выше всего он ставил разум и науку, ратовал за воспитание реалистичности, он признавал: «Если Вам угодно изгнать из нашей европейской культуры религию, то этого можно достичь только с помощью другой системы учений, которая с самого начала переймёт все психологические черты религии: священный характер, косность, нетерпимость, запрет на мысль». Позднее он так писал об отношении к смерти: «Наше отношение к смерти во многом зависит от того, насколько мы наслаждаемся жизнью и способны терпеть её. Если говорить в терминах психоанализа и структурного подхода, оно зависит от способности обеспечить некоторое удовлетворение инстинктивных потребностей, от способности «Я» переносить фрустрацию, способности к сублимации, от характера «Сверх-Я» и от способности к формированию внутренней и внешней гармонии. Продолжительные болезни и страдания – что означает не только удлинение жизни, но и затягивание умирания – должны обязательно влиять на это». Несмотря на убеждённость в наличии «инстинкта смерти» наряду со стремлением к жизни, Фрейд понимал, что его неоднократные желания смерти связаны с балансом положительных и отрицательных переживаний, который неоднократно нарушался в сторону страданий, то есть были продиктованы желанием «сладкого покоя». Смерть он во многом отождествлял с нирваной и объяснял стремление к ней с потребностью человека в балансе удовольствия-неудовольствия, а также ослаблением воли к жизни со стороны ослабевших «Я» и либидо.
Лама Анагарика Говинда в книге «Творческая медитация и многомерное сознание» констатирует: «В факте умирания таится глубочайшая мистерия жизни». Необходимость смерти связана «с жизненностью творческого духа, которому недостаточно одной единственной формы». Жизнь непросветлённого человека – это некое «Промежуточное Состояние» между физической смертью и физическим перерождением, которое есть иллюзия или сон. «Смерть это недостаток способности к трансформации». «Человек смертен, пока он пытается цепляться за своё нынешнее состояние ума и тела, пока он не пробует возвыситься над своим нынешним состоянием».
Индийская логика, отмечает Лама Говинда, в отличие от формальной западной логики («А есть В», «А не есть В» и т.п.), содержит варианты: «1) есть; 2) не есть; 3) есть и не есть; 4) ни есть, ни не есть». «Иначе говоря, эти четыре утверждения постулируют: 1) бытие, 2) небытие, 3) как бытие, так и небытие; 4) ни бытие, ни небытие. Первые два утверждения относятся к сфере конкретных объектов, воспринимаемых чувствами или посредством понятий, к сфере фиксированных сущностей, где мы можем говорить о тождественности или нетождественности. Третье утверждение относится к сфере относительного и соответствует событиям, происходящим на уровне живых организмов. Четвёртое утверждение относится к сфере трансцендентального опыта, превышающего чувственное восприятие и понятия, поскольку его объекты бесконечны и доступны только интуиции, т.е. непосредственному (прямому) опыту или опыту высших измерений».
Образ Николая Островского в Советское время стал нарицательным, символом несгибаемого судьбой человека. Родился Островский 29 сентября 1904 года, служил в Красной армии, хотя он признавался в письме Л. Беренфус (дочери главного врача курорта в Бердянске, где его лечили грязями) в 1922 году: «Порыв…желание жить своей мечтой бросил меня в армию в 1920 году, но я быстро понял, что душить кого-то – не значит защищать свободу».
Учась на первом курсе электротехнического техникума в г. Киеве, он участвовал в строительстве железнодорожной ветки, которая должна была обеспечить Киев дровами. Там простудился, заболел тифом и в бессознательном состоянии был доставлен домой. Его мать вспоминала: «Как-то сижу дома. Вдруг открывается дверь, незнакомый парень предупреждает: «Готовьте место, привезли вашего сына»….Несут его укутанного, будто неживого. Он был в тифу, без сознания. Раздели, уложили. Он весь грязный, руки красные, обмороженные. Пришёл Митя, помог мне его вымыть, переодеть. Не скоро вернулось к нему сознание…»
В 18 лет Николай узнал, что его болезнь неизлечима и его ждёт полная неподвижность. Он замыкается в себе, пытается свести счёты с жизнью, постоянно задаёт себе вопрос: «Зачем жить?». Переписка о самом сокровенном с Людмилой Беренфус помогла выжить. С детства он любил книги и чтение, в чём также ищет спасение. А также – в работе, создаёт первые комсомольские ячейки в пограничных районах Украины. В 1924 году вступает в коммунистическую партию. Смысл своего существования видит в том, чтобы быть полезным людям и Родине. Тем не менее, он откровенно пишет Л. Беренфус: «…Я болен, не могу ходить…Вы, я наверное знаю, не поймёте всей муки, в какой я живу это последнее время…Будучи так молод…, я чувствую, как старик, и живу, как старик, проживший все свои радости, которому остались лишь воспоминания о прожитых счастливых днях, … слишком мало осталось жить».
Своё состояние Николай Алексеевич описал в эпохальном романе «Как закалялась сталь», в котором Павка Корчагин размышляет: «… в будущем он должен ждать чего-то ещё более ужасного. Что же делать? Угрожающей чёрной дырой встал перед ним этот неразрешённый вопрос. Для чего жить, когда он потерял самое дорогое – способность бороться? Чем оправдать свою жизнь сейчас и в безотрадном завтра? Чем заполнить её? Просто есть, пить и дышать?... Пуля в сердце – и никаких гвоздей! Умел неплохо жить, умей вовремя и кончить. Кто осудит бойца, не желающего агонизировать? Рука его нащупала в кармане плоское тело браунинга, пальцы привычным движением схватили рукоять. Медленно вытащил револьвер…Всё это бумажный героизм, братишка! Шлёпнуть себя каждый дурак сумеет всегда и во всякое время…А ты попробовал эту жизнь победить? … Умей жить и тогда, когда жизнь становится невыносимой. Сделай её полезной». Кстати, он боялся получить из редакции безоговорочный отвод, который мог стать его гибелью. Книгу приняли к печати в журнале «Молодая гвардия» (вышла в мае 1932 года), хотя писатель М. Колосов сделал к ней много замечаний.
Но смог бы Николай выстоять, если бы с ним рядом не были его родные, добровольные секретари, если бы его не поддержали известные журналисты и литераторы? Появились читатели и поклонники…В 1935 году после письма А. Караваевой и М. Колосова от имени журнала «Молодая гвардия» И.В. Сталину Островскому предоставили прекрасную квартиру на улице Горького (ныне – Тверской), где сейчас музей.
Как признавался Н. Островский М. Павловскому, преодолевать свои страдания он научился путём огромной работы над собой: «Я начал учиться владеть собою с мелочей…Я добился того, что мог выключить боль из моего сознания на любом участке тела, хотя каждое прикосновение к моему телу вызывало невыносимое болезненное ощущение, пробегающее по мне, подобно молнии». Физические потери не прекращались: глазной врач Авербах в 1936 году предложил ему вынуть правый глаз, тем не менее, он писал А. Лазаревой, что эти потери «возмещаются во сто крат духовными приобретениями, которая даёт мне творческая жизнь….Жизнь бессильна меня ограбить…» Французский писатель Андре Жид в книге «Возвращение из СССР» отмечает: «Лишённая контакта с внешним миром, приземлённости, душа Островского словно развилась ввысь». Умер Н. Островский 22 декабря 1936 года.
В городе Москве, по адресу: ул. Тверская, д. 13, где провёл свой последний год жизни Николай Островский, располагается Государственный музей – гуманитарный центр «Преодоление» имени Н.А.Островского. В нём есть экспозиция, посвящённая людям, ставшим инвалидами и, наперекор своему физическому состоянию, нашедшим в себе силу жить и быть полезными. В этой экспозиции можно вновь ознакомиться с материалами, посвящёнными легендарному Герою Советского Союза Алексею Маресьеву; узнать о судьбе бывшей фронтовой медсестры Зинаиды Туснолобовой, которую вынесли с поля боя с перебитыми ногами и без сознания. В Свердловском госпитале ей ампутировали обе руки и ноги, после чего она стала директором в родном городе Полоцке, обрела любящего мужа и родила двоих детей. Лишившись ноги, попав под трамвай, курсант лётного училища, Святослав Фёдоров, посвятил себя офтальмологии, стал известным общественно-политическим деятелем.
Студентка театральной студии Курганского областного театра, Людмила Туманова, в 1963 году стала жертвой хулигана, нанесшего ей 13 ножевых ран. Ноги у девушки были полностью парализованы. Она начала писать стихи, музыку, исполняла свои песни под гитару. Незрячий с детства Юрий Сарафанов стал профессиональным певцом. Переболев в три года менингитом и энцефалитом, потеряв возможность самостоятельно передвигаться, Юрий Филипьев стал филологом, написал несколько книг, а самое главное, - разработал для себя технологическую систему, с помощью которой может обходиться дома без посторонней помощи. Через оздоровительное голодание преодолел свою тяжелейшую болезнь (болезнь Бехтерева) и угрозу полной неподвижности Сергей Бородин. На ощупь пишет картины художник Сергей Поползин…Список героев «Преодоления» можно продолжить.
Как отмечается в статье «На границе между светом и тьмою» (Журнал «Фома», апрель 2013) «слепоглухонемые – самые одинокие люди на свете»; тем не менее, на вопрос психологу и педагогу А. Мещерякову: «Могу ли я быть счастлив?» выпускник Сергеево-Посадского детского дома для слепоглухонемых Юрий Лернер (позднее он сам стал психологом) сам же и ответил: «А я – счастлив – в самом точном смысле этого слова. Ведь несчастье – это иметь что-то и потерять. Я же ничего не имел, но с каждым днём нечто приобретаю». Психолог Лернер умер несколько лет назад в полном одиночестве в специализированном интернате, а его товарищ по учёбе, тоже психолог и выпускник того же детского дома для слепоглухонемых, предполагает, что «соблазн самоубийства наверняка приходится преодолевать всем ослепшим и оглохшим в зрелом возрасте. Может возникнуть этот соблазн и у слепоглухих с детства…». (Закончить психологический факультет МГУ четверым выпускникам детского дома в тогдашнем Загорске помогали ведущие советские философы и психологи). Кстати, исторически именно Церковь первая занялась слепоглухонемыми; даже дактильную («пальцевую») азбуку для них создали испанские монахи в ХУ1 веке. Как показывает опыт жизни слепоглухонемых, для них особенно важно постоянство как в окружающем пространстве (каждая вещь должна быть на своём месте), так и в отношениях с людьми. При этом, как отмечает в интервью журналу «Фома» Президент Европейского союза слепоглухих Сергей Сироткин, слепоглухонемые не всегда понимают, почему между ними и окружающими возникают психологические барьеры. У них огромная потребность общаться, которой нет выхода, констатирует священник и духовник Общества социальной поддержки слепоглухих «Эльвира» Лев Аршакян. К своему недугу многие из них привыкают с детства и не воспринимают как трагедию, принимают свою судьбу.
Выдающиеся исследования проблемы формирования высших психических способностей человека на примере слепоглухонемых детей психолога А.М. Мещерякова привлекли внимание известного философа Эвальда Васильевича Ильенкова. Одновременное отсутствие зрения и слуха при рождении детей, либо их утрата из-за несчастного случая обрекает их на деградацию несмотря на то, что мозг их продолжает с возрастом расти, усложняться по программам, закодированным в генах. Но, как отмечает Ильенков, «мозг так и остаётся навсегда лишь органом управления процессами, протекающими внутри тела этого обездоленного существа, - процессами кровообращения, пищеварения и выделения, газообмена и терморегуляции, т.е. процессами, которые и у каждого нормального человека протекают без участия психики и в её помощи не нуждаются». И науки биологического цикла (физиология высшей нервной деятельности, медицина и нейрофизиология) в этой ситуации абсолютно бессильны, так как одних биологических предпосылок для развития психики недостаточно. Ведь «слепоглухота начисто перерезает все обычные каналы общения мозга с миром человеческой культуры. Мозг оказывается в состоянии трагического одиночества, наедине с чужим и непостижимым для него «внешним миром вообще». Помочь в данном случае может совсем другая наука – психология». И психическая деятельность, способная осуществить такую помощь слепоглухонемому, «от природы» в мозг не встроена. И только в ходе приобщения к культуре «(а не в результате биологического развития мозга) впервые возникают, а затем развиваются вплоть до самых высших уровней все без исключения специфически человеческие психические функции – сознание, воля, интеллект, воображение, способность понимать речь и говорить, способность «самосознания» и все остальные». То есть «в мире, где есть лишь материя, но нет духа, нет психики, нет сознания и воли, мышления и речи…., нет никакого образа внешнего мира. Даже самого смутного, не то что «адекватного». Поэтому без вмешательства воспитателя, педагога, психолога, слепоглухонемые обречены «на бессознательное существование в мире мрака и безмолвия, и физического и духовного…». Труд, совместные действия, усилия инвалида и его окружающих людей, непрерывное общение между ними творят чудо. Э.В. Ильенков констатирует: «Ключевым понятием педагогики И. Соколянского – А. Мещерякова и стало поэтому понятие «совместно-разделённой деятельности», т.е. деятельности, осуществляемой ребёнком совместно с воспитателем и, естественно, разделённой между ними таким образом, чтобы ребёнок постепенно перенимал все те специфические человеческие способы деятельности, которые предметно зафиксированы в формах вещей, созданных человеком для человека…». При этом, как пишет Ильенков в работе «У истоков мысли», А.И. Мещеряков требовал от воспитателей и педагогов Загорской школы-интерната для слепоглухонемых детей «величайшей внимательности и серьёзного уважения к малейшему проявлению самостоятельной активности маленького человека…Иначе вам так и придётся всю жизнь опекать воспитанника…В любом деле…». То есть развитие высшей психической деятельности тесно связано с предметно-практической деятельностью, прежде всего, рук, а не только со словами, речью и звуком. Человеческая психика начинается с малого, незаметного, с умения обращаться по-человечески с предметами быта.
Предельным примером стойкости тяжелобольного человека является жизнь и творчество мексиканской художницы и выдающейся женщины ХХ века Фриды Кало (кстати, она была убеждённая коммунистка; её хоронили даже под красным стягом). Виталий Вульф в книге «Великие женщины ХХ века» посвятил ей короткий, но выразительный очерк «Радость и боль». В семь лет Фрида, которая росла сорванцом, ушибла ногу о корни дерева, после чего боль стала её постоянным спутником. В начале у неё обнаружили полиомиелит, но она тренировалась постоянно, чтобы преодолеть болезнь. Она добилась своего, но правая ступня атрофировалась, и нога стала короче и тоньше. Фрида всегда отличалась редким жизнелюбием, красотой и обаянием, привлекала к себе мужчин. Вместе со своим женихом 17 сентября 1925 года она ехала в переполненном автобусе, который на перекрёстке столкнулся с трамваем. Юношу выбросило из окна автобуса, он практически не пострадал, а Фриду насквозь пронзило металлическим поручнем. Её страдания были невыносимы. Врачи не оставляли ей шансов на жизнь, у неё был перелом четвёртого и пятого поясничных позвонков, три перелома в области таза, одиннадцать переломов правой ноги, вывих левого локтя, глубокая рана брюшной полости, произведённая железной балкой, которая вошла в левое бедро и вышла через влагалище. Обнаружился также острый перитонит и цистит.
Чего стоило Фриде борьба за жизнь, знают лишь люди, тяжело раненые на войне, искалеченные в результате автомобильных и других аварий, раны которых называют несовместимыми с жизнью! Дай Бог, чтобы подобных страданий ни один человек не испытывал никогда! Фриде Кало помогло, наверное, врождённое жизнелюбие, забота близких и зеркало, которое подвесили над её кроватью. Под его влиянием у неё появилось страстное желание рисовать. Она начала изображать себя и своё истерзанное тело. В ней жила также неутомимая жажда любви, которая воплотилась в огромное чувство к известному художнику-монументалисту, неутомимому бабнику, жизнелюбу, коммунисту Диего Ривере. 21 августа 1929 года в возрасте 22 лет Фрида Кало вышла замуж за Диего Риверу, который был на 20 лет старше. Их любовь прошла множество испытаний, включая увлечение Фриды Львом Троцким (в январе 1936 года он прибыл в Мексику: политическое убежище было ему предоставлено по ходатайству Риверы, а разместился он с женой первоначально в семейном доме Фриды). Как отмечает В. Вульф: «Историки предполагают, что если бы Диего узнал обо всём вовремя, Троцкий бы погиб, не дожидаясь ледоруба Рамона Меркадера в 1940 году».
Фрида тем временем приобрела мировую известность как художница. В ноябре 1938 года в Нью-Йорке прошла её персональная выставка, ей покорился Париж. Её картины покупали, у неё были романы с мужчинами, она стала подлинной сенсацией, одевалась в яркие национальные одежды, к ней вернулся Диего Ривера, и они вторично поженились в декабре 1941 года. Но здоровье Фриды продолжало ухудшаться. Она перенесла несколько операций на позвоночнике (их было за всю жизнь 32), постоянную боль не снимал даже морфий, тяжёлые корсеты (кожаные, гипсовые и даже металлические) поддерживали её спину. Готовясь к очередной операции, она написала картину «Раненый олень» (спина оленя утыкана стрелами), а после операции – «Древо надежды». На этом полотне была изображена Фрида на носилках с израненной спиной, а перед ней стоит другая Фрида, в руках которой корсет и плакат с надписью: «Древо надежды, стой прямо». Было понятно, что Фрида устала жить и бороться с болью. Её всё чаще посещает мысль о смерти, она предприняла несколько попыток самоубийства.
В конце жизни (она умерла 13 июля 1954 года от пневмонии), когда после начавшейся гангрены ей ампутировали ногу, она писала своей подруге: «Мне ампутировали ногу, таких страданий я не испытывала никогда в жизни. У меня никак не проходит нервный шок, в организме всё нарушилось, даже кровообращение». Тем не менее, её поддерживает любовь к Диего Ривере, она признаётся подруге: «С операции прошло шесть месяцев, и вот, как видишь, я ещё здесь, я люблю Диего больше, чем кого-либо, и надеюсь ещё быть ему полезной и заниматься живописью в полную силу, только бы с Диего ничего не случилось, потому что, если бы Диего умер, я обязательно последовала бы за ним. Нас похоронят вместе... Он мой сын, он моя мать, мой отец, мой супруг. Он моё всё» (Ж.- М. Г. Леклезио «Диего и Фрида»).
Голубой дом Фриды Кало превращён сейчас в музей, там всегда многолюдно. Она стала одной из икон жизненной стойкости, память о ней превратилась в религию, которую назвали «калоизм».
Незадолго перед её смертью (16 июля 2013 года) читала я очерк о Фриде Кало дочери своего друга, Александра Александровича Вакуленко из г. Солнечногорска Московской области, - Алёне Вакуленко. Её жизнь стала для меня примером стойкости и жизнелюбия. В 8 лет Алёна стала инвалидом, так как ревматоидный полиартрит не лечится, а применение гормональных препаратов лишь усугубило болезнь. Во время своего пребывания в реанимации Алёна стала свидетелем нескольких мучительных смертей других детей, но родители забрали её из больницы, а отец, Александр Александрович Вакуленко, освоил многие секреты лечения травами и народной медицины, чтобы поддерживать жизнь любимой дочери.
Мне трудно и, одновременно, легко говорить о судьбе Алёны. Трудно потому, что её и отца Алёны я хорошо знаю, больше года была свидетелем последнего этапа её жизни, общалась с нею, иногда читала что-то вслух. Мне легко говорить о ней потому, что она была, как мне кажется, счастливым человеком! Несмотря на то, что её тело не смогло развиться должным образом, руки и ноги почти не работали (с 8 лет она передвигалась лишь в инвалидной коляске, а последние 6 лет, в основном, Алёна лежала или сидела на постели – умерла она возрасте 35 лет), голова была ясная, ум – живой и пытливый. Алёне было интересно всё: она многое знала и помнила, смотрела самые разные телепередачи, общалась с близкими и немногочисленными друзьями по Интернету, много смеялась и шутила. Она была терпелива к своей болезни, не обижалась на людей, с ней легко было общаться, так как она охотно поддерживала разговор на любую тему, отзывалась на шутку, любила простые подарки и новости. Она хотела жить до последнего дня, просила отца в очередной раз спасти её, облегчить состояние (Александр Вакуленко делал это неоднократно: снимал отечность, боли, своим уходом и специальными процедурами облегчал страдания). Жизнелюбие Алёны ещё раз подтверждает идею, что духовное здоровье, состояние сознания полностью не зависит от физического состояния, телесного здоровья.
Основная причина стойкого жизнелюбия Алёны Вакуленко, как мне кажется, связана с её отцом, Александром Александровичем Вакуленко, который не только поставил цель продлить жизнь своей дочери, и делал это очень умело, но и старался развивать её ум и волю, он находился с ней в постоянном и содержательном диалоге. Они много времени днём и даже ночью проводили вместе, часто шутили, обсуждали самые разные темы; Алёна была в курсе дел отца, всех проблем семьи. А ведь А.А. Вакуленко выпала нелёгкая судьба! Более 12 лет на его попечении была не только Алёна, но и два других инвалида: жена Елена и младшая дочь Наташа. Наташа была инвалидом детства (родовая травма), а жена Елена от переживаний за детей заболела раком. Все те, кто получил этот недуг в одно время с ней, умерли, а её муж поддерживал в течение 12 лет специальными процедурами и травами. Елена умерла в 2001 году. Дочь Наташа свободно передвигалась на костылях или в инвалидной коляске, хотела жить, многим интересовалась, посещала православный храм, но погибла в результате несчастного случая: в больнице, в 2011 году, ей сделали сердечный укол, хотя у неё был заворот кишок, и нужна была срочная операция.
Как жил Александр с тремя инвалидами на руках, - долго рассказывать! Овдовев, он не сдал своих больных дочерей в приют. Будучи военным пенсионером, он старался обеспечить жизнь детей на должном уровне; отправляясь для сбора трав в Крым (он родом из г. Севастополя) или в подмосковный заповедник, оставлял их на попечении помощницы (как правило, они были мигрантами из Молдавии и никогда не подводили его). Александр – очень приспособленный к жизни человек, открытый и смелый, бывший авиадиспетчер, ставший предпринимателем по вине «перестройки» и целителем по причине болезни близких людей. Таким образом, причина жизнестойкости Алёны, в основном, была связана с её отцом. Она была нужна ему, любима им, поэтому ей хотелось жить, хотя борьба за существование иногда была для неё мучительна и сложна: каждый день был расписан почти по минутам, Алёна сама тщательно контролировала процесс лечения и постоянно искала новые средства. Надежда на облегчение и даже на чудо не покидала её до последнего дня… Мне кажется, когда жизнь человека становится особенно невыносимой, на помощь ему приходит смерть!
В.Т. Кондрашенко, Д.И. Донской, С.А. Игумнов в работе «Общая психотерапия» отмечают, что в России на подготовку врачей затрачивается 7800 часов, из которых 97 процентов приходится на изучение тела и заболеваний отдельных органов и лишь 3 процента – на психологию. «И это средневековое мышление тянется от Парацельса. Именно он 25 июня 1527 г. публично сжёг книги Гиппократа, Галена, Авиценны, назвав их самих «великими шарлатанами», учившими, что врач должен хорошо знать не только то, что действует на человека, но и те внутренние природные силы в самом организме, которые воспринимают это воздействие». Парацельс сравнил болезнь с сорняком, который нужно найти и вырвать с корнем. Эти авторы отмечают, что поэтому «нынешний врач многое знает о клетках, органах, тканях и почти ничего – о человеке. Чрезмерная вера в лабораторно-инструментальный метод исследования привела к тому, что анализ мочи изучается глубже, чем сам больной. Не менее 50 процентов из тех, кто обращается в поликлиники и стационары с соматическими жалобами (по поводу заболевания внутренних органов), по существу практически здоровые люди, нуждающиеся лишь в коррекции эмоционального состояния».
Русский врач ХХ века, известный во всём мире, А.С. Залманов, стоял на стороне «аутофармокологии организма», то есть на страже его естественных защитных средств. Он отмечает, что «нездоровое изобилие фармацевтического арсенала должно уступить применению минимума лекарств и максимуму силы действия, если хотят снять блокаду с механизма ауторегуляции». В книге «Тайная мудрость человеческого организма» он приводит такой факт: «Почти сто лет назад великий французский клиницист Труссо (Trousseau) поставил в медицинской клинике Hotel Dieux следующий опыт: в течение года он вёл 50 % всех больных одной и той же болезнью без лекарств, в другие 50% больных той же болезнью лечил обычными лекарствами. Процент выздоровления был один и тот же в обеих группах. Этот замечательный урок совершенно забыт». А.С. Залманов предлагал сокращать бюджет медицинских учреждений путём уменьшения применения лекарств на 90% за счёт расширения сети гидротерапевтических учреждений и диеты. К сожалению, реализация данной идеи потребует не только отказа от господства «рыночной экономики», но и изменения всей структуры потребления и даже образа жизни большинства людей.
А.В. Фалеев в книге «Ошибки системы Малахова» пишет, что в глобальных многолетних исследованиях американских врачей в конце 1990 годов было показано, что 75% болезней связаны с психоневротической причиной, и лишь 25% не имеют связи с психикой. Вещества, выделяемые нервными клетками, могут напрямую воздействовать на клетки иммунной системы. Неумение противостоять хроническим стрессам увеличивает риск онкологических заболеваний в 6-8 раз, ишемической болезни сердца, гипертонии, язвенной болезни желудка в 4-5 раз, обычной простуды – в 3-4 раза. На сегодняшний день 40% на селе и 75% в городе обращений в клинику – люди с неврозами, в основе которых лежат хронические стрессы. Предполагается, что уровень смертности от суицидов к 2020 году превысит показатели смертности от рака. Поэтому основная задача сейчас – повысить уровень психологических знаний.
О психических болезнях мы скажем в разделе 1.6, но надо признать, что взгляды на природу почти любой болезни во все времена не были однозначны, поэтому я должна сказать о необходимости сочетания народной медицины (традиционной) и профессиональной, которая зачастую проявляет себя как медицина ортодоксальная. Убеждена, что «мракобесие» могут проявлять как народные целители (не говоря уж об «экстрасенсах») так и врачи-профессионалы, которые не всегда обладают широтой взглядов, системностью мышления, должным опытом и даже временем, чтобы их, по сути, тоталитарная вера в единственное средство исцеления не превратилась в «околонаучное мракобесие».
Необходимо также признать, что доверие к знахарям и страх перед колдунами – не только народный обычай, но и действенный метод самосохранения в условиях, когда профессиональная медицина мало доступна или даёт явные сбои, хотя, конечно, вера в реальность той или иной (профессиональной или знахарской) помощи часто играет ведущую роль. Наши современные знания о человеке и его возможностях далеки от совершенства, чтобы абсолютно отвергать веру в те или иные «чудеса», если мы их пока не можем объяснить. В задачи моей книги не входит обзор достижений народной или «интегративной» медицины, феноменов Джуны, Фонда Аркадия Петрова и многих других (концептуальную и фактическую информацию по этой теме можно найти, например, в книгах И.П.Неумывакина, в «Материалах Международного Форума «Интегративная медицина» за 2007 – 2012 год).
В работе «Повседневная жизнь колдунов и знахарей» Наталия Будур отмечает, что в России, в отличие от Запада, взгляд на колдунов и знахарей даже со стороны Православной церкви никогда не был фанатичным. При этом даже в Х1Х, в основном, на селе, отмечались факты жестокой расправы над предполагаемыми «ведьмами», которые пресекались властями и подвергались судебному наказанию. При этом «народный взгляд на чародейство был не демонологическим, а исключительно пантеистическим», даже «чёрт представляется существом более комичным, чем грозным, более добродушным, чем злобным». Наш народ предполагал, что в природе существуют силы, известные и подвластные отдельным личностям. При этом знахарство, как и колдовство, могло быть как природным, врожденным, часто передаваемым по наследству или перед смертью другому лицу, так и на основании обучения. Причинами болезней в народе считались как осязаемые и видимые факторы (например, увечья, непосильные нагрузки, паразиты и т.п.), так и неизвестные, таинственные, сверхъестественные (например, состояние одержимости).
Представление о причине болезни, конечно, всегда связано с моделью мира, в которой, наверное, главным является принцип деления мира на «свой» и «чужой», то есть: на привычный, подвластный контролю, доброжелательный к человеку, и непривычный, опасный для жизни и здоровья. При этом факторы различной степени освоенности могут принадлежать как природе, так и социуму. Приходящая как бы «извне» болезнь часто означала нарушение сложившегося баланса между «своим» и «чужим», что требовало применения магического ритуала. Н. Будур пишет в своей книге: «можно говорить о знаковом характере болезни. А любое лечение – в основе своей ритуал, нацеленный на восстановление привычного и справедливого порядка вещей». В традиционном обществе, в котором привычный порядок вещей связан с необходимостью выполнения общепринятых норм и правил морали, их нарушение часто трактовалось как нечестивое действие, отсюда известное тождество между «болезнью» и «нечистотой». Причём, если наш век видит, прежде всего, «нечистоту» телесную, биологическую заразу, то в народном сознании бытует представление о связи болезни, прежде всего, с «нечистотой» душевной, связанной с потусторонней, сверхъестественной силой.
Справедливо, на мой взгляд, утверждает современный знаток восточной медицины, философ и врач Эмма Иосифовна Гоникман в книге «Психосоматика в Восточной медицине»: «Для западной медицины характерно дифференцированное отношение к патологии физического тела, с одной стороны, и умственной и духовной сфере, с другой. В настоящее время это обстоятельство является одной из причин кризисного положения западной медицины». Но она полагает, что несмотря на то, что «жизнь – это неразрывное единство», «существуют механизмы, воздействие на которые приводит в соответствие все структуры и создаёт равновесие, обеспечивающее жизнедеятельность всего организма…Таких систем четыре, благодаря их совместному усилию создаётся то состояние, которое можно назвать самодостаточностью». Самодостаточность создают: система генетических факторов; нервная и эндокринная система и кровь. Э.И. Гоникман критикует подход, при котором причины всех болезней (в том числе наследственных) видят только в отдельной клетке организма (или в её ядре), так как, «изучив работу клеток, следует искать те механизмы, которые управляют этой работой. И анатомия физического тела должна быть дополнена анатомией его энергетических факторов обеспечения». При этом система энергетических меридианов формируется у эмбриона ещё до того, как развиваются органы и ткани. Эта система «представляет собой спирально-энергетический механизм, посредством которого излучения космических тел передаются в клеточные и физиологические структуры», то есть это механизм связи между внутренним миром человека и внешним миром.
Помимо общепринятого достаточно жёсткого разделения психики и физиологии современная медицина чрезвычайно дифференцирована, поэтому человек, как целое существо, зачастую пропадает из поля её зрения. Узкая специализация в медицине приводит не только к разделению психики и соматики, физиологии, но и к зацикливанию на отдельных органах тела. Кроме того, преобладает, в основном, лечение, основанное на устранении симптомов организма, а не причины, которая, к тому же, редко бывает единственной, то есть болезнь – это почти всегда совокупность нескольких причин, сочетание генетической, наследственной предрасположенности с образом жизни, внешними условиями и воздействиями, даже характером и мышлением человека. И хотя, как считал и Фрейд, мы все отчасти больны, то есть, имеем те или иные симптомы, окончательный вывод о наличии болезни зависит «от количества затребованной таким образом /через «бесполезные акты», то есть симптомы/ энергии». На примере психического недуга в двадцать восьмой лекции своего «Введения в психоанализ» он так определил суть этого подхода: «Различие между душевным здоровьем и неврозом выводится из практических соображений и определяется по результату – осталась ли у данного лица в достаточной мере способность наслаждаться и работоспособность? Оно сводится, вероятно, к релятивному отношению между оставшимся свободным и связанным вытеснением количествами энергии и имеет количественный, а не качественный характер». То есть симптомы – это лишь способы, поводы для связывания, вытеснения энергии организма, отвода её от решения насущных жизненных проблем, от которых человек стремится уклониться. Так формируется болезнь.
Существенным отличием болезни от симптомов является, по Фрейду, её устойчивая «способность образовывать новые» симптомы, вред которых заключается, прежде всего, в тех «душевных затратах», которые они поглощают. Возможно, тот же «количественный энергетический подход» лежит и в разрешении вечного противоречия между жизнью и смертью (Эросом и Танатосом; стремлением либидо к жизни и влечением к смерти по Фрейду). Человек, оказавшись в условиях сильных физических и психических перегрузок, иногда обрекает себя на смерть либо сознательно и добровольно (через самоубийство), либо бессознательно через болезнь. При этом Фрейд очень детально показал, что у человека, испытывающего сильные мучения (это было и с ним самим), желание умереть и тем самым прервать свои мучения могло существовать наряду с желанием жить и продолжать борьбу. К этому выводу, как указывает его врач Макс Шур в биографии Фрейда, тот пришёл не только из-за стойкой приверженности к дуалистическим построениям, а, прежде всего, потому, что это помогало ему самому бороться со страхом смерти. Наличие желания жить считается очень важным условием для исхода любой тяжёлой болезни. Но при этом Фрейд отличал сознательное и бессознательное стремление (желание) жить от влечения к возврату в неживое состояние, к разрушению. Он также предполагал, что либидо стремится обезвредить это саморазрушительное стремление, отвлечь его от организма и направить против объектов внешнего мира. «Тогда это влечение уже именуется влечением к разрушению или волей к власти. Часть этого влечения непосредственно ставится на службу сексуальной функции, где играет очень важную роль. В этом заключаются истоки садизма» (концепция «инстинкта разрушения» или агрессии – неотъемлемая часть психоанализа). Тем не менее, биограф Фрейда М. Шур приводит его высказывание, вступающее в противоречие с инстинктом смерти. В одном из писем к другу (Джонсу) он пишет: «Я думаю, что обнаружил, что стремление к вечному покою не есть нечто первичное, но выражает потребность избавиться от присущего старости чувства ненужности, особенно остро обнаруживающего себя в ничтожнейших мелочах жизни».
Мне представляется, что рассмотрение соотношения желания жить и умереть можно вести не только с количественных, но и качественных позиций. Да, наверное, реальный баланс энергии, вкладываемый сознанием и бессознательным в инстинкт жизни или смерти, играет роль. Но каким образом этот баланс создаётся? И как можно на него повлиять? Даже структурные построения личности по Фрейду («Я», «Оно» и «Сверх-Я») и то дают нам многочисленные варианты решения этой проблемы. Если дело в энергетике противоположных инстинктов («Оно»), то вмешательство «Я» или «Сверх-Я» может изменить этот баланс в ту или иную сторону. Вот почему стойкое желание умереть, которое некоторые люди испытывают годами, не всегда претворяется в жизнь и даже не превращается в явную болезнь (даже психическую). Возможно, «Сверх-Я» не даёт санкцию на смерть или болезнь. Возможно, такое положение характерно для весьма духовных людей, имеющих особую жизненную миссию, если даже они от неё уклоняются. В другом же случае, когда человек хочет жить даже на смертном одре, просит спасти его, либо вообще ничто не предвещает его скорую гибель, а при этом умирает или гибнет как бы случайно, даже наличие сильного либидо, стремления к жизни не помогает. «Сверх-Я» неумолимо приводит приговор в исполнение. Для себя я сделала вывод: хотеть или не хотеть жить – не достаточно для осуществления выбора. Есть некие личностные, надличностные структуры (бессознательные и сверхсознательные), либо их совокупность, которые и реализуют тот или иной исход борьбы противоположностей, осуществляют выбор. Продолжая тенденцию приверженности народной медицины к системному взгляду на природу болезни (соединение материальных, духовных и социальных факторов воздействия на человека), профессор И.Д.Барчук (ему вторят многочисленные авторы пособий по здоровому образу жизни – от индийских йогов, китайских даосов, христианских подвижников и других мудрецов древности до Б.Брэгга, Шелтона, Ю.С. Николаева, К.Б. Бутейко, Г.С. Шаталовой, Г.П. Малахова и т.п.) утверждает: «Ухудшение физического здоровья людей в современных условиях вызывается «цивилизованным» образом жизни, которое изобрело человечество, пользуясь умом и представлениями, унаследованными от дикого мира. Люди вместо разумной и счастливой жизни непрерывно убивают себя войнами, конкуренциями, стрессами, глупыми страстями и увлечениями, рисковыми играми, плохим питанием, алкоголем, курением табака, наркотиками, опасными технологиями и прочими «свободами» и нелепостями так называемой «цивилизации». Пройдя значительный исторический путь развития, человечество не смогло выработать условия жизни и социальные законы, достойные человека для его всестороннего развития и счастливой здоровой жизни». Поэтому для достижения идеала человеческой жизни: «Нужны новые организационные и экономические решения, новый мировой порядок, повышение требования к самому человеку».
9-я научно-практическая конференция «Философские проблемы биологии и медицины: стандартизация и персонализация» при Московском государственном медико-стоматологическом университете им. А.И. Евдокимова (сборник «Философские проблемы биологии и медицины. Выпуск 9. Стандартизация и персонализация»), выявила дилемму «стандартизация-персонализация» и проблему необходимости постоянного изменения («переформатирования») модели реальности (подробнее в разделе 5). В докладе Д.В. Михаля было отмечено, что «история биомедицины – это череда примеров того, как вопрос о болезни сводился к вопросу о патологии органа, ткани, клетки и, наконец, гена. Человеческий организм мыслился как машина, где для испортившегося элемента всегда можно найти замену или воздействовать на него, используя конкретную технологию». Диагностика на основании анализа симтомов дополнилась исследованием генома. Тем не менее, не сработала «исходная идея о том, что конкретные гены способны отвечать за происхождение конкретных заболеваний, …перестал работать и принцип «генетического детерминизма». «В сущности, наука постгеномной эры вынуждена отказаться от идеологии детерминизма в пользу идеологии риска и неопределённости». На этом фоне, как отметил в своём докладе В.И. Моисеев, «большой резонанс получил феномен так называемой «персонализированной медицины (Реrsonalised Medicine)» РМ…», хотя за её «фасадом» зачастую кроется жёсткая рационализация проблемы происхождения болезни, основанная на редукционном детерминизме генетического, наследственного подхода. В.И. Моисеев отмечает: «Да, медицина должна быть более персоналистической, превентивной, предикативной и партикулятивной, но уже не в смысле биоинженерной модели, но в рамках смысла и идей более интегративного и гуманитарного подхода». Такой подход, отмечает этот философ и врач, продиктован «холистическим смыслом» человеческого существа и его уникального и, одновременно, динамического бытия.
На практике персонализированная медицина - это оптимизация терапии, «базирующаяся на генетическом тестировании предрасположенности к болезням, индивидуальном подборе лекарственных препаратов и определении схемы лечения на основании генетических особенностей пациента» (статья Н.Н. Седовой, О.Н. Карымова в то же сборнике). Но «внедрение технологий персонализированной медицины обострит многие этические проблемы». Этические проблемы затрагивают не только такие медицинские действа, как прерывание беременности, экстракорпоральное (внетелесное) оплодотворение, суррогатное материнство, но и выбор лечения при страдании и принятии решения при эвтаназии. Кстати, вице-президент РАМН, главный педиатр Минздравсоцразвития РФ Александр Баранов сообщил, что 75% детей, рождённых в результате ЭКО, являются инвалидами (статья В. Деминской). Проблему развития подобных детей никто пока системно не изучал. Проблема повышения «качества жизни безнадёжно больного человека» и «право на «достойную смерть» с её духовными проявлениями породила «развиваемую во всём мире паллеативную помощь». Таким образом, «биомедицинская модель» болезни не учитывает множество социальных, психологических и поведенческих факторов, имеющих отношение не только к выбору лечения, но и определению причин болезни. Выход во многом предлагает «биопсихосоциальная модель болезни», возникшая в конце 70-х годов ХХ века и сводимая, в основном, к диаде: биологическая предрасположенность и психосоциальные факторы. Так постепенно вызревала «необходимость возврата к холистическому или целостному подходу в медицине». Появилась «специальность «медицинская валеология», занимающаяся не болезнями и не больным организмом, а индивидуальным здоровьем индивидуума» (статья В.С. Балакшина). Данный подход требует также введения гуманистического (с его пониманием пациента как личности и гиперответственностью врача) и этического принципов в развитие и применении медицинских технологий. Возникновение биоэтики в том же сборнике анализирует Ю.А. Лязина. Биоэтика связана с необходимостью осмысления развития таких технологий и направлений медицины, как генная инженерия, биотехнологии, трансплантология и техническое перевооружение медицины, а также с «усиленным вниманием к правам человека», с правом выбирать отношение к собственному здоровью и лечению. (На мой взгляд, для гармонизации абсолютного права личности остаётся лишь один шаг к признанию также права общества и государства «принуждать» человека к здоровому образу жизни и даже навязывать ему обязательную диагностику здоровья и способ лечения).
Этический аспект «трасгумманизма» - это «современное течение, утверждающее, что человек в нынешнем виде не является венцом эволюции», поэтому трансгумманизм не только ставит задачу дальнейшего его совершенствования, но и избавления от страданий с помощью использования биотехнологий, например, стимуляции мозга, «совершенных дизайнерских наркотиков и генной инженерии (репродуктивной революции) для достижения человечеством одновременно сверхсчастья и сверхразума». Рассматривая все эти декларируемые трансгумманизмом перспективы, автор статьи из данного сборника Е.В. Введенская отмечает, что Д. Пирс видел в этом конец существованию человечества «в связи с нарушением информационной восприимчивости к раздражителям среды».
Аналогично истории медицины в отношении телесных болезней, в психиатрии также была отмечена конкуренция «органисцистского» и «психологицистского», то есть основанного на примате соматических нарушений или психических феноменов (статья А.С. Игнатенко в сборнике «Философские проблемы биологии и медицины. Выпуск 9. Стандартизация и персонализация»). Дальнейшее развитие психиатрии по пути её персонализации, породили не только психоанализ, но и стремление принять в расчёт любой «бред» больного, его фантазии, что позволило не только ограничить практику «карательной психиатрии», её репрессивных мер, но и привело к крайне индивидуализированному подходу к любому безумию и расцвету антипсихиатрии (подробнее в разделе 1.6). Всё это потребовало от медицины поиска баланса «между стандартным и уникальным», биологическим и социально-психологическим подходами к больному и болезни.
По-видимому, научное и общественное отношение к болезни нуждается, прежде всего, в комплексном подходе с точки зрения значимости соматики и психики и взаимоотношения человека с природной и социальной средой. Более того, к сожалению, излечение требует не только и не столько внешнего воздействия профессиональной медицины, сколько изменения личности, сознания и психики самого больного. Поэтому в некоторых случаях и для многих людей «проще умереть, чем измениться». В этом, наверное, заключена тайна и смысл смерти.
О некоторых комплексных методах поддержания физического и духовного здоровья скажем в разделах 3 и 6. Тем более что «новое – это хорошо забытое старое».
1.6. Неприкаянные души, сумасшествие и тюрьма одиночества
«Не дай мне бог сойти с ума,
Уж лучше посох и сума»
А.С. Пушкин
«…кто же скажет брату своему «рака»/пустой человек/, подлежит
синедриону; а кто скажет «безумный», подлежит геенне огненной»
Евангелие от Матфея, глава 5, п. 22
Зарубежные авторы (Р.Л.Аткинсон и другие) в «Ведении в психологию» приводят следующий перечень психических аномалий - аномальное поведение;
- расстройства тревожности (панические расстройства, фобии, обессивно-компульсивные расстройства);
- расстройства настроения (депрессии, биполярные расстройства);
- болезни расщепления личности;
- шизофрения.
В этом сборнике приведена такая классификация психических расстройств:
1. Нарушения нормального развития, проявляющиеся в раннем возрасте. Это: умственная отсталость, аутизм, нарушение внимания, гиперактивность, нарушение речи и другие.
2. Делирий, деменция, амнезия и другие когнитивные нарушения (временно или постоянно нарушена работа мозга, что может быть в результате старения, интоксикации, из-за болезней и т.п.).
3. Нарушения, вызванные психотропными средствами (в том числе, алкоголем).
4. Шизофрения (группа расстройств, связанная с утратой связи с реальностью).
5. Расстройства настроения (в том числе, его резкая смена).
6. Расстройства тревожности (паника, фобии, навязчивые мысли, посттравматические стрессовые расстройства).
7. Психогении (органическая составляющая отсутствует, преобладает психическая; например, это ипохондрия – чрезмерная озабоченность своим здоровьем).
8. Диссоциации (временные изменения функций сознания, памяти, вызванные эмоциональными проблемами).
9. Сексуальные расстройства (транссексуальность, импотенция, влечение к детям и т.п.).
10. Нарушения потребления пищи (анорексия, булимия и т.п.).
11. Расстройства сна (бессонница, излишняя сонливость и т.п.).
12. Искусственные нарушения (намеренно вызванные или изображаемые симптомы).
13. Нарушения контроля за импульсивными желаниями (например, клептомания, то есть неудержимое воровство, повышенный интерес к азартным играм, пиромания и т.п.)
14. Расстройства личности (асоциальное поведение, нарциссизм и т.п.).
15. Другие состояния, имеющие клинический интерес (проблемы брака и семейных отношений, учёбы и работы).
Г.Г. Лафлин, один из организаторов евгенических движений в США, разделял «социально неадекватных людей» на девять категорий. Это: 1) слабоумные, 2) сумасшедшие (включая психопатов), 3) преступники (включая тех, кто не считается с интересами общества и не исполняет свои обязанности), 4) эпилептики, 5) пьяницы и наркоманы, 6) больные, 7) глухие, 8) калеки, 9) нуждающиеся в помощи (сироты, тунеядцы, бездомные, бомжи и нищие). (Т. Рёдер, Ф. Киллибус, Э. Бёрвелл «Психиатры: люди за спиной Гитлера»).
В статье «Минздрав пересмотрит стандарты оказания психиатрической помощи» (газета «Известия» 2 июля 2013) сообщается, что на психиатрическом учёте в стране стоит больше 1,5 миллиона человека (это те, у кого выявлено психическое заболевание). Ещё 2,16 миллионов – обращаются за «консультативной помощью». По оценкам Всемирной организации здравоохранения от психических расстройств страдает не менее 10% россиян (14-15 миллионов человек). Самым распространённым из расстройств считается депрессия.
Феномен психического выгорания, как проявление перенапряжения психики, мы рассмотрим в разделе 3.2.
В психиатрической практике существует проблема с определением нормы. В книге Л.М. Балабановой «Судебная патопсихология (вопросы определения нормы и отклонений)» делается попытка определить психическую норму как процесс, который можно сравнивать с процессом развития психического отклонения от нормы. Автор приводит основные уровни психических расстройств: вменяемость (соответствует психическому здоровью); уменьшенная вменяемость (соответствует пограничным состояниям и непсихотическому уровню психических болезней); невменяемость (соответствует психотическому уровню).
Основоположником патопсихологии, то есть науки о нарушениях психики в России во многом считают психиатра В.М.Бехтерева. Представители его школы изучали расстройства восприятия и памяти, мыслительной деятельности, воображения, внимания и умственной работоспособности. Вторым крупным центром отечественной психиатрии после Психоневрологического института Бехтерева Л.М. Балабанова называет психиатрическую клинику С.С. Корсакова, организованную в 1887 году при медицинском факультете Московского университета. На становление патопсихологии также оказали большое влияние идеи выдающегося советского психолога Л.С. Выготского.
В монографии психолога В.Д. Шадрикова «Психологическая характеристика нормального человека, или познай самого себя» рассматриваются различные подходы к характеристике «нормального человека». Он пишет: «З. Фрейд считал, что нормальный человек должен быть способен любить и работать, Р. Кэбот расширил этот перечень – он должен быть способен работать, любить, играть и молиться. М. Ягода отмечает, что здоровая личность «активно овладевает своим окружением, демонстрирует определённое единство личности и способна правильно воспринимать мир и себя». Далее Шадриков ссылается на подход В. Штерна, который понимал индивидуальность как единство в многообразии и провозгласил «системный подход» в сочетании с выделением «существенных качеств» личности для «структурирования внутреннего мира» человека.
Но какова же структура «нормального человека»? К сожалению, за деревьями, то есть многочисленными качествами личности, структуры я так и не увидела. Кроме структуры, предложенной К. Юнгом и Г. Айзенком, основанной на принципе деления круга на четыре равных сектора, символизирующих основные темпераменты человека: холерик, сангвиник, флегматик и меланхолик. К этому «крестообразному» разделению круга привязано другое разделение на основе двух оппозиций: «нестабильность-стабильность» и «интраверность-экстраверность». Айзенк ввёл третью типологическую оппозицию: «упорство – уступчивость».
В.Д. Шадриков приводит и другие подходы к структурированию многочисленных свойств, характеристик личности, которые с успехом используются в современной психологии. Он отмечает, что проблему нормальной личности одним из первых поставил Гордон Олпорт. В его представлении «норма» - это, прежде всего, «руководящий стандарт». Шадриков констатирует: «Среди качеств, характерных для нормального человека, различные авторы выделяют: способность пользоваться языком, личную и социальную ответственность, овладение идеалами, самоконтроль, наличие демократического общественного интереса, чувство вины и искупления, целеустремлённость, настойчивость, адаптируемость, хороший характер, самообладание, уверенность в себе, объективность, мужественность, стремление к самопознанию, способность любить и работать».
На мой взгляд, здесь перечислены лишь «положительные» проявления личности, то есть в понятии «норма» они абсолютизируются. А разве «нормальная» личность не может при резкой смене условий существования, например, проявлять «неадаптируемость», либо «плохой характер», становиться агрессивной и даже воинственной? Возможно, как раз «нормальной» в «ненормальных» условиях жизни и будет так называемая «неадекватная» реакция? Я уж не говорю об абсолютизации любого субъективизма под вывеской «объективности»! Вряд ли можно назвать «нормальным» человека, который в экстремальных условиях не захочет дать отпор заклятому врагу или преступнику, не впадает в ярость при виде жестокого обращения с детьми или животными, кто не скорбит при потери близких и распаде родной страны…
В.Д. Шадриков отмечает, что сам Олпорт выделил шесть критериев нормального человека: 1) расширение «Я», 2) самообъективизация, 3) единая жизненная философия, 4) «чувство общности», 5) наличие практических навыков жизни; 6) сострадание ко всем живым существам. Олпорт предложил также свой перечень процессов, которые разрушают норму. Это известные многим «механизмы защиты», в числе которых: «ограничение мышления конкретным уровнем» и «застревание личности на недоразвитом уровне»…При этом он делает акцент на развитии, становлении личности, а не на её бытие. Мне же представляется, что «развитие и функционирование» или «становление и бытие», - два неразрывных процесса, поэтому подход Олпорта к определению нормы грешит «однополюсностью».
В.Д. Шадриков приводит также различные представления о здоровой личности А. Маслоу (это 14 критериев), А.Г. Шмелёва, модель структуры личности которого содержит 2090 черт. Есть также предельно краткий перечень из 5-ти свойств. Это: энергичность (экстраверсия); дружелюбие (согласие); совестливость (сознательность); эмоциональность (стабильность); интеллект (или культура). Шадриков объясняет многообразие подходов к определению нормы личности тремя группами проблем: «идеологическими, методологическими и теоретическими…». Теоретическая проблема заключается, прежде всего, в определении сущности человека, то есть, чтобы определить сущность человека, надо знать: «чего он хочет; что переживает и как; что умеет, какими способностями обладает; что знает».
Мне представляется, что в результате перед нами открывается бесконечная перспектива «информационных моделей» представления о «норме». Тем более что, как справедливо отмечает психиатр А.К. Кемпинский, в каждой информационной модели даже психически больного человека содержится частица реальности. Наверное, необходимы принципиально новые подходы к определению «нормы», «здоровья-болезни» как динамического баланса комплекса (спектра) субъективных и объективных факторов. Норма, возможно, - это процесс и жизнеспособный, социально приемлемый баланс противоположных качеств личности («положительных» и «отрицательных») и степень управляемости их разбросом в любых условиях. А пока мы вынуждены признать, что определения нормы, оценки ориентируются только на людей социально успешных, адаптированных к своей непосредственной социальной среде (своему или общепринятому ограниченному представлению о реальности). В некоторых обстоятельствах иной человек изо всех сил вынужден «симулировать адаптацию», чтобы не попасть в сумасшедший дом, не стать объектом принудительного и далеко не эффективного профессионального лечения психиатров. Иногда вынужденная адаптация (по сути, это приспособление к сложившимся представлениям о норме) достигается ценой утраты собственно «я» и предназначения. Ведь «погоня за ведьмами» и нечистой силой в человеческом обличье – прерогатива не только психиатров. Этим всегда занимались и власти, и церковь, и обыватели, и отдельные лица на протяжении всей истории. Факты религиозного и псевдонаучного «мракобесия» мы уже привели в разделах 1.3 и 1.4, чуть подробнее критику психиатрии и концепции антипсихиатрии рассмотрим в разделе 3.3; здесь же мы скажем о народном, бытовом «мракобесии» в традиционном обществе по отношению к психическим недугам.
Как пишет Н.Будур («Повседневная жизнь колдунов и знахарей»), в народном сознании на Руси бытовала вера в безграничную возможность превращения ведьм и колдунов. Они могли превращаться не только в живые существа (волков и лисиц, лошадей и птиц, мух), но и в копну сена, бревно, иглу и т.п. Вера в оборотней существовала и в Европе, тем более что есть форма безумия, при которой человек воображает себя превратившимся в зверя. Всё осложнялось и тем, что «выслеживание этих оборотней и придание их суду составляли одну из главных забот администрации и судебной власти». Как указывает Н.Будур, подобная практика была связана в древнем обществе с представлениями о мире как арене вечных превращений, метаморфозе одних форм жизни в другие, так как смерть не являлась концом существования, а была началом перехода в «другую жизнь». Существовало как бы единое пространство всех живых и мёртвых. Надо отметить, что данные представления – не только плод религиозной фантазии или воззрений индуизма, буддизма, но и не противоречат материалистическим представлениям о единстве и вечности мира, о вечном круговороте вещества, энергии и информации в природе.
Не менее любопытной и распространённой и поныне является вера некоторых людей в существование живых мертвецов, упырей и вурдалаков, а также разнообразных «энергетических вампиров».
Мы уже отмечали в разделе 1.5, что в народном, традиционном сознании болезнь, в том числе психическая, во многом ассоциировалась с «нечистой силой». Отсюда произошли экзерцисы, изгнания бесов в западной христианской церкви; подобные процедуры практикуются и у православных. К числу подобных недугов относится, например, кликушество. Н. Будур отмечает в своей книге, что кликушество поражало чаще всего женщин, причём больше всего кликуш в ХVШ-Х1Х вв. было в Московской, Смоленской, Тульской, Новгородской, Вологодской и Курской областях. «В юго-западном и северо-западном краях России кликушество в чистой форме почти не встречалось. Зато по всему Русскому Северу и по всей Сибири оно было обычным явлением народной жизни, там была распространена особая форма кликушества - в виде «томительной икоты». Н. Будур описывает симптомы, присущие кликушеству. В начале кликуша делается печальной, раздражительной, беспокойной, подверженной ничем необъяснимому страху, тоске, испытывает беспричинную ненависть и отвращение даже к близким людям. Часто она страдает головокружениями и головной болью, бессонницей, слабостью, сердцебиением и болью в желудке. Затем может возникать вздутие живота, ощущение трепетания под ложечкой и, наконец, «чувство – как будто что-то «подкатывается под сердце и ложится тут, как пирог» (это ощущение зачастую она принимает за присутствие беса). У больной возникает подозрение, «что она «испорчена» (часто виновник «порчи» находился в ближайшем окружении). Чаще всего приступы кликушества наступают в церкви, вызываются попытками принятия Святых Таинств. Продолжительность припадков различна: от 10-15 минут до нескольких часов. Кликуша ждёт участия окружающих, становится неряшливой и неопрятной. Выздоровление случается лишь в 20-30% случаев, чаще болезнь длится всю жизнь. Как сообщает Н. Будур, «профессор Бехтерев считал «основой» кликушества истерию, а известный русский психиатр Краинский – сомнамбулизм. Несомненно только, что все истинные кликуши отличаются ярко выраженной склонностью к гипнозу, внушению и подражанию». Так называемые «бесноватые» отличаются от кликуш главным образом тем, что во время припадков никого не обвиняют в «порче», «а кричат от имени третьего лица – сидящего в них беса». Большинство бесноватых, возможно, - истерички, убеждённые в том, что они одержимы дьяволом. «По существу русская бесноватость (как явление) – аналог эпидемий демономании, которые почти в течение трёх веков (ХV, ХV1, ХVП) господствовали в большей части Западной Европы». Как отмечает З.Фрейд в работе «По ту сторону наслаждения», «проекция собственных движений на демонов составляет только часть системы, ставшей «миросозерцанием» примитивных народов…» «Козлы отпущения» широко распространены и в современном мире, что ещё раз подчёркивает неоднородность психического развития человечества. Тем более что любой акт, как отмечает Фрейд, «являющийся объектом суждения сознания, имеет двоякое происхождение – психическое и реальное, но бессознательное». Таким образом, двойственность любого проявления заложена в природу восприятия и осознания мира.
В народе случались и другие проявления психических недугов: например, воображаемые контакты (в том числе, сексуальные) с теми или иными формами дьявола (змеёй или, у безутешной вдовы, с умершим мужем). Предполагалось, что иногда от подобных контактов родятся дети, но не обычные, а богатыри, кудесники или кикиморы. Иногда женщина, имеющая подобные контакты, сходит с ума или кончает жизнь самоубийством.
О.А. Власова в работе «Антипсихиатрия» описывает феномен Джона Томаса Персеваля, родовитого английского дворянина (1803-1876 гг.), «открытого» в ХХ веке Грегори Бейтсоном, отметившим на его примере «целебные свойства» шизофрении. После того, как Персеваль ощутил моральную деградацию мира и примкнул к христианам-евангелистам, стал слушать и внимать голосам, отбросив любые сомнения в их истинности, а вселившаяся в него сила стала приводить в действие конечности, его пытались лечить методами того времени в психиатрической лечебнице: ледяными ваннами, кровопусканием, физическим принуждением. Попав полностью в ловушку галлюцинаций и пробыв в ней несколько месяцев, он начал постепенно сомневаться в истинности голосов, «стал понимать, что прежняя нерефлексивная открытость сфере ощущений и приводит к полному погружению в неё и порабощению», то есть мышление и сомнение явились инструментом его выздоровления. Голоса при этом всё более становились на службу размышления, советуя подчинять разум сердцу, а сердце – разуму. Затем он начал работать с дыханием, стал отрабатывать технику управления им, стал вести подробные записи о своём состоянии.
Постепенно он начал замечать других пациентов, сочувствовать им. После многочисленных петиций в разные инстанции он был освобождён из больницы. Голоса постепенно прекратились, он женился, у него родились четыре дочери, жизнь его вошла в нормальное русло. Обо всём этом он написал книгу, анонимно издал её и стал в последствии одним из лидеров общественного движения против сумасшедших домов и противником готовящегося тогда закона о бедных, облегчавшего помещение бедняков в сумасшедшие дома; в качестве опекуна защищал неимущих, а на страницах газет обличал современные порядки. Эдвард Подволл, обратившийся к опыту Персеваля, рассматривал психическое заболевание как «циклический кризис», который может быть успешно пройден. Он выделил шесть его стадий, которые являются специфическими не только для психически больных. Они могут быть пройдены также в состоянии невроза, прозрений, медитаций. Это: 1) желание – исходное пространство неудовлетворённости окружающим миром и появление желания душевной гармонии; 2) жажда – нарастание желания как потребности в чём-то большем; 3) принуждённость – инстинктивная устремлённость к чему-то иному, принимающая иногда форму отчаяния; 4) божественное – переживание опыта вхождения в «небесные сферы»; 5) паранойя - стадия борьбы с демоническими силами; 6) ад – нарастание скорости мышления, ненависти, агрессии, которая может быть направлена и против самого себя. Выход из психоза может проявиться через, своего рода, трещину в апогеи цикла, когда возможно переключение и переоценка ситуации, когда открывается дружба и любовь. Подволл утверждал: «Безумие и здравомыслие сосуществуют. Помрачение сознания и ясность ума идут бок о бок». У больного есть островки ясности, поэтому, культивируя их и сомнение, «расщепляя бред» и блокируя его, формируя островки здравомыслия, можно переключиться в иное состояние, «пробудиться от патологического мира».
Православная психология рассматривает проблему психического здоровья не только с позиций греховности и отпадения от бога, но и с позиций равновесия, умения избегать крайностей проявления эмоций. В книге А.С. Бочарова, А.В. Чернышева «Очерки современной церковной психологии» рассматриваются различные типы нарушения личности: пассивные (импульсивный, действующий по прихоти, и «слабохарактерный», то есть податливый и внушаемый), которые стараются спрятаться за стену обстоятельств или не умеют «вести перспективное планирование своей жизни»; застревающие личности (часто с «параноидальной акцентуацией», проявляющей себя через сверхценные идеи, патологические страхи, подозрительность, регидность и догматичность) – к этому типу авторы относят истероидов и шизоидов. Шизоиды могут иметь очень богатый душевный мир, но остаются зацикленными на себе. «Чем более выражена шизоидная акцентуация, тем более значим для данного человека его внутренний мир, его представления, его «внутренний замок», тем меньше воспринимается внешнее, реальное…Шизоид создаёт, или, точнее сказать, пытается создать свою вселенную, свой мир, где всё так, как хочется именно ему. Нетрудно увидеть в этом …некий вызов истинному Творцу». Тем не менее, как отмечают эти авторы, «есть шизоиды, сумевшие…усилить свои положительные качества …и смягчить отрицательные…».
На наш взгляд, природу большинства психических недугов можно во многом объяснять бесконтрольным прорывом бессознательного в сознание человека. Это бессознательное может представлять собой как индивидуальный опыт (например, опыт рождения), так и опыт всего человечества, всего мироздания, который, возможно, записан в организме на клеточном и биополевом уровне. В обычных условиях, то есть в «норме» этот опыт блокирован, что диктуется естественным механизмом сохранения индивидуальной жизни. Но в некоторых случаях осуществляется бесконтрольный прорыв этого опыта (не исключено, что это происходит по причине нарушения каких-то общих законов мироздания и человеческого бытия). Такой прорыв может происходить и в результате сильных жизненных потрясений, которые как бы расшатывают психику, устремляют её к одному, «отрицательному» полюсу бытия. Религиозные и эзотерические практики многих народов, основатели религий и пророки, святые также имеют доступ к более глубинным слоям бессознательного, но осуществляют это по определённым правилам. Они умеют противостоять расшатыванию психики, формируя в сознании и в бессознательном (через молитву) сильный «положительный» полюс. Во всяком случае, о психике человека мы знаем пока очень мало. А методы её исцеления находятся, в основном, на зачаточном и эмпирическом уровне, либо сводятся исключительно к подавлению «негатива». «Позитив» наука и социальная практика в качестве компенсации создавать почти не умеют, в отличие от религиозных систем. Тем более, не могут они структурировать и управлять пространством сознания (бессознательного) человека, что также во многом уже доступно религиозной практике (в большей степени, наверное, буддизма).
Доктор медицины Бжезинский в предисловии к книге А. Кемпинского «Меланхолия» констатирует: «…наше столетие нельзя назвать радостным. Естественная радость восприятия жизни становится всё более редким явлением, а печаль – всё более распространённым. В психиатрии…экспансия печали обнаруживается….всё большим распространением симптомов депрессии…».
Психиатр, руководитель Российского суицидологического центра в 1992 году (газета «Россия», 18-24 марта 1992 г.), Айна Григорьевна Амбрумова признаётся: «…суть жизни – одиночество. Мы все очень одинокие люди. Одинокие даже в своих семьях, а это ещё хуже. Пишут 15-16-летние девочки: спасите нас от одиночества! Они врут? Нет! Другая группа: 30-40 лет. Тяжёлые обиды, обман, предательство. Мало любви, удовлетворённых желаний – нуль. Шестьдесят лет – совсем плохо. И уже никаких перспектив. Загляните в дома престарелых, у всех по двое-трое детей. Холод берёт. А в Закавказье, будь то Армения или Азербайджан, детей у обитателей домов престарелых нет ни у кого….».
Амбрумова отмечает, что, как это ни парадоксально, психологически на войне выжить даже легче, чем в мирное время в стране, потерявшей ориентиры развития, так как сейчас большинство людей находятся в глубочайшем стрессе, что является причиной роста самоубийств (если при царизме на 100 тысяч человек было 3 самоубийства, то в России 90-х годов – 35-40). Основная причина самоубийств – межличностный конфликт, связанный с взаимным непониманием, то есть с одиночеством среди людей.
Тем не менее, Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона (56 том, 1900 г.) констатирует, что отношение к самоубийству как богопротивному и безнравственному деянию закрепилось с приходом христианства. В Греции самоубийство не считалось бесчестным деянием, но допускалось лишь с разрешения народного правительства, так как жизнь гражданина принадлежала государству. В Риме самоубийство по благородным мотивам считалось даже добродетелью. Христианство оправдывает самоубийство по Божьему велению; извиняется самоубийство девственницы, лишившей себя жизни для спасения целомудрия.
Обозреватель газеты Виталий Головачев (газета «Труд», 5 февраля 2014) в статье «Проклятое одиночество!» приводит такие факты: 25 миллионов россиян жалуются на одиночество. По данным опроса Росстата в сентябре 2013 года (участвовало около 16 тысяч россиян), от одиночества страдает каждый четвёртый гражданин страны (женщины жалуются на одиночество в 1,5 раза чаще мужчин). С этими оценками совпадают во многом и данные Левада-Центра: одиночество за последние 14 лет ощущал каждый третий-четвёртый житель России; ещё 30-40% опрошенных жаловались на агрессию, озлобленность окружающих людей. Лишь около трети граждан страны с надеждой смотрят в будущее. Усталость, невроз, исчерпание внутреннего потенциала, волевых качеств, бедность, невыносимая борьба за выживание, особенности психики (по некоторым данным, в психиатрической помощи нуждается около 25% россиян) - вот далеко не полный перечень причин мрачного отношения к жизни. По количеству самоубийств Россия занимает 6-е место в мире. В. Головачев приводит такие данные: в 2011 году 30, 6 тысяч россиян добровольно распрощались с жизнью; в 2012 – 28, 9 тысяч; за 11 месяцев 2013 – 26, 1 тысяч наших граждан покончили жизнь самоубийством.
Негативное состояние психики издревле называют меланхолией.
Словарь Владимира Даля так раскрывает её смысл: «Меланхолия – задумчивая тоска, уныние, тихое отчаяние, без основательной причины, чёрный взгляд на свет, пресыщение жизнью, хандра, ипохондрия…».
Психиатр Ян Митарски (автор исторического раздела книги «Меланхолия» Антона Кемпинского) отношение к меланхолии рассматривает в контексте истории культуры. Он отмечает, что во все времена в медицине существовала мода на определённые теории и методы лечения. Первые методы исходили из наблюдения природы, двойственности (диалектики), смены радости и печали. Я. Митарски пишет, что книга священника англиканской церкви Роберта Бартона (издана в 1621 году) «Анатомия меланхолии», не устаревшая и по сей день, представляет человека самым несчастным существом по причине первородного греха, что и является причиной меланхолии. Меланхолия по Бартону – важнейший фактор жизни. После того, как в 1610 году английский писатель Смол написал трактат о меланхолии, усмотрев место её обитания в селезёнке (по-английски spleen), термин «сплин» стал синонимом ипохондрии и меланхолии.
В искусстве существовала определённая символика меланхолии, включая художественное изображение, но жесты печали и отчаяния в разные эпохи менялись. Так, например, немецкий художник Альберт Дюрер (родился в 1471) в своей гравюре «Меланхолия» (1514 год) изобразил её в виде могучей крылатой женщины с венком из трав на голове, которая сидит в задумчивой позе на нижней ступени. Как отмечается в монографии М.Я. Либмана «Дюрер и его эпоха» (М.: Искусство, 1972), «рукой она подпирает голову, погружённую в глубокую тень». Женщина окружена множеством неслучайных предметов. Связана меланхолия с астрологией, с Сатурном, который, хоть и носит печать двойственности (с одной стороны, он представляет собой Золотой век и пророчество о его возвращении), символизирует меланхолический темперамент. Некогда Луна также символизировала меланхолию.
Несмотря на то, что в некоторые эпохи назвать художника или поэта меланхоликом было равнозначно отнести его к гениям (то есть меланхолический темперамент рассматривался не как низменный, что было характерно для народного поверья, а как возвышенный, что восходит к философии Аристотеля и Платона), а в христианстве некоторые святые стремились к полному безумию, которое приносило спасение души, в меланхолии видели иногда опасность для веры. Но обвинения в колдовстве чаще всего касались людей, страдающих шизофренией и истерией, а не вообще меланхолией. Иногда меланхолию всё же связывали с мировоззренческими сомнениями в вере. Данте, например, осуждает угнетённое состояние духа, помещая меланхоличных людей в пятый круг ада.
Поскольку в медицине всегда существовала мода на определённые теории и методы лечения, художественная интуиция зачастую точнее и многомернее науки описывала меланхолию. В условиях главенства рациональных и прагматических подходов к жизни положительная сторона меланхолии стала достоянием романтизма. Её можно обнаружить также в пессимистических оценках нашей культуры бунтарями, хиппи и в моде на созерцательную философию Востока.
Есть мнение, что с возрастом негативизм у людей усиливается. Очень часто появляется эмоциональная усталость, заторможенность, даже полное равнодушие к тому, что ранее волновало и беспокоило. В молодости, например, тяжело созерцать тяжёлую болезнь, дряхлую старость, смерть и похороны. А ведь в старости это воспринимается с привычным равнодушием. Более того, смерть кажется иногда желанной и закономерной. Не зря физиолог И.И. Мечников писал об инстинкте естественной смерти. Но он же утверждал, что естественная смерть связана с преобладающим оптимизмом в зрелом возрасте, а не с возрастным ростом негативизма. Представления о стремлении к смерти в старости придерживался и Зигмунд Фрейд, но при этом он связывал инстинкт смерти с принципом удовольствия-неудовольствия, то есть их балансом, который в старости нарушается в сторону преобладания страдания.
В качестве примера губительности отрицательных эмоций мне приходит на ум трагедия Н.В. Гоголя, который, как известно, умер от меланхолии. Об этом подробно пишет В. Вересаев в книге «Гоголь в жизни». Перед смертью он впал в глубокий мистицизм и религиозность, что отразилось в его втором томе «Мёртвых душ». Эту книгу он сжёг после критики некоторых друзей и откровенного письма В.Г. Белинского, в котором тот писал Гоголю: «Проповедник кнута, апостол невежества, поборник обскурантизма и мракобесия, панегерист татарских нравов – что вы делаете! Взгляните себе под ноги, - ведь вы стоите над бездною…». Далее Белинский рассуждает о православной церкви, как опоре деспотизма; о русском народе, как по натуре глубоко атеистическом народе. Он сравнивает православных с католиками, которые, если ими овладевает религиозный дух, обличают неправую власть, «подобно еврейским пророкам». И подводит итог: «Времена наивного благочестия давно уже прошли и для нашего общества…Нет, вы только омрачены, а не просветлены; вы не поняли ни духа, ни формы христианства нашего времени».
И хотя Белинский был, наверное, во многом прав в своих весьма жёстких оценках обскурантизма Гоголя и, как честный человек, он не мог их от него скрыть, Гоголь тоже ответил ему честно, и я сказала бы, более «диалектично», хотя свой первый, видимо, очень резкий ответ Белинскому, он уничтожил. В другом, уже отправленном письме, Гоголь пишет, что все отзывы на его книгу не похожи друг на друга: «что опровергает один, то утверждает другой». И далее: «Поверьте мне, что и вы, и я виновны равномерно. И вы, и я перешли в излишество. Я, по крайней мере, сознаюсь в этом… как я слишком усредоточился в себе, так вы слишком разбросались».
Напомню Вам, что Белинский в молодости уже проходил фазу примирения с действительностью по Гегелю и даже превозносил самодержавие. На мой взгляд, мы видим здесь несовпадение этапов развития сознания двух людей между собой, а также наблюдаем внутренний конфликт сознания и бессознательного у обоих, с губительными проявлениями крайне «однополюсного» отношения к миру. «Углубления в себя», «изоляционизма» - у Гоголя; «критики общественного строя» и «политизированности» - у Белинского.
Но совершенно иную интерпретацию причины страданий Гоголя приводит в своей книге «Бедлам» Ю. Воробьевский. Несмотря на то, что, по убеждению этого автора, Гоголь умер воцерквлённым, произнося слова св. Тихона Задонского «лестницу, поскорее давай лестницу!», на протяжении жизни, по мнению Ю. Воробьевского, он был почти сумасшедшим и чуть ли ни одержимым бесом. Даже сам смех, как и сатира пьес Гоголя, этому автору представляется «инфернального» происхождения, а его представления о собственном пророческом даре – ошибочными. В своём осуждении безудержного смеха и сатиры Ю.Воробьевский обращается к свидетельству народного фольклора, который отмечает: «где смех, там и грех», «сколько смеху, столько и греха», так как на основании православной традиции смех осознаётся как «лукавое», то есть имеющее нечистое происхождение, а «массовое глумление над всем и вся не просто выдаёт общую инфернальную природу смехового и революционного, но является также симптомом массовой идиотизации и неспособности слышать голос священного». Православные старцы никогда не хохочут, хотя пребывают в светлом, радостном настроении. Поэтому, уничтожение Гоголем второго тома «Мёртвых душ», по мнению Воробьевского, было продиктовано его просветлением, так как он «ясно увидел связь своей странной «болезни» с сатирическими упражнениями». И хотя в смерти Гоголя некоторые обвиняли его духовника Отца Матвея Константиновского, его доктор Тарасенков не говорил никогда, что духовник предъявлял Гоголю чрезмерные требования.
Лев Николаевич Тетеревятников в своём исследовании не случайности всех жизненных явлений (книга «Совпадения», М.: ТЕРРА – Книжный клуб, 2008) высказывает свою версию преждевременной смерти Н.В. Гоголя. Когда-то он изложил её в журнале «Отчий дома»: «Гоголь начал сам сжигать остаток своей жизни, бросив в камин второй том «Мёртвых душ». Потом лёг в постель и заплакал. Он лежал одиноко и смотрел на прислонённую к стене икону Божьей Матери…И больше уже не встал…». В 1848 году Гоголь поселился в качестве гостя у графа А.П. Толстого, которому принадлежал дом № 7 а по нынешнему Никитскому бульвару (в нём сейчас Библиотека имени Гоголя – кстати, недалеко от «нехорошей квартиры» Михаила Булгакова). Л.Н. Тетеревятников отмечает, что Гоголь, подобно Серафиму Саровскому, который три года стоял на камне в молитве, «большую часть жизни простоял у конторки и камина. Только в Москве у графа – четыре года. Цель Гоголя была в преодолении безыдеальности материального существования и земной жизни». А люди, наблюдавшие за Гоголем, дивились его самоистязанию. С.Т. Аксаков, например, писал ему, «что нельзя так жить, нельзя ставить искусство выше жизни, оно обман, оно и вас обманет – живите, не мудрствуйте. Но потом понимал, что Гоголь не может иначе, и брал свои слова обратно». И хотя ему не было и 43 лет, «возник замкнутый круг: жизнь он понимал только как творчество, а работа не шла из-за критики уже написанного. Способов жить не оставалось. Ко всему этому – немаловажный момент – одиночество. Сознание неисполненности мечты о близком человеке – жене, детях. Не было того, кто отвлёк бы его от вечных страхов». Его начал более остро преследовать и страх смерти. Далее Л.Н. Тетеревятников пытается развить свою первоначальную версию, высказанную в журнале «Отчий дом» и сводит её к версии самоубийства…сахаром (!), так как «Гоголь был образцовым сладкоежкой. Мог съесть в один присест банку варенья, горку пряников и выпить целый самовар чая». Избыток сахара, видимо, с детства сказывался на здоровье, он болел золотухой, глаза, нос и щёки воспалялись, из ушей текло…Страдал и расстройством желудка. И хотя он соблюдал посты, периодически так наедался, что бывал болен. «Каждую трапезу его можно изучать как пример нарушений всех принципов питания», - пишет Л.Н. Тетеревятников.
Мне всё же представляется, что духовный кризис Гоголя - сложное и многомерное явление, разрешить который вряд ли можно лишь с позиций «чёрно-белой» логики, на основании правил «правильного питания» или «инфернальной» концепции. Возможно, что сладкая и избыточная пища для Гоголя были лишь наиболее простыми (хотя и регрессивными) формами компенсации психологических и интеллектуальных перегрузок, которым он подвергался, средством доставить себе удовольствие наиболее доступным способом. Он «заедал» свои стрессы, что, конечно, создавало «замкнутый круг». «Инфернальный» мир, если он существует не только в нашем воображении или в бессознательном, является частью (и отражением) мира реального, то есть он для психики как бы «есть» и осязаем. Но все религиозные концепции отмечают, что существуют как «тёмные» («инфернальные») силы и энергии, так и светлые («божественные»), то есть «незримый мир» очень разнообразен, как и наш видимый мир, поэтому «чёрно-белую» логику к нему применять нужно осмотрительно. К тому же, степень доступа разных людей в «незримый», «тонкий мир», уровень его освоения может быть различной. И «освоение» мира «тонкого» может происходить как на «законных» основаниях, со знанием дела и по благословлению иерархов основных религий, так и самостийным, дилетантским путём, что таит в себе массу неприятностей и угроз, среди которых самое страшное – безумие. То есть при освоении незримого пространства (как и при освоении необжитых территорий Земли и космоса) необходимы не только воля, знания, определённая техника «навигации» (об этом пишет, например, Е. Файдыш), но и совершенная «техника безопасности». Люди творческие, к числу которых можно отнести Гоголя, нередко приносят себя в жертву человечеству, создавая шедевры за счёт непосильных перегрузок при освоении незримого пространства. Правда, чаще всего, они делают это бессознательно.
Среди тех, кто осваивает «незримый» мир, - святые всех стран и народов, представители духовных традиций основных религий. Наверное, они осваивают «тонкий» мир на «законных» основаниях, хотя он и им причиняет множество страданий и испытаний, таит угрозы и неожиданные потрясения (об этом говорилось в разделе 1.4 данной книги и будет сказано в разделе 3.1).
Незримый мир является источником вдохновения, ресурсом для творчества художников, поэтов, учёных и новаторов всех сфер жизни. Но осваивают они его как с различной степенью успешности, так и с различной мерой риска для жизни и психики. Иногда выдержать напор незримого мира людям творческим удаётся с трудом, то есть они начинают страдать теми или иными психическими расстройствами, среди которых, наверное, наиболее распространёнными является меланхолия или депрессия. И «зацикленность» на творчестве, своём деле иногда играет при этом решающую и отрицательную роль.
Но самыми беззащитными перед миром незримым оказываются обычные люди, которые не владеют духовными практиками, не способны претворять наплыв разнообразных чувств и образов в художественные произведения, артефакты, делать их объектами рефлексии, научных исследований и т.п. Особенно, если у них нет повседневных забот, родных и близких, увлечений или профессиональных занятий.
Многие психологи и психиатры называют наше время «эрой депрессии». Признаками депрессии являются: печаль, апатия, снижение работоспособности, пессимизм, чувство вины, безнадёжность, нерешительность, потеря интереса к жизни во всех её проявлениях. В некоторых случаях возникают и соматические явления – различные боли и т.п.
Анализируя средства террора и подавления личности, американский психолог Арлин Одергон, пишет о депрессии, как, своего рода, средстве адаптации к своему униженному и бесправному положению. При этом «внутренне подавление нарушает свободу нашего самовыражения ещё до того, как мы успеваем обратить на это внимание. Это приводит к потере целостности и распространению хронического фона умеренной депрессии». Ссылаясь на Ганди, Арлин Одергон отмечает, что «он …говорил, что лучше быть жестоким, чем пассивным», то есть агрессия, отторжение нынешнего состояния, как и пассивных автоматических реакций, на мой взгляд, является одной из форм поисковой формы адаптации, которая является более активной формой, чем безоговорочное смирение и апатия.
По мнению многих психиатров одной из причин депрессии является негативное мышление человека, то есть восприятие окружающего мира как враждебного. Многие видят причину подобного восприятия в детстве, когда ребёнку предъявляли невыполнимые требования, редко поощряли за успехи и часто наказывали за оплошности. В этом же ключе американский психолог Альберт Эллис связывает происхождение депрессии, как и агрессии, с эмоциональной реакцией на установку «должен». Но не свидетельство ли это слабости человека и отсутствия желания развивать чувство ответственности? Ведь чувство ответственности, как и безответственности, адекватное условиям человеческого существования, формируется у человека почти на инстинктивном уровне. Оно присуще и представителям животного мира. Мне представляется, что причина депрессии не в насилии над личностью и его непомерном долге перед другими, а в их соразмерности реальным возможностям человека, а также в гармоничной включённости долженствования в сложную структуру его потребностей и структуру личности. Заведующий кафедрой клинической психологии Одесского национального университета Б.Г. Херсонский, как христианин, убеждён: «у депрессии могут быть духовные причины, и болезнь, имеющая физиологические предпосылки, зачастую обнажает эти духовные причины, открывает их заболевшему человеку. Но усвоить урок депрессии человек может, только выйдя из этого состояния, оглянувшись на пройденный путь».
Кстати, было отмечено, что во время депрессии у детей нередки суждения, соответствующие более зрелому возрасту; после того, как проходит депрессия, исчезает и «патологическая интеллектуальная акселерация», то есть при депрессии как бы углубляется связь с миром незримым в форме нового, дополнительного знания, информации.
Тем не менее, митрополит Иерофей Влахос пишет в книге «Православная психотерапия»: «Пытаясь исследовать самого себя при помощи разума, человек может легко дойти до шизофрении, то есть приписать свои внутренние проблемы влиянию посторонних причин и из-за этого впасть в состояние уныния и подавленности. Путь же православного лечения и православного самопознания заключается в том, чтобы освободить ум от гордости и лукавства, но не рассуждением, умозаключением и расчленением, а многотрудным покаянием и усердным подвигом, как о том говорит святитель Григорий Палама…Таким образом, мы достигаем познания своего внутреннего мира, но не с помощью разума, а трезвлением, очищением ума, подвижничеством и покаянием. Пытаясь сохранить свой ум в чистоте, человек познаёт свои внутренние проблемы, открывает господствующие внутри него страсти». Православному отношению к психически больным людям и находящимся в меланхолии, депрессии свойственно обращение не к логике (она присуща психотерапевтам и психоаналитикам), а к любви. Кроме того: «Богатый опыт Церкви свидетельствует о том, что способный проявить послушание может исцелиться от внутренних душевных недугов и преобразить свой внутренний мир». Подробнее о методах православной психотерапии мы скажем в разделе 3.1.
Доктор медицины, основатель и руководитель психиатрической клиники медицинской академии в г. Кракове Антон Кемпинский (1918-1972 гг.) в работе «Меланхолия» отмечает, что не во всех культурах (но во многих) к печали относятся отрицательно. Часто печаль воспринимается как атрибут мудрости, глубокомыслия, вдохновения и т.п.
А. Кемпинский интерпретирует депрессию через характер восприятия сознанием пространства-времени. Размерность пространства связана с чувствами, переживаемыми человеком по отношению к окружающим, и с актуальным настроением. Часто происходит сужение пространства: замкнутое пространство может возбуждать протест и желание его уничтожить, но затем может наступить смирение, уход в себя при снижении настроения. «Похоже, что существует определённая корреляция между проектированием пространства и проектированием времени. Человек, отягощённый собственным прошлым и размышляющий о будущем, обладает меньшей свободой проектирования пространства, поскольку слишком связан тем, что было, и тем, что должно быть», - считает А. Кемпинский.
А. Кемпинский отмечает, что невозможность реализовать присущие человеку потребности (в творчестве; утрата объекта любви) может вести к депрессии. При этом может формироваться установка «к» или «от» по отношению к окружению, а также «над» (как стремление изменить окружающих по своему образу и подобию). Окружение, не способствующее реализации, может стать ненавистным и враждебным.
Состояние негативного отношения к жизни, даже депрессия свойственны любому возрасту (об этом мы скажем подробнее в разделе 3). Психологи А. Подольский и Т. Батенева в книге «Я не понимаю своего ребёнка. Книга для родителей о детях от 0 до 6 лет» отмечают: «У современных детей фактически не осталось неэмоциональных задач. А эмоциональность – это всегда зашоренность сознания, которое делит мир лишь на чёрное и белое, а людей – на друзей и врагов. Из сознания уходит всё богатство жизни, её полутонов».
Современных психологов беспокоит рост тревожности у детей. Если в середине 80-х годов ХХ века выделяли 3 вида детской тревожности: общая, личностная и коммуникативная, то с конца 80-х годов добавилась магическая и школьная (ожидание поступления в школу и отношение к ней). Среди способов уменьшить тревожность предлагаются:
- научить выражать свои чувства словами;
- погружение в мир фантазий (сказки);
- ролевое проигрывание ситуации;
- самыми хорошими родителями являются счастливые люди;
- детям нужна умная любовь.
А. Подольский и Т. Батенева сообщают, что многие современные психологи выделяют также следующие типы привязанности:
- безопасная, надёжная: если в 80-е годы она складывалась у 60-65 %, то по результатам российских психологов в 2009 году она наблюдается лишь у 28-30% детей, поэтому: «красной нитью через жизнь тревожного ребёнка проходит страх. Он не чувствует себя защищённым, эмоционально нестабилен»;
- ненадёжная тревожно-избегающая;
- ненадёжная тревожно-протестующая.
«Чтобы ребёнок развивался нормально и гармонично, ему необходима любовь, забота и чувство защищённости». Всё это он может получить только в семье. Очень важна для ребёнка также игра. Она может быть простым подражанием (у самых маленьких) или быть сюжетно-ролевой.
Психологи В.И. Слободчиков, Е.И. Исаев в работе «Психология развития человека. Развитие субъективной реальности в онтогенезе» приводят следующую цитату из сборника «Психическое развитие воспитанников детского дома» (М., 1990): «Ребёнок первого года жизни, воспитывающийся в семье, представляет собой самое жизнерадостное и счастливое существо в мире. Он максимально открыт людям, доверчив и доброжелателен, всегда готов к общению. Его бесконечно радует всё вокруг, всё вызывает интерес и любопытство: люди, игрушки, животные, происходящие события; свои чувства малыш выражает незамедлительно и бурно. Иная картина наблюдается в домах ребёнка…Это гораздо более спокойное, недокучливое и некапризное существо…Большую часть времени бодрствования малыш проводит в безучастном созерцании потолка, сося палец или игрушку…Малыш слабо интересуется окружающими, не может найти себе увлекательное занятие, мало радуется, молчалив и пассивен. Даже капризничая, он выражает не столько протест, сколько отчаяние».
Тем не менее, даже эти выводы имеют исключения. А. Кемпинский, например, полагал, что вопрос о «трудном детстве», как источнике невроза (типичное объяснение психических болезней прошлым опытом и, прежде всего, детством, - традиция психоанализа), отчасти противоречит тому факту, что для некоторых этот фактор является дополнительным условием для развития (то есть зависит от его восприятия). Хотя «холодная атмосфера семьи отражается на всей дальнейшей жизни», большое значение имеет не только отношение с родителями, но и соотношение способностей «отдавать» и «получать». Превалирование последней способности можно определять как эмоциональную незрелость. Иногда эмоциональный колорит настоящего проецируется в прошлое.
И всё же: история жизни человека действительно может объяснить его повышенную чувствительность к психическим травмам определённого рода. А. Кемпинский пишет: «Патологическая реакция на полученную травму является своего рода защитной реакцией». «Благодаря депрессии человек уклоняется от контактов с действительностью, ставшей для него слишком неприятной». В истории больных депрессией можно обнаружить больше травматических эпизодов; печаль притягивает к себе печальные события.
«Депрессии, возникающие из-за отсутствия любви, можно приближённо разбить на три группы: возникающие вследствие утраты предмета любви; возникающие вследствие того, что любовь меняет свой знак и превращается в ненависть и те, которые объединяют людей, никогда не знавших, что такое любовь». Наиболее характерные ситуации, вызывающие закрепление отрицательных эмоциональных установок к окружающей среде, по мнению психиатра, следующие: утрата предмета любви, чувство обиды, чувство собственного бессилия. Реакция зависит от силы эмоциональной связи. Образ умершего близкого человека зачастую идеализируется; но велика привязка и через отрицательные эмоции ненависти. «Союз ненависти может быть даже сильнее, чем союз любви».
«Вектор эмоционального состояния всегда является двунаправленным: один его конец направлен внутрь своего «Я», а другой во внешний мир». «Отношения живого организма с окружением базируется на своеобразном исчислении правдоподобия», но большинство из них опирается не на осознанную оценку, а на бессознательное «ожидание». «Окружение, которое не вписывается в «представления» нашего организма о правдоподобии, вызывает желание уничтожить его или найти от него спасение в бегстве. Существуют, правда, определённые границы, в пределах которых организм осуществляет поиск нового и неизвестного…». Существует своего рода «материнская» зона в окружающей среде; «вероятное» проходит проверку «достоверным» и через «социальное зеркало» (общественное мнение).
Сталкиваясь с реакцией окружающих, противоположной ожидаемой, человек испытывает обиду, возникает установка «от»; иногда «над» (одна из потребностей человека – навязать окружению своё представление о действительности). Невозможность реализовать свою установку «над» и «к» воспринимается как одиночество.
Формирование образа личности - очень сложный процесс, в молодости он менее стабилен, чем в зрелости. Образ самого себя (автопортрет) при депрессии всё время меняется. В психотерапии важным является научить больного объективному восприятию самого себя. Замыкание эмоциональных отношений на себя (например, при нарциссизме) нарушает информационный метаболизм. «Для того, чтобы жить, необходимо любить жизнь».
«Чувство вины можно трактовать как наказание за нарушение системы моральных ценностей». «Чувство вины и чувство обиды являются наиболее распространёнными причинами невротических депрессий».
Описание возрастных (душевных и физических) кризисов можно найти не только в научных трудах, но и в художественной, мемуарной литературе (я уже обращалась к анализу судьбы и душевного состояния Гоголя, Достоевского, Л.Н. Толстого). В «Исповеди» Л.Н. Толстого представлено высокохудожественное и точное описание душевного кризиса зрелого возраста, сопровождавшегося поиском смысла жизни. Л.Н. Толстой задаётся вопросом: «Есть ли в моей жизни такой смысл, который не уничтожался бы неизбежно предстоящей мне смертью?». Он отмечает четыре выхода из подобного ужасного состояния, которые сводятся: 1) к неведению, то есть нежеланию знать и понимать, «что жизнь есть зло и бессмыслица…»; 2) к эпикурейству, то есть к стремлению наслаждаться имеющимися благами; 3) «выход силы и энергии. Он состоит в том, чтобы, поняв, что жизнь есть зло и бессмыслица, уничтожить её…»; 4) «выход слабости. Он состоит в том, чтобы, понимая зло и бессмысленность жизни, продолжать тянуть её, зная вперёд, что ничего из неё выйти не может…». Толстой открыл для себя неизбежность веры, как условия жизни. «Понятие бесконечного Бога, божественности души, связи дел людских с Богом…» дали ему силу жить.
Тем не менее, далеко не каждый обретает подобную или любую другую веру, а старость накладывает свои ограничения как на физическую, интеллектуальную деятельность, так и на восприятие мира. В «Психологии развития человека» В.И. Слободчиков и Е.И. Исаев приводят обобщённую характеристику старого человека (по Е. Авербуху). Она включает в себя: снижение самочувствия, самоощущения, самооценки, усиление чувства малоценности, неуверенности в себе, недовольство собой и другими, ослабление контроля над собой, повышенный интерес к своему телу, сужение круга интересов, интравертированность, повышенный интерес к прошлому при отсутствии перспективы, снижение остроты памяти, восприятия и интеллекта. Эти авторы в качестве примера приводят описание последних лет жизни известного философа И. Канта, который на 72-м году жизни ощутил упадок сил и почувствовал себя «как бы поражённым душевным параличом». «Восемь лет продолжалась эта утончённая пытка, и смерть была вожделенным избавлением для человека, достигшего интеллектуальных высот и застигнутого врасплох беспомощностью на пороге немыслимых философских откровений».
Мне невольно вспоминается высказывание одной моей подруги Ольги Галаниной: «В каждом возрасте есть свои прелести». Да, это так, если человек в состоянии их видеть, либо найти, если он умеет перестраивать себя, свои потребности в соответствии со своими возможностями, находить доступные в его положении новые возможности. Да и всё ли от него зависит? Да и хочет ли он этого? Ведь при этом необходимы: отказ от прежних жизненных ценностей, которые срослись с психикой человека, существенная перестройка сознания, на что нет ни сил, ни желания!
Естественно, что в основе любых негативных психических состояний и даже депрессий лежит стресс, причиной которого может стать любое изменение в жизни человека. Футуролог Алвин Тоффлер в своём исследовании влияния изменений на психическое и даже физическое состояние человека «Футуршок» рисует весьма неутешительную для обычного человека картину будущего. «Человек будущего» по Тоффлеру обладает повышенной склонностью к изменениям, ускоренному темпу жизни и постоянному её обновлению (от сокращения срока использования вещей, технических устройств, одежды и обуви до «арендного», то есть временного подхода к жилью, месту работы, жизни и даже к дружбе и семейным отношениям). Возникающее при этом состояние «быстротечности» жизни, по сути, формирует нового человека, обладающего, на первый взгляд, неограниченностью выбора, но, как показали многочисленные исследования (в частности, классификация типов жизненных изменений Холмса и Рейха), может вести к болезням и даже к смерти. Наиболее опасными являются изменения, затрагивающие многие сферы жизни индивида, например, вдовство, которое значительно сокращает сопротивляемость организма и увеличивает смертность примерно до 40% в первые шесть месяцев после потери супруга. Всё это требует новых подходов к проблеме адаптации и резервов организма, которые не кажутся уже столь неограниченными и легко восполнимыми. Важно также учитывать темп изменений. Несмотря на то, что адаптационный резерв организма расходуется как при положительном, так и при отрицательном знаке стресса (то есть радость и ощущение счастья – тоже стресс), мне представляется, что знак изменений, их оценка сознанием («положительная» или «отрицательная») играет особую роль. В философском и психологическом плане мы также не должны уходить от коллизии, противоречивости фактора разнообразия и потери своеобразия, уникальности любых вещей; конфликта ощущения быстротечности и чувства принадлежности к вечности. Эти противоположности нуждаются в согласовании, непрерывно взаимодействуют между собой.
Описывая состояние депрессии, А. Кемпинский особо отмечает изменение колорита, который выражает сущность страданий больного. Если при острой форме шизофрении наблюдается необычайное богатство гаммы чувств, то при депрессии – их убожество. «Тёмный спектр колорита депрессии связан, прежде всего, с ослаблением жизненной активности». «Глубину депрессии можно оценивать по степени насыщенности тёмного спектра в колорите внутреннего мира человека». «Мир депрессии – это мир монохроматический, в нём царит серость или полная темнота и в нём нет ни красок, ни солнца». Больной не верит в перемены. «Тремя основными «красками» эмоционального мира депрессии являются: печаль, подавленность, а также страх и агрессивность». Агрессивность требует большей жизненной активности, чем подавленность и страх. Агрессия, направленная во внешний мир, требует большей энергии, чем аутоагрессия.
Для депрессии характерно снижение жизненной активности. Ритмом жизненной активности организма управляет промежуточный мозг, в первую очередь, его подбугровая область, совместно со зрительными буграми. С понижением жизненной активности связаны: отсутствие аппетита и полового влечения, склонность к запорам и снижение интенсивности обменных процессов. Во внутренней активности организма преобладают традиционные функциональные структуры, эффективно действующие и давно доведённые до автоматизма. Внешняя активность требует больших усилий, субъективно воспринимающихся как проявление воли. Эмоциональный колорит в значительной мере зависит от внутренней активности, то есть от того, что происходит в самом организме. Снижение жизненной активности проявляется, прежде всего, как проблема принятия решения. Для печального человека всё становится трудным. Каждое движение становится проблемой. Мышление при депрессии тяжёлое. При депрессии ослабевают способности к созданию в памяти новых записей информации. Мысли кружатся вокруг вопроса «жить или не жить?». Движения становятся заторможенными; лишь страх вызывает повышенную двигательную активность; для организма характеры запоры и нарушения кровообращения; нарушается ритм бодрствования и сна; больной мечтает о том, чтобы заснуть и никогда не просыпаться; бывает и бессонница (сон требует расслабленности, а при неврозах это затруднено из-за постоянного напряжения).
Жизненная активность связана также с субъективным восприятием возраста. В период депрессии в восприятии мира обнаруживается много черт, характерных для старости: ощущение близости смерти, склонность к подведению итогов жизни, преобладание прошлого над будущим, чувство усталости от жизни, ослабление информационного метаболизма.
В состоянии депрессии изменяется структура времени: протяжённость будущего сокращается, а при глубоких депрессиях - вообще перестаёт существовать, обращается в смерть и в ничто. Увеличивается отрезок прошлого. Больной словно перегружен им.
Печальные люди лучше себя чувствуют среди печальных. Печаль может быть средством бегства от пустоты собственной жизни (она часто свойственна пожилым людям, у которых нет сил покинуть свой тёмный угол). Печаль бывает как «тихая», так и «бурная» (доминирует страх); «пустой» и «полной», «чистой» и «грязной», «тёплой» и «холодной»; она может быть сосредоточена как на прошлом, так и на будущем; она может сочетаться с другими эмоциями (например, отвращением, страхом и т.п.). Но и взгляд с точки зрения вечности является достаточно характерным для депрессии. Самоубийство в состоянии депрессии является настоящим стремлением к смерти, а не призывом о помощи.
В состоянии депрессии у больного может не быть сил говорить о себе, его раздражает даже светлый колорит жизни, человеческая радость и улыбка, он не верит уговорам врача, так как тот – человек из другого мира (мира света), но ему необходимо спокойствие врача и внутренний порядок, который тот несёт в себе, ощущение безопасности, а не призывы к мобилизации сил и т.п. «В психиатрии, кроме работы с больным, необходим постоянный труд над собой», необходимо понять больного и его переживания.
Депрессии большинство психиатры подразделяют на эндогенные и экзогенные. Причинами эндогенных депрессий считаются нарушения в организме человека (например, в эндокринной системе). Но, например, для ветеранов боевых действий, характерна экзогенная депрессия, проявляющаяся как ответ на психические травмы, пережитые на войне. Подробнее о классификации депрессий мы скажем в разделе 3.3.
А. Кемпинский отмечает неизменную триаду человеческой психики: эмоционально-чувственная, рассудочная и моральная составляющие. Но человеческий ум склонен воспринимать действительность как совокупность контрастов (тезиса и антитезиса) при выборе наиболее приемлемого третьего варианта – синтеза.
Проблема корреляции между настроением, жизненной активностью и действиями системы самоконтроля может быть рассмотрена, по мнению А. Кемпинского, через категории пространства-времени. Система самоконтроля осуществляется как бы вне времени; в период сильных эмоций человек живёт только настоящим. «Мерой времени является количество событий, приходящихся на определённый его отрезок. Если их много – время замедляется». В период депрессий время замедляется, оно отмечено знаком бесконечности, человек теряет ощущение изменчивости.
Ощущение протяжённости пространства возникает благодаря экспансии человека в окружающий мир. «Размерность пространства связана только с активной деятельностью человека, а размерность времени имеет отношение как к активному, так и пассивному состоянию» (в последнем случае важна не экспансия, а изменчивость внешних условий).
С формированием пространственных структур связаны также процессы принятия решения. Если решение осложняется, то пространство как бы замыкается. В состоянии депрессии пространство замыкается, происходит свёртка жизненного пространства и снижение жизненной активности. Самыми тяжёлыми решениями являются те, которые связаны с тяжестью ранее принимавшихся решений, которые всей тяжестью ложатся на будущие решения. «Трагизм депрессии связан с замыканием пространства и времени в одной точке, превращающейся вследствие этого замыкания в бесконечность». «Редукция целого мира к одной чёрной точке заставляет человека взглянуть на жизнь совсем по-другому». Если при шизофрении структура мира переживаний больного оказывается разбитой (открываются лишь отдельные фрагменты мира), то во время депрессии обнаруживаются «провалы».
Во время депрессии происходит «уплотнение» мира больного. Всё сводится к одной неразрешимой проблеме. Уплотнение может иметь как внутренние, так и внешние причины (например, наша цивилизация во многом затрудняет самореализацию людей, ослабляет жизненную экспансию). Среди внутренних факторов «уплотнения» - конфликты и деформации личности, психические комплексы. Нет ощущения свободы, а есть ощущение тяжести. Игра и установка «авось», избавление от излишней серьёзности – благотворны. «Тяжесть и темнота являются главными чертами мира депрессии. По существу только две установки могут быть приняты в этом мире: покорность и бунт». В состоянии лёгкой депрессии на первом место оказывается раздражительность. Опасность самоубийства более свойственна депрессиям бунта (преобладает аутоагрессия), чем депрессиям покорности.
Я считаю, что восприятие пространства тесно связано с восприятием времени, так как «путешествие во времени» - это путешествие в пространстве связей с теми или иными явлениями и людьми в прошлом, настоящем и будущем. Поэтому депрессия - это уплотнённое, сжатое к точке восприятие человеком времени и пространства при невозможности самостоятельно их развернуть в обширное и более сложное, структурированное пространство связей с окружающим миром. Графика к методологии «Спектральная логика» В.П. Грибашёва, на мой взгляд, - своеобразный алгоритм постепенного превращения точки в пространство связей с другими объектами мира.
Диагноз депрессии может иметь отношение не только к одному человеку, но даже и к целому народу. В разделе 1.2 мы уже приводили исследования Л.А. Китаева-Смыка феномена чеченского терроризма и предположили его корни в «чеченской депрессии»».
В.Г. Немировский, анализируя российское общество в исследовании «Российский кризис в зеркале постнеклассической социологии», отмечает наличие в массовом бессознательном «восьми неосознанных ориентаций»: 1) «направленность на переживание высших социальных потребностей»,
2) «конформистская направленность», 3) «садомазохистская направленность», 4) «накопительская направленность», 5) «направленность на приключения», 6) «сексуально-развлекательная направленность», 7) «альтруистическая направленность», 8) «направленность на самоограничение». Анализируя соотношение всех этих направленностей, он делает неутешительный вывод «о доминировании у населения, выражаясь языком психоанализа, - «танатофилии» - влечения к смерти», что проявляется не только в ориентации на мрачные переживания, но и в склонности к суициду, преступности и в отсутствии заботы о собственном здоровье. Он находит также «зрелую мотивационную основу для социально-политических потрясений». В.Г. Немировский констатирует, что «любой психиатр поставил бы современному российскому обществу диагноз «депрессия».
Мне кажется, что многое осложняется ещё и тем, что за годы Советской власти и в результате «христианского» воспитания нашего населения, большинство людей привыкли рассматривать жизнь как сказку со счастливым концом. То есть они, сознательно или бессознательно, впитали в себя не только философский, но и бытовой эсхатологизм, но обязательно со счастливым концом. Хотя многие приметы времени говорят об обратном! Проблема также в том, что большинство людей живут как бы по инерции.
Здесь необходимо сказать о так называемых «детях Индиго». Исследователи этого явления Ли Кэрролл и Джен Тоубер в книге «Дети Индиго десять лет спустя» с разных сторон рассматривают проблему их социализации в современном обществе. Они отмечают, что «по свидетельству многих педагогов, всё большее число детей рождается с сильными экстрасенсорными способностями», педиатры отмечают «лавинообразный рост случаев синдрома дефицита внимания (СДВ) и синдрома дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ)». То есть человеческие дети сейчас меняются! К подобным детям иногда применяют медикаментозное психиатрическое лечение.
Эти авторы рассматривают случай с Нэнси Тэпп, страдающей синестезией (явление, когда при раздражении одного органа чувств одновременно возникают ощущения, сопутствующие другому органу: например, человек начинает чувствовать «запах цвета», «слышать запах»). Нэнси – автор термина «дети Индиго» (она «видит» 12 типов Индиго); она убеждена, что цветовая окраска людей (аура вокруг их тел) не случайна. Цвет указывает на тип мыслительного процесса, но, например, синий цвет ауры человека вовсе не указывает на его необычные, экстрасенсорные способности. С детьми Индиго надо говорить на равных, что не означает во всём соглашаться с ними. Они нуждаются в общении. В некоторых случаях они могут быть очень опасны, так как, сталкиваясь с трудной жизненной ситуацией, когда их ожидания не оправдываются, могут испытывать сильный гнев, быть жестокими. Эти дети, считает Нэнси, не из числа трудоголиков. Подобных детей нередко относят к аутистам, врачи находят у них букет болезней. У детей Индиго, по-видимому, несколько иная, чем у других людей, жизненная программа, а обычная жизнь для них трудна. Возможно, появление подобных детей является «свидетельством квантового скачка в физической, интеллектуальной и духовной эволюции нашего вида», хотя не исключено, что это является и негативным следствием нашего неограниченного вмешательство в природу и жизнь планеты.
Среди стремлений человека, стремление к счастью, благополучию, наверное, является почти всеобщим и самым сильным. Одни связывают счастье с любовью, другие – с творчеством. Большинство не мыслят счастье без здоровья и наличия детей. Немало людей находят счастье лишь в богоискательстве, а состояние «богооставленности» расценивают как самое страшное несчастье. Но субъективное ощущение счастья всегда связано с преобладанием в сознании человека «положительных», созидательных эмоций и отсутствием, сокращением эмоций «отрицательных», разрушительных. Религиозный опыт всех стран и народов накопил огромный опыт в деле достижения положительных, благодатных состояний сознания. Например, в книге «Деструктивные эмоции» (Д. Гоулдман «Деструктивные эмоции. Как с ними справиться? Научный диалог с Далай-Ламой в пересказе Дэниела Гоулмана») отмечается, что в буддистской психологии есть «шесть коренных ментальных загрязнений», которые отчасти можно считать «деструктивными эмоциями». Это: 1. Привязанность или вожделение. 2. Гнев (в том числе враждебность и ненависть). 3. Самомнение. 4. Неведение и заблуждение. 5. Загрязняющее сомнение. 6. Загрязняющие мнения.
Западные учёные, принимавшие участие в разговоре с Далай-Ламой (разговор подробно расписан в книге), расширили этот список до 20-ти «ментальных загрязнений». Это: ярость, негодование, озлобленность, зависть/ревность, жестокость, жадность, завышенная самооценка, возбуждение, сокрытие собственных пороков, тупость, слепая вера, духовная лень, забывчивость, отсутствие интроспективного внимания, претенциозность, лживость, бесстыдство, невнимание к другим, недобросовестность, рассеянность.
Ключевым отличием деления эмоций на полезные и вредные по буддийскому принципу и западному является следующее: принцип деления для западного ума осуществляется на основе эмоциональной «приятности», психологической комфортности. В буддизме самым важным является – способствуют ли эмоции духовному прогрессу или тянут сознание назад. Поэтому в буддизме существует как «добродетельный гнев», так и «загрязняющее сострадание» (всё зависит от мотиваций, то есть чистоты помыслов).
В книге «Деструктивные эмоции» отмечается связь негативных эмоций и ощущения счастья не только с психическими процессами в организме, но и с врождёнными биологическими особенностями мозга, а также – с определёнными разделами мозга. Например, у людей, находящихся в депрессии, наблюдается повышенная активность миндалевидного тела мозга. Но при этом было отмечено, что те люди, которые демонстрируют самые реалистичные оценки среди североамериканцев, страдают лёгкой депрессией. С положительными эмоциями связана активность левой лобной коры головного мозга. Было экспериментально подтверждено, что «связь между жизненными обстоятельствами и доминирующими настроениями оказалась поразительно слабой»! То есть у каждого человека соотношение положительных и отрицательных эмоций во многом определяется биологией организма. Но и это ещё не всё в опытах учёных! На основе современных представлений о пластичности мозга были предприняты попытки путём духовных упражнений изменить соотношение «негатива-позитива» в сознании человека в сторону положительных эмоций!
Несмотря на то, что исследованиями было доказано, что при повреждении тех или иных участков мозга, его функции берут на себя другие участки, то есть мозг обладает пластичностью, «было установлено, что как при депрессии, так и при посттравматическом стрессовом расстройстве гиппокамп уменьшается в размерах». (Считается, что при лечении депрессии антидепрессантами можно предотвратить атрофию гиппокампа).
Страх, возможно, также связан с активизацией миндалевидного тела мозга. Было отмечено, что некоторые люди могут легко и быстро справляться со своими эмоциями, но другим для этого требуется очень много времени: «быстрее всего успокаиваются люди, у которых активность в миндалевидном теле выражена слабее и длится меньше по времени. Кроме того, у этих людей сильнее активизируется левая предлобная кора – зона, отвечающая за позитивные эмоции». При этом именно в ранние годы жизни окружающая обстановка воздействует на наш мозг активнее всего. Кроме того, у людей, «способных к быстрому восстановлению, как правило, понижен уровень кортизола, который играет ключевую роль в развитии стресса. Кортизол – это гормон, вырабатываемый надпочечными железами, которые расположены прямо на почках, но управляются мозгом». Высокий уровень кортизола может привести даже к гибели клеток гиппокампа. Кроме того, для тех, кто быстрее справляется со своими эмоциями, характерно лучшее функционирование иммунной системы, в частности, у них выше уровень активности естественных клеток-киллеров, главных защитников организма даже от раковых клеток.
В книге «Деструктивные эмоции» ставится вопрос о профилактике и борьбе с отрицательными, деструктивными эмоциями, прежде всего, на основании буддистской медитации. То есть: воспитание чувств – это реальность. При этом первоначальное обучение всегда самое лёгкое; переучивание требует больших усилий. Предлагается три основных метода борьбы с негативными эмоциями. Прежде всего, это противоядие. И, лучше всего, за счёт культивирования другого, положительного полюса эмоций. Прежде всего, - путём развития сострадания, милосердия на основе размышления или генерации соответствующего чувства. Можно также пытаться поставить себя на место другого человека. Далай-Лама вообще считает, «что практику сострадания можно сравнить с лекарством, которое восстанавливает равновесие у человека, испытывающего сильное возбуждение…Сострадание – это отличный транквилизатор». Вторым методом противодействия негативу является культивирование пустоты, которая выше всех эмоций. Третьим методом является применение негатива в качестве катализатора для проявления позитива. Основным инструментом всех трёх методов является медитация, а также – применение специальных цветовых, графических и звуковых средств воздействия на человека. В частности, в буддизме широко практикуется мантра «ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ».
Основой медитации для контроля над эмоциями является наблюдение за собственным опытом и мыслями. При взаимодействии с объектами мира предпочтение отдаётся непосредственному («неконцептуальному») восприятию, то есть без привлечения оценок («вы просто получаете ощущение. На втором этапе включается механизм идентификации»). При этом Далай-Лама считает, что «позитивные эмоции чаще являются следствием обдуманной мысли, в то время как негативные эмоции возникают спонтанно». Как сообщается в книге «Деструктивные эмоции», «две тысячи лет назад авторы абхидхармы, классического канона буддийской психологии, предложили измерять прогресс в духовной практике по соотношению частоты и силы полезных и деструктивных эмоций. Современная наука о мозге, похоже, начинает склоняться к тому же мнению». При длительной медитативной практике формируется устойчивая невозмутимость, а «настроения медитатора будут всё больше и больше зависеть от внутренней реальности, а не от внешних событий». При этом культивируются также милосердие и сострадание.
Тем не менее, деструктивные, отрицательные эмоции захлёстывают мир и, возможно, могут вести не только к войнам, но и гибели цивилизации. Зигмунд Фрейд связывал эти процессы, прежде всего, с нарушением принципа удовольствия-неудовольствия. В результате невозможности удовлетворения своих естественных желаний, потребностей (Фрейд связывал их, прежде всего с инстинктивными сексуальными желаниями, либидо, хотя не отрицал наличия относительно независимых от либидо духовных потребностей, которые концентрируются в «Я» и «Сверх-Я»), возникает невроз, то есть появляются некие симптомы, призванные заменить несостоявшееся удовлетворение. «Разумеется, - пишет он в двадцать второй лекции своего «Введения в психоанализ», - это не означает вовсе то, что любой отказ от либидозного удовлетворения делает невротиком каждого, кого он касается, а лишь то, что во всех исследованных случаях невроза был обнаружен фактор вынужденного отказа». И далее в качестве средства преодоления неудовлетворённого состояния Фрейд рассматривает явление сублимации, «принимая при этом общую оценку, ставящую социальные цели выше сексуальных, эгоистических в своей основе». Но при этом «количество неудовлетворённого либидо, которое в среднем могут перенести люди, ограничено», то есть многие люди почти не обладают способностью к сублимации. Более того, некоторые люди могут получать удовлетворение лишь «от очень незначительного числа целей и объектов», а у многих наблюдается значительная «фиксация либидо» на тех или иных объектах. Рассматривая травматические неврозы, Фрейд подчёркивает в их происхождении роль «Я», которое путём формирования определённых симптомов (например, навязчивых мыслей, фантазий, сновидений и различных состояний) создаёт себе защиту, «выгоду» от перенесённых переживаний и опасностей, их своеобразную компенсацию. «Разрешение конфликта посредством образования симптома является самым удобным и желательным выходом из положения для принципа удовольствия; он, несомненно, избавляет Я от большой и мучительной внутренней работы. Бывают случаи, когда даже врач должен признать, что разрешение конфликта в форме невроза представляет собой самое безобидное и социально допустимое решение. Не удивляйтесь, что порой даже врач становится на сторону болезни, с которой он ведёт борьбу…можно сказать, что у невротика каждый раз перед лицом конфликта происходит бегство в болезнь,…в некоторых случаях это бегство вполне оправдано…Но в обычных условиях мы обнаруживаем, что благодаря отступлению в невроз Я получает определённую внутреннюю выгоду от болезни». При этом, констатирует Фрейд, «вы легко поймёте, что всё, что способствует получению выгоды от болезни, усилит сопротивление вытеснения и увеличит трудности лечения». В результате, болезнь ведёт себя как «инстинкт самосохранения», приобретает как бы «вторичную функцию». При этом человек как бы отказывается от использования своих высших сил, что, возможно, происходит автоматически, независимо от сознания человека, так как «если бы был выбор, следовало бы предпочесть погибнуть в честной борьбе с судьбой». (Здесь я хочу возразить гениальному Фрейду – выбор, возможно, всё же есть, и обусловлен он «спектральной» природой человека, то есть возможностью использовать большее разнообразие как инстинктивных, так и сверхсознательных проявлений личности, замещая одну потребность или возможность другой. Фрейд слишком возвеличивал разум по сравнению с эмоциями и инстинктом, которым он отводил менее значимое место в иерархии проявлений личности. Я же предполагаю, что значимость каждого признака личности относительна).
В связи с принципом удовольствие-неудовольствие Фрейда хочу высказать одно предположение. Возможно, у каждого индивида существует, своего рода, «энергетический», то есть количественный запрос на получение удовольствия (в случае недобора должного количества ощущается неудовольствие, страдание и боль). А вот качество удовольствия может меняться, поэтому в случае перекрытия возможности получения запланированного удовольствия человек может испытать его через другие удовольствия (этот процесс может быть как регрессивным – получение удовольствия через пищу, алкоголь и т.п., так и сублимирующим – за счёт получения удовольствия от творчества, молитвы и даже самопожертвования). «Баланс» желаемого и возможного постоянно меняется. Подведение итогов осуществляет не только сознание, но и бессознательное, прежде всего, через механизм положительно-отрицательных эмоций.
На борьбу с негативными эмоциями, настроениями и установками направлена во многом и духовная работа православного христианина. Она, по-видимому, основана на способности психики сублимировать свои желания, энергию в духовную сферу. Святитель Игнатий Брянчанинов указывает в диалоге «О прелести»: «Искуплённому человеку предоставлена свобода повиноваться, или Богу, или дiяволу, а чтобы эта свобода вынаружилась непринуждённо, оставлен дiяволу доступ к человеку». Человек же подвержен влиянию дьявола, так как пребывает в прелести. «Все мы – в прелести», - пишет Игнатий Брянчанинов. «Прелесть есть повреждение естества человеческого ложью», из чего следует, что бороться с этим можно и нужно. Нужна неустанная и каждодневная работа с прелестью, которая «действует первоначально на образ мыслей; будучи принята и извратив образ мыслей, она немедленно сообщается сердцу, извращает сердечные ощущения; овладев сущностью человека, она разливается на всю деятельность его, отравляет самое тело, как неразрывно связанное с Творцом душою. Состояние прелести есть состояние погибели или вечной смерти» (подробнее в разделе 3.1).
Аутизм – также весьма распространённое психическое отклонение. В статье «Замкнутое пространство» (газета «Новые известия», 28 мая 2012, авторы: С. Башарова, В. Бойник, Иерусалим-Реховот; Б. Винокур, Чикаго; А. Смирнов, Стокгольм; В. Шаньков, Варшава) приводится ряд интересных соображений о природе аутизма. Греческое слово autos означает «сам», аутисты – люди, замкнутые на себя. Они очень разные. Например, дети с синдромом Каннера не испытывают потребности говорить и воспринимать речь, но без знания языка мозг не развивается, поэтому формируется умственная отсталость. У детей с синдромом Асбергера при наличии нормального интеллекта, желание общаться отсутствует.
Психолог из МГУ Марина Бардышевская считает, что «аутизм – это слабость жизненного тонуса, когда у человека не хватает сил на людей, и он интересуется тем, что мёртво. Формы и степень нарушений бывают очень разные. Это могут быть двухлетние дети, которые приходят на приём с айпадами и прекрасно играют на нём в играх, но не узнают себя в зеркале и не узнают собственную мать. Это могут быть взрослые люди, которые сутками сидят за экраном и верят, что цифры и мелькающие картинки важнее, чем их собственные дети и люди вокруг».
Мне кажется, что нельзя суть аутизма сводить лишь к слабости тонуса, то есть к нехватке жизненной энергии. Аутизм - это ведь и определённая форма, способ распределения жизненной энергии. Если в одном направлении человек бывает слаб, то в другом может быть силён, поэтому ребёнок чаще всего развивается по пути наименьшего сопротивления и природной склонности, если для него отсутствует чёткое руководство родителей; даже взрослый человек старается заниматься тем, что ему легче всего даётся и тем, что привычно.
Как отмечается в статье философа Виктора Короткова «Я человек» (газета «Московские новости», 25 марта 2013 г.), аутизм – это болезнь невозможности раскрыться. И не только обычному человеку трудно общаться с аутистом, но и аутисту трудно общаться с нормальным человеком, так как они живут во многом в параллельных мирах. Наверное, «наше общество – аутично по отношению к реальности», хотя это понимают лишь наиболее святые люди, подвижники всех религий.
Причин аутизма называется много – от возраста родителей, их занятий (например, оба родителя – высокие профессионалы в сфере систематизации) до негативного действия прививок (интоксикация). В любом случае влияет генетика и факторы среды.
С каждым годом аутистов становится больше. В России аутизмом страдает 1 ребёнок из 1000 (в СССР 1 ребёнок-аутист приходился на 150 тысяч детей). В США в 1970 г. 1 аутист приходился на 10 тысяч детей, сейчас – на 88 детей. В Израиле за последние семь лет их стало в два раза больше, сейчас аутизмом страдает один из 200 детей. Польская статистика причисляет к аутистам одного ребёнка из тысячи, шведская – одного из 500. Российская статистика не может быть достоверной, так как, по некоторым оценкам, к аутистам причисляют детей, страдающих шизофренией, умственной отсталостью. Бывают явные врачебные ошибки, например, из-за плохого слуха приписали аутизм. Диагноз можно ставить в возрасте 1,5-1,8 лет; в России выявляют в возрасте от двух до четырёх лет. В России есть коррекционные школы восьми видов. Лишь 2% аутистов берут в обычные детские сады в России; в США таковых 90%, где их дискриминация встречается реже. В Израиле около 60% аутистов являются социально адаптированными.
Примерно четверть аутистов, если им вовремя оказать качественную помощь, могут жить обычной жизнью. В Израиле аутисты служат даже в армии. Аутисты обладают рядом ценных качеств; им, например, присуща высокая концентрация внимания, которая позволяет выполнять рутинную работу.
Распространённым психическим заболеванием считается шизофрения Название происходит от греческого слова schizo – расщепляю, раскалываю и phren – душа. Клинические проявления шизофрении разнообразны. Как сообщает «Полный энциклопедический справочник. Психология», «при ней могут наблюдаться почти все известные в психиатрии симптомы и синдромы…». В наибольшей степени поражены эмоциональная и волевая сферы. Наблюдается нарастающая эмоциональная холодность и безразличие к окружающим людям, утрата прежних интересов и влечений, развивается эмоциональная тупость, в мышлении нарушается логика, происходит отгораживание от внешнего мира, уход в себя, в монологичность.
Тем не менее, по убеждению А. Кемпинского, хотя причудливость моделей действительности при шизофрении шокирует, немало шизофренических концепций благодаря техническому прогрессу были реализованы. Психиатр честно признаётся: «Не существует бреда, который можно было бы назвать чистым бредом. Каждая созданная человеком модель окружающей действительности является хотя бы тенью правды, хотя бы и была минимально правдоподобной». Эмоциональная жизнь при шизофрении подчиняется своим законам, «…жизнь и особенно её развитие требуют усилия».
Мне посчастливилось общаться с мудрым человеком, дежурным психиатром города Москвы, Кириллом Фёдоровичем Леонтовичем. Ему пришлось столкнуться со многими психически больными людьми. Он как-то сказал мне: «Греховное дело – нарушать контакт больного с самим собой, когда лечу психически больного». Он считает: «Как мне интересно часто быть с самим собой, так и больные-аутисты словно сделали прокол в своей оболочке и ушли в иное пространство, где им значительно лучше». В ответ на моё предположение, что некоторым, наоборот, от этого хуже, он ответил, что страдают чаще всего, экстраверты, интраверты не страдают.
Леонтович не согласен, что каждого больного надо обязательно стремиться доводить до «нормы». Одним из методов лечения может быть также усиление реакции. Надо позволить тому или иному состоянию быть. Чем сильнее больного врач-психиатр «заанестезирет», тем хуже. Другой ценный опыт, которым поделился со мной К.Ф. Леонтович, имел отношение к шизофрении. Он убеждён, что истинный процент шизофреников, наверное, не знает никто. По статистике это 1% людей, которые не поддаются гипнозу, так как болезнь проявляет себя как тот или иной дефект личности (эмоциональная холодность к другим, например, чёрствость, брутальность, застревание на какой-то идее или деле, либо, наоборот, излишне богатый ассоциативный ряд; особый род чудачества: жадность, неряшливость, брезгливость, мания и извращение). Примерами таких людей в русской литературе можно считать Иудушку Головлёва, Манилова, Коробочку. Леонтович считает, что классифицировать шизофреников не получается, так как каждый из них – индивидуален и способен в условиях опасности (например, при пожаре) находить свой особый выход из положения, так как большинство «нормальных» людей подвержены стадному чувству. «Этот один процент людей ведут толпу и человечество; они создают моду и изобретения». Он убеждён также, что наличие этой болезни отличает даже человека от животных. Она по-разному протекает в трёх поколениях: в первом поколении проявляется как одарённость; во втором как психопатия, эмоциональная неуравновешенность, когда человек больше хочет, чем может; в третьем поколении - как эмоциональные и интеллектуальные дефекты, отсутствие потомства.
Мальтус, профессор политической экономии в Великобритании, обнародовав свою теорию о народонаселении, чётко сформулировал свою философию: «Справедливость и честь требуют от нас того, чтобы мы формально опровергли право бедных на получение помощи», поэтому «…мы должны облегчить действия природы, которые приводят к смертности, вместо того, чтобы глупо и самонадеянно пытаться им препятствовать» (речь идёт о «людях второго сорта»). На основе этого замечания авторы книги о психиатрии при Гитлере дают уничтожающее определение психиатрии: «История психиатрии – это история одной из наиболее хорошо скрытых социальных и политических махинаций, которые когда-либо совершались на земле под видом науки…ранее не было ещё случая, чтобы представители какой-либо точной науки или гуманитарной дисциплины набрались такой наглости, чтобы начать систематическую кампанию по завоеванию беспрецедентного влияния на судьбы людей и земной цивилизации в целом». В этом процессе авторы видят 4 основные составляющие: 1) создание произвольных и гибких определений для понятий и явлений «нормальный» - «ненормальный» и «больной» - «здоровый»; 2) лоббирование законов о принудительном лечении; 3) создание в глазах общественности образа верных исполнителей воли правительства; 4) расширенное представление понятия «душевное заболевание» с целью охвата всё новых людей и усиления собственного могущества.
В переводе статьи Антье Виндманна «История болезни подвергшихся принудительной стерилизации» (журнал «Профиль», 8 сентября 2014 г.) сообщается, что в Третьем рейхе (в фашистской Германии) около 360 тысяч жителей подвергались принудительной стерилизации. Основанием был закон «О предотвращении рождения потомства с наследственными заболеваниями», принятый в 1934 году. «Он входил в ядро национал-социалистической политики в области здравоохранения и расовой гигиены. Благодаря стерилизации «неполноценных» и «балласта» предполагалось в долгосрочной перспективе обеспечить «здоровье нации». Под категорию «балласта» подпадали люди, страдающие наследственными заболеваниями: врождённым слабоумием, шизофренией, эпилепсией, слепотой и глухотой. Сюда же относили и людей с тяжёлыми физическими пороками и страдающих алкоголизмом. «Решение о принудительной стерилизации принималось так называемым судом по делам наследственного здоровья». Возможность апелляции была лишь теоретической, многих привозили в клинику полицейские. В Мюнхене, например, стерилизовали девушку, впавшую после смерти матери в уныние. «Одним из «показаний» считалось наличие внебрачных детей и даже появление на свет вне брака». Как констатирует А. Виндманн в вышеназванной статье, «диагноз «врождённое слабоумие» ставили при помощи теста на интеллект – тех, кто отвечал слишком умно, порой признавали страдающими «моральным слабоумием». Аборты производились вплоть до 7-ми месяцев беременности. В рамках программы эвтаназии в 1940-1941 годах было умерщвлено около 70 тысяч человек. При этом «евгеническая стерилизация ещё долгие годы после окончания войны продолжала считаться адекватным методом контроля за здоровьем. Соответствующий нацистский закон был отменён в ФРГ только в 1974 году».
Психиатр В. Франкл в книге «Человек в поисках смысла» приводит исследования Р.Н. Грея с соавторами, которые изучали поведение и взгляды 64 врачей (11 из них – психиатры), в процессе их профессионального обучения. Оказалось, что их цинизм, как правило, увеличивался, а гуманизм уменьшался. Лишь после окончания обучения часть врачей меняла тенденцию на противоположную. Нечто подобное наблюдалось среди американцев, служивших в Корпусе мира в Африке. Им опостылело всё на свете, группа была обучена «интерпретировать идеализм и альтруизм как «заморочки» и «пунктики». Добровольцы также постоянно играли в игру «каков твой скрытый мотив» (Франкл назвал это стремлением к «гиперинтерпретации»). В монографии «Психиатрический диагноз» (авторы: И.Я. Завилянский, В.М. Блейхер, И.В. Крук, Л.И. Завилянская) рассматриваются основные проблемы и противоречия при диагнозе и лечении психически больных людей. В частности, психиатру важна не столько инструментальная техника, сколько само наблюдение за больным, умение расспрашивать и анализировать, чтобы от живого созерцания через абстрактное мышление вновь обратиться к практике. Важно уметь предвидеть поведение больного (это может быть: побег, суицидальная попытка, ступор, расстройство сознания, возбуждение). В психиатрии симптом никогда не бывает однозначным, как и связь внутренних (свойств личности) и внешних факторов (условий жизни и т.п.). В отличие от соматических больных «психически больные не всегда ощущают дискомфорт».
Диагноз включает в себя: определение болезни и её описание; стадии болезни; прогноз и тип лечения. Авторы монографии пишут: «По мнению К.Е. Тарасова (1965), диагностику составляют три основных, неразрывно связанных друг с другом аспекта распознавания болезни: логический - специфика мышления врача в процессе установления диагноза, технический – разработка различных специфических методов обследования больного и семиотический – изучение диагностического значения симптомов». При этом исследование никогда не идёт по прямой линии, а приближается к спирали.
Анамнез, то есть сведения о жизни больного, перенесённых им заболеваний, начале и течении болезни нынешней, - важнейшая часть исследования, которая основывается на расспросах и обследовании самого больного и членов его семьи (при этом надо обращать внимание не только на содержание, но и форму изложения, учитывать степень доверия и открытости врачу). В.П. Сербский считал, что анамнез приходится собирать дважды – до и после обследования больного.
Авторы монографии «Психиатрический диагноз» предлагают при диагнозе обращать внимание на такие факторы:
- расстройство эмоций (эйфория – это повышенное настроение, которое ведёт к переоценке своих возможностей; депрессия, которая проявляется пониженным настроением, заторможенностью, тревогой; маниакальные состояния, которые отличаются противоположными депрессии признаками; апатия, которая считается типичным признаком шизофрении; страх; патологический эффект, проявляющийся в немотивированных и даже жестоких действиях);
- расстройства сознания (непродуктивные расстройства сознания – это расстройства с выпадением тех или иных функций: например, оглушение, кома, ступор; продуктивные расстройства протекают с бредом, расстройствами восприятия, нарушениями поведения);
- психомоторные расстройства и обманы чувств (зрительные, слуховые, обонятельные, вкусовые, тактильные, висцеральные и психогенные галлюцинации);
- расстройства памяти (усиление памяти - гипермнезия; гипомнезия - постепенное ослабление памяти; амнезия - выпадение фрагментов памяти; экмнезия, при которой события прошлого переносятся в настоящее; криптомнезия, при которой ранее известное воспроизводится как новое; анэкфория - память о событии воспроизводится лишь при напоминании о нём; парамнезии - обманы памяти);
- расстройства мышления (это ускоренное или замедленное мышление; вязкое мышление, при котором главное не отделяется от второстепенного; бессвязное, спутанное мышление; аутистическое - по сути, нереальное мышление; паралогическое и кататимное мышление, при котором нарушаются законы обычной логики; символическое мышление; фабулирующее мышление, при котором нарушается хронологическая последовательность повествования; наплыв мыслей или ментизм; задержка мышления или внезапная остановка течения мыслей; сгущение или слияние понятий; резонерство или пустое рассуждение; сверхценные идеи; навязчивые идеи; навязчивые сомнения; навязчивое мудрствование, навязчивый счёт или арифмомания; контрастные навязчивые мысли, которые не соответствуют ситуации; навязчивые страхи; навязчивые действия и навязчивые состояния; бредовые идеи);
- слабоумие (различают: простое слабоумие, психоподобное, галлюцинаторно-параноидное, амнестически-парамнестическое,
паралитическое, асемическое и терминальное; можно выделить стадии слабоумия: олигофрения, идиотия, имбецильность, дебильность);
- расстройства сна;
- расстройства речи, письма, гнозиса и праксиса, то есть затруднения в узнавании и изображении предметов, узнавании собственных частей тела;
- психопатологические синдромы (астенический синдром с нервно-психической слабостью; ананкастический синдром, который проявляет себя через навязчивые фобии, мысли и действия; неврозоподобные и психоподобные синдромы; ипохондрический синдром, связанный с необоснованным беспокойством больного, утрированным вниманием к своему здоровью; кататонический синдром, имеющий нарушения психомоторики; гебефренический и гебоидный синдромы, при которых поведение отличается непродуктивной эйфорией, негативизмом и утрированными реакциями; апатический синдром, проявляющийся через эмоциональное отупении; параноидный синдром или разновидность бреда; синдром психического автоматизма Кандинского-Клерамбо, когда у больного возникают «чужие» мысли, либо в голове «звучат собственные мысли»; параноический синдром, который возникает при особой структуре личности или при наличии ключевых переживаний; парафренный синдром; синдром Капра, при котором наблюдаются нарушения узнавания людей; синдром Котара, который сочетает в себе нигилистически-ипохондрический бред с идеями громадности; синдром бредоподобных фантазий; синдром псевдодеменции, то есть проявлений своеобразного слабоумия; синдром Ганзера, когда наблюдается «мимоговорение», «мимодействия», сужение сознания и амнезия; Корсаковский синдром, проявляющийся в нарушениях памяти на текущие события и в ложных воспоминаниях; синдром дереализации и деперсонализации, при котором человек воспринимает себя или окружающий мир как изменённый; органический психосиндром, возникающий при органических нарушениях мозга и характеризующийся общей психической несостоятельностью; эндокринный синдром, являющийся разновидностью органического; синдром дисморфофобии - связан с мыслями о мнимом внешнем уродстве; синдром психической, нервной, анорексии, связанный с отказом от пищи; синдром психического инфантилизма, как остановки в развитии личности; синдром раннего детского аутизма; синдром дифференцированных форм олигофрении и некоторые другие синдромы и патохарактерологические реакции).
Общепринятая классификация психических отклонений, их бесконечное перечисление, как и их лечение, – во многом лишь для специалистов. На мой взгляд, классификация нуждается в лучшей систематизации на основании «матричного» подхода. Необходимо использовать двухполюсное (бинарное) описание: повышенное – сниженное проявление того или иного качества, проявления личности (норма – середина). В качестве параметров могут рассматриваться различные формы восприятия мира, эмоциональные, интеллектуальные, поведенческие, ценностные, мотивационные, проявления личности, характеристики физических органов человека, органов чувств, рефлекторные и соматические реакции, степень осознанности реакций и т.п. Чтобы рассматривать неврозы как отклонения от нормы, надо дать современное определение «нормального» человека, связав его не только с характерными чертами личности, но и условиями жизни. Хорошо было бы определить что такое «быть самим собой» и описать «утрату целостности» как синдром.
Жизнь предполагает неизбежность существования программ (программирования) на биологическом, эмоциональном и интеллектуальном уровне (среди них: стереотипы мышления). Необходимо рассмотреть также взаимодействие среды и личности с точки зрения развития, функционирования или подавления личности.
Юрий Воробьевский в достаточно провокационной книге «Бедлам. Безумие перед Богом и перед людьми» отмечает сходство современного политического мироустройства с Бедламом (так называлась лечебница для умалишённых, ставшая символом человеческих страданий и ужаса, которая возникла в ХV1 веке в Вифлеемском аббатстве в Лондоне). В этой книге автор не жалеет красок для описания разнообразных душевных страданий, ещё более усиленных психиатрическими методами древних и современных эскулапов, которые, по сути, представляют собой ряд средневековых пыток. Если безумие спартанского царя приписывали мести богов за уничтожение священной рощи, а христианская традиция хоть и предписывала терпимость к душевнобольным, находила причины многих болезней в греховности человека, то рациональная медицина, отбросив религиозные догмы, с остервенением взялась за тело больного. В психбольницах прошлых веков применялись железные наручники, смирительная рубашка, собачьи ошейники с шипами и многие другие изуверские изобретения. Больных заражали чесоткой, подвешивали на верёвках или на блоках, направляли сильную струю воды на гениталии, стращали даже сожжением…
Термин «психиатрия» появился на рубеже ХVШ-Х1Х веков. Психиатры обладали практически безграничной властью над больными. Поскольку понятие о душе было отброшено, лечили, в основном, мозг, воздействуя на лобные доли, вызывая конвульсии тела. 15 апреля 1938 года впервые для этого был применен электрошок (первым подопытным стал бродяга из Северной Италии); прошедшие такой «курс лечения» погружались в детство, они лишались и ранее накопленных знаний. «Самой знаменитой жертвой электрошока был, наверное, Эрнест Хемингуэй». Ю. Воробьевский убеждён, что во многом благодаря этому лечению, писатель покончил жизнь самоубийством, так как лишился памяти и возможности писать.
Психиатры экспериментировали и другими методами. Например, больных помещали в звуконепроницаемую комнату, надевали чёрную повязку на глаза, вставляли в уши резиновые затычки, подвергали гипнотическому внушению (есть свидетельства, что подобные методы «сенсорной депривации» США применяет в тюрьме Гуантанамо).
За изобретение и внедрение в психиатрию в 1995 году метода лейкотомии (хирургического вмешательства в лобные доли мозга) португалец Эгашем Монишем получил Нобелевскую премию. Метод был поставлен на поток.
Как отмечает Ю.Воробьевский, поскольку душевно больные были и среди королей (например, король Англии Георг), а многие президенты и главы государств страдали депрессиями, уставали от непосильной нагрузки, они невольно становились зависимыми не только от алкоголя, наркотиков, но и от своих лечащих врачей (прежде всего, психиатров). Среди них: Джон Кеннеди, президент Франции Поль Дешинель, Вудро Вильсон, не говоря уж о Гитлере. Теми или иными психическими отклонениями страдали и многие революционеры (например, Бабёф). Воробьевский пытается связать стремление к власти, присущее многим, с психическими расстройствами.
Но подобная связь, на мой взгляд, не однозначна. Во всяком случае, трудно не согласиться с утверждением психиатра В.М. Бехтерева (высказал его в 1905 году на съезде психиатров в г. Киеве), что отсутствие прав и свобод ответственно за «недостаток жизненных сил» и угрожает также душевному здоровью нации. Поэтому психиатр А.И. Яроцкий предлагал своим пациентам терапию революцией. Тем не менее, размах событий 1905-1907 гг. заставил таких психиатров, как Сикорский и Баженов, говорить, наоборот, о революции, как о массовой патологии.
Мне представляется, что стремление к власти и лидерству, как и смирение, проявление покорности по отношению к другим, - это естественные человеческие качества, но в их проявлении, как и во всём, должна быть мера. Ни одно стремление, по возможности, не должно существенно нарушать целостность личности.
Основными методами лечения в психиатрии на протяжении многих лет остаются неизменными. Это: 1) лечение с помощью шока (электрошока, инсулинового и т.п.); 2) хирургия (лоботомия и т.п.); 3) лечение с помощью лекарственных препаратов.
Авторы книги «Психиатры: люди за спиной Гитлера» опасаются, что «евгеника века космических технологий», «генная инженерия», когда генетики смогут манипулировать ДНК и будут способны в дородовой период отбирать у зародыша человека нужные черты и характеристики, прямиком может привести к «новому молекулярному Освенциму» с целью достижения целей евгеники, расовой гигиены и социального дарвинизма.
Более подробный анализ исторических этапов развития психиатрии можно найти в книге «Человек и его душа: познание и врачевание от древности и до наших дней» американцев Франца Александера и Шелтона Селесник (к содержанию этой книги мы вернёмся в разделе 3.3). Можно сказать, что каждая эпоха и этап развития психологии и психиатрии выдвигали на первый план тот или иной аспект рассмотрения психики человека, а все прочие аспекты часто уходили в «тень», хотя по-прежнему продолжали существовать в той или иной степени и форме. Например, несмотря на основную роль жреца или целителя, даже в Древнем мире большое значение уделялось психологической атмосфере (храма, лечебницы и т.п.). Даже римские врачи пытались сделать лечение своих пациентов максимально приятным, используя тёплые ванны, массаж, музыку и специальный интерьер. Прослеживается и непреходящая роль внушения и психологического настроя в практике врачевания, так как отделить его от любых других методов (хирургии, лекарственного и физиотерапевтического воздействия) не представляется возможным, а спор о первичности-вторичности душевных (духовных) и материальных факторов в жизни человека не утихнет никогда. Молитва и медитация никогда не утрачивали своего особого значения.
В разделе 1.4 говорилось о врачевании не только души, но и тела посредством духовного подвижничества, включающего в себя те или иные аспекты аскезы. Среди них не последнее место занимает пост, что стало основой метода лечебного голодания или разгрузочно-диетической терапии (РДТ). Этот метод в России с успехом применял профессор Юрий Сергеевич Николаев. Специалисты Медицинского Института Говарда Хьюза и Института обучения и памяти при Массачусетском технологическом институте показали, что снижение потребления калорий в питании приводит к снижению потерь нервных клеток (газета «РБК daili», 28 мая 2013).
Древние также хорошо понимали роль во врачевании дружеского контакта между врачом и пациентом. Они рассматривали организм как единое целое. На психику влияют не только болезни тела, но она сама может порождать соматические болезни.
Нам представляется, что психологический и педагогический, социальный и даже «магический», религиозный подход при лечении психических больных должны дополнять друг друга, с учётом уровня сознания и подготовки самого больного.
Всем хорошо известны примеры использования психиатрии для борьбы с инакомыслием. Об этом пишет не только В. Буковский. Известный Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии (Институт имени Сербского), созданный в Х1Х веке, был и центром карательной психиатрии, хотя в первые годы Советской власти акцент при рассмотрении причин психических нарушений был сделан на социальных условиях, а не на качествах личности. Было признано, что лучшим лекарством является труд, поэтому предпочтение отдавалось не психиатрическим лечебницам, а исправительно-трудовым лагерям. Как сообщается в статье «Настоящий дурдом» (газета «Новые известия», 24 января 2001 года), «если в 1921 году вменяемыми в судах были признаны только 4%, то через пять лет вменяемыми оказались уже 40%, а к концу первого десятилетия советской власти практически все – система не позволяла своим преступникам годами отлёживаться в психиатрических больницах, их ждал Беломорканал». При этом, если в период борьбы с диссидентами был популярен диагноз «вяло текущая шизофрения», то с началом «перестройки» число невменяемых снова резко сократилось: врачи боялись ставить диагноз «шизофрения».
Не станем обобщать, но любой талант, новаторство, не говоря уж о юродстве – воспринимается не только большинством «нормальных», среднестатистических людей, но и специалистами-психологами и психиатрами, как психическая болезнь или сумасшествие. И, с позиций «нормального распределения» индивидов по степени развития того или иного интеллектуального, практического навыка, это справедливо. В обществе больше всего людей, обладающих средними значениями того или иного дара или таланта. Меньше всего тех, кто обладает этим качеством в превосходной степени или почти не обладает. Если взять за основу разделения людей «семислойку» уровней развития интеллекта: 1) идиот; 2) имбецил; 3) дебил; 4) нормальный; 5) способный; 6) талант; 7) гений, то крайности этого ряда в человеческом обществе представлены значительно реже, чем «середняки». Такова, наверное, структура общества и мироздания!
Накал творчества, свойственный многим гениям, сам по себе несёт угрозу психического истощения. Если перенапряжение и озарение творчества налагается на генетическую предрасположенность, социальное неблагополучие, отсутствие личной жизни и глубокого понимания, психика не выдерживает. Поэтому немало известных и даже гениальных людей были пациентами не только психоаналитиков, психиатров, но и психиатрических клиник не по принуждению, а по необходимости. Так, например, музыкант и основатель знаменитого хора, Митрофан Ефимович Пятницкий, из-за несчастной любви вынужден был определиться на лечение в психиатрическую клинику при Московском университете (ныне – клиника психиатрии им. С.С. Корсакова Московской медицинской академии И.М. Сеченова). Эту клинику отличал мягкий режим содержания больных. Возглавивший её в 1893 году профессор С.С. Корсаков был проповедником системы «нестеснения душевнобольных» и их отвлечения от недуга (больные работали в мастерских, в саду, могли рисовать и т.п.). В больнице были запрещены смирительные рубашки, уничтожены изоляторы для буйных (статья «Служитель муз и психбольницы», журнал «Коммерсантъ Власть», 29 января 2002). Кстати, с 1902 по 1904 г. в клинике лечился художник Михаил Врубель. В этой клинике вскоре после выздоровления в 1899 году стал работать письмоводителем в конторе и М.Е. Пятницкий. На этом посту он несколько лет добивался признания общественности как фольклорист и организатор крестьянского хора.
Ф.М. Достоевский, как известно, страдал эпилепсией, но считал, что она помогает ему в творчестве. О Н.В. Гоголе мы уже писали. Известный голландский художник Винсент Ван Гог был пациентом психбольницы, так как почти постоянно испытывал тоску и чувство полного одиночества, хотя у него был замечательный брат Тео (тот впал в депрессию после его смерти и умер примерно через шесть месяцев после смерти Винсента). Ван Гог покончил жизнь самоубийством. Психотерапевт А. А. Шутценбергер пишет об этом в книге «Синдром предков». Она является сторонницей трансгенных переносов тех или иных проблем и происшествий, то есть повторений ключевых событий у разных индивидов внутри семьи даже через несколько поколений. Она считает, что Винсент Ван Гог имел трагическую судьбу потому, что «как будто кто-то запрещал ему существовать». Он стал жертвой синдрома «замещающего ребёнка», так как родился ровно через год после смерти старшего брата, тоже Винсента. А вот Сальвадор Дали, отмечает А. А. Шутценбергер, «напротив, сумел избавиться от своего предназначения замещающего ребёнка», для чего изобрёл специфический механизм выживания.
Анализируя отношение к творчеству и личности известнейшего философа Фридриха Ницше, C.А. Жигалкин в своей «Метафизике вечного возвращения» критикует распространённое представление о Ницше как о весьма провинциальном и эксцентричном философе, запутавшемся в собственных мыслях, либо – как вообще о безумном человеке. Он пишет по поводу «сумасшествия» Ницше: «Во-первых, по настоящему удивительно, что человек мог выдержать такое колоссальное напряжение, длившееся не день и не два, а годы, десятилетия, всю жизнь… А во-вторых, мы же не знаем, что такое «сумасшествие». Особенно в случае Ницше. Да, человек больше не разделяет общепринятых взглядов, воспринимает всё абсолютно иначе и со стороны выглядит не очень-то хорошо…Но где, в каких мирах странствует его дух, какие открыты ему тайные смыслы, нам совершенно неведомо. И почему, собственно, мы уверены, что привычный нам мир имеет отношение к реальности?..».
Читатели, Вы, конечно, можете и должны иметь по данному поводу собственное мнение!
О тоске одиночества, как и о многочисленных испытаниях обычной жизнью, а также способах их преодоления мы скажем также в разделе 3.2.
1.7. Расплата за любовь. Вдовство, потеря родных и близких
«Не дай Бог вдоветь, да гореть»
В.Даль. Русская пословица
«Любовь – это вечный страх потерять»
Артист Владимир Коренев
«Не говори с тоской: их нет,
Но с благодарностию: были»
В.А. Жуковский
Объектами утраты, потери для любого человека могут быть не только нужные вещи, имущество, самые близкие люди (родители, супруги, дети, братья и сёстры, друзья и соратники), но и любимые животные, даже растения. Человек может страдать также от потери здоровья, утраты тех или иных привычных качеств (например, сексуальности, молодости, красоты), органов тела (зрения, зубов, конечностей, волос и т.п.), а также – навыков, возможностей (памяти, точности оценок и т.п.). Потеря дела, работы, как и социальных достижений, социальных ориентиров, абстрактных идеалов, символов веры и преданности может стать причиной катастрофической утраты смысла всей жизни и даже смерти.
Несмотря на то, что множество замечательных, выдающихся, гениальных людей уединяются и уходят в мир иной незаметно, их похороны иногда превращаются в грандиозные «шоу», незабываемые зрелища, а их смерть рассматривается как национальная трагедия. Например, похороны В.И. Ленина в 1924 г., И.В. Сталина в 1953 г.; похороны президента США Кеннеди; смерть и похороны принцессы Дианы; смерть бывшего премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер в 2013 году. Многие поэты, художники, актёры и даже учёные, став народными героями и любимцами ещё при жизни, оплакивались миллионами соотечественников (достаточно вспомнить смерть А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого, похороны Владимира Высоцкого).
Потери любимых учителей, религиозных деятелей, духовных лидеров выливаются во всенародные акции, отмечать даты которых становится традицией (например, распятие Христа и его предполагаемое воскрешение).
А.С. Пушкин когда-то отметил «безнравственность нашего любопытства. Трагизм и тайна, по возможности роковая, - вот что неодолимо нас влечёт», - об этом пишет Алла Сорокина, автор книги новелл о женских судьбах.
В любом случае, горе, скорбь утраты – удел, наверное, каждого. В своё время и по тому или иному поводу. Но в этом разделе более подробно я хочу рассмотреть проблему вдовства, хотя, несомненно, родительское горе вследствие смерти детей пережить ещё труднее (непосильным испытанием явилась, например, смерть сына для известной целительницы Джуны, которая сама умерла от горя в 2015 году). Смерть четырёхлетнего любимого внука Зигмунда Фрейда и сына его дочери Софии (она умерла ещё раньше) Хейнеле (от «туберкулёзного менингита»), наложилась на его собственную тяжёлую болезнь (рак) и вызвала сильное горе, привела к тяжёлой депрессии, которая сопровождала жизнь Фрейда постоянно. Он писал в письме друзьям по этому поводу: «Я продолжаю существовать словно по привычке; всё утратило для меня смысл». Как пишет его врач и автор биографического исследования Макс Шур, «впоследствии он неоднократно повторял, что эта трагедия что-то навсегда в нём убила, и он уже не был способен привязаться к кому-либо». Анализируя человеческие пути к счастью, Фрейд признавал, что «всякое удовлетворение будет следствием главного: любить и быть любимым», поэтому «никогда мы не бываем слабее и уязвимее перед страданиями, чем тогда, когда любим, и никогда не бываем столь безнадёжно несчастны, как утратив объект нашей любви или даже просто лишившись его любви».
Можно назвать множество пар, которые по-настоящему были всю жизнь счастливы, например, Пьер и Мария Кюри. Владимир Иванович Вернадский и его жена Наталья Егоровна прожили вместе 56 лет…
Среди счастливых пар немало людей творческих. Возможно, потому, что многие из них достигли известности, славы, или не стеснялись привлекать внимание к своей личной жизни, поэтому об их судьбе узнали многие. Творчество к тому же способствует интересу к жизни, к развитию, а на этом пути, как и на почве общего творчества, встреча «другого», себе подобного, наиболее вероятна. Некоторые из известных творческих пар жили вместе очень долго; есть и такие, которые умерли почти «в один день». Но, к сожалению, большинство счастливых пар всё же расстаются не только не по собственной воле, но и надолго по причине неожиданной смерти одного из супругов.
Классическим примером посмертной верности избраннику является пример Нины Грибоедовой-Чавчавадзе, которая после трагической гибели мужа, драматурга и дипломата Александра Грибоедова, осталась ему верна навсегда, так как знала, что не сможет испытать столь же сильных чувств к другому мужчине, какие она испытывала к Грибоедову. Её называли «чёрною розой Тифлиса» (статья И. Медового «Мы с тобой сошлись навек», газета «Трибуна», № 15, 2011 г.). Надев чёрное платье в 17 лет, она проносила его 28 лет. Умерла в 1857 году от холеры. «Ощущая дыхание болезни, она повторяла: «Погоди, скоро приду к тебе. Я исстрадалась без тебя. Мы скоро свидимся, свидимся…, и я расскажу тебе обо всём. И мы уже навеки будем вместе, вместе…» Как хорошо верить в посмертное существование и соединение с теми, кого любишь больше жизни!
Уникальна и трагична судьба Маргариты Михайловны Нарышкиной-Тучковой, основательницы Спасо-Бородинского монастыря. Она родилась в 1781 году и принадлежала к ветви рода, которая имела отношение к царскому дому. Она вышла замуж за Павла Ласунского. Он оказался приверженцем разврата и вина. Об этом пишет Алла Сорокина в своей книге «Знак судьбы». Маргарита встретила молодого генерал-майора Александра Александровича Тучкова, в любви к которому она нашла опору в жизни. Поскольку репутация Ласунского была всем известна, дело о разводе не встретило преград. Маргарита вернулась в родительский дом. Прошло четыре года после развода, и, несмотря на предыдущие отказы родных Маргариты, разрешение на брак было дано, так как страсть с обеих сторон не прошла. А. Сорокина пишет, что по дороге из церкви коляску с новобрачными остановил нищий старец, который, обращаясь к Маргарите, сказал: «Мария, возьми посох!». (Позднее, став монахиней Марией, Маргарита Тучкова, будучи уже слабой, ходила, опираясь на посох, полученный от старца). Став женой военного в 25 лет, изнеженная аристократка Маргарита сопровождала его в лишениях и походах. При наступлении Наполеона на Россию в 1812 году, полк Тучкова был направлен под Смоленск, а затем принял участие в Бородинской битве.
Маргарита Михайловна, недавно родив сына, должна была возвратиться к родителям. Накануне ей приснился вещий сон: она увидела стену, на которой были написаны сочащиеся кровью слова: «Твоя участь решится в Бородине». Проснувшись, она в ужасе начала твердить мужу, что его убьют при Бородине. Муж успокаивал её тем, что такого названия на карте нет, такое место, наверное, находится в Италии, поэтому её сон пустой. Несколько иначе содержание этого вещего сна излагается в статье Светланы Кайдаш «Вечная любовь Маргариты Тучковой» (журнал «Наука и религия», № 3, 1990 г.). «Война с Наполеоном ещё не началась. Полк мужа стоял в Минской губернии. Утром, когда у генерала Тучкова шло какое-то совещание, его жена в соседней комнате забылась недолгим и некрепким сном после бессонной ночи (у малыша резались зубки). Ей приснилось, что она в незнакомом городке и на стенах домов всюду надписи – Бородино. К ней входят отец и брат и говорят: «Муж твой пал со шпагой в руках на полях Бородина». И подают ей сына со словами: «Вот всё, что тебе осталось от твоего Александра!» Во сне от ужаса она закричала, муж вошёл к ней обеспокоенный и, выслушав её рассказ, приказал подать географическую карту. Они оба искали на карте городок Бородино, но не нашли его. Никто не знал этого названия. И она успокоилась: никакого Бородина нет и, значит, сон есть просто сон».
Тем не менее, сон сбылся! Под огнём французов во время Бородинской битвы, Тучков, чтобы остановить отступление солдат, закричал «Ребята, вперёд!» и, схватив знамя, ринулся вперёд. Силой взрыва ему оторвало руки и ноги, в клочья разметало его тело…Надо отметить, что в семье Тучковых трое сыновей погибли на Бородинском поле, четвёртый сын, Павел, тяжело раненый, был взят в плен.
Во второй половине октября, когда Наполеон уже покидал Москву, Маргарита, теперь уже убитая горем вдова генерала Тучкова, в сопровождении монаха из Можайского Лужецкого монастыря, среди трупов Бородинского поля пыталась отыскать останки мужа (генерал Коновницын примерно указал место его гибели). На свои сбережения и на 10 тысяч рублей, пожертвованных императором Александром Первым, она поставила часовню на месте среднего редута Семёновской батареи, посвятив её Нерукотворному образу Спасителя, полковой иконе Ревельского пехотного полка, доставшейся ей от мужа. Церковь была заложена и освящена в 1818 году. Как пишет А. Сорокина, место было выбрано очень точно. Позднее, когда во время существования Спасо-Бородинского монастыря, первой игуменьей которого стала Маргарита Михайловна (после смерти в возрасте 15 лет единственного сына она навсегда решила поселиться возле дорогих её сердцу могил), одной монахине перед смертью (та хотела, чтобы её похоронили у задней стены храма) приснился Александр Тучков, который сказал: «Не тебе здесь лежать, а мне…». На месте, указанном монахиней, начали копать землю, и нашли шпагу и эполету, принадлежавшие А.А. Тучкову.
Маргарита Тучкова, встретив на Бородинском поле бедного старика, потерявшего там двух сыновей, пригласила его остаться с нею. Так было положено начало устройству богадельни для инвалидов войны 1812 года.
В статье Светланы Кайдаш «Вечная любовь Маргариты Тучковой» сообщается о том, как однажды Маргарита приехала в Москву и отправилась навестить митрополита Московского Филарета. Ей пришлось ждать, пока он принимал женщину с тремя юношами. «Вот тоже бородинская вдова», - сказал Филарет Тучковой, распрощавшись с посетительницей. «Но у неё остались три сына, а у меня отнято всё!» - воскликнула Тучкова. «Значит, она была смиреннее вас», - ответил ей митрополит». Тучкова обиделась на эти слова, уехала домой и заперлась. Через некоторое время митрополит Филарет приехал и попросил у неё прощение. После этого они стали близкими друзьями.
Прожив 20 лет в монашестве, вначале инокиней Меланьей, а с 1838 года, - игуменьей Марией, она скончалась тихо, и последние её слова были: «Дайте мне видеть свет, отпустите меня…». (Об этом пишет историк А. Смирнова, директор Музея декабристов в Москве, в статье «Вечная любовь Маргариты Тучковой» в журнале «Наука и религия», № 8, 1990 г.).
Олицетворением женского идеала верной и страстной любви была Александрина Муравьёва, жена декабриста Никиты Муравьёва. Их связывала сильная любовь. Александрина Муравьёва была очень религиозна, но признавалась, что Никитушку она любит больше, чем Бога. «Никита Муравьёв стал седым в тридцать шесть лет – в день смерти жены», - пишет в книге «В добровольном изгнании» Э.А. Павлюченко. Через два месяца после смерти А.Г. Муравьёвой 22 ноября 1832 года из Петербурга пришло разрешение жёнам декабристов ежедневно видеться с мужьями у себя дома, а не жить в казематах. Затем все мужчины ежедневно по нескольку человек начали выходить из тюрьмы, а в 1832 году в связи с рождением великого князя Михаила 20-летний срок каторги сокращался до 15 лет, 15-летний – до десяти лет, осуждённые на 8 лет каторги отправлялись на поселение.
Множество эмоциональных описаний счастливой семейной жизни и тяжёлого вдовства можно найти в книге Виталия Вульфа «Великие женщины ХХ века». Вдовец известной актрисы кино прошлого, Веры Холодной (умерла 16 (3) февраля 1919 года), пережил жену на два месяца – умер от тифа и тоски. Кстати, она в своё время выходила его, поручика, после тяжёлого ранения на фронте под Варшавой. Когда он находился при смерти, она бросила работу, детей, приехала в госпиталь и вытащила его с того света.
Вдовец другой очень известной актрисы, балерины Анны Павловой, - Виктор Дандре (он был также её импресарио), после её смерти в 1931 году свою жизнь посвятил её памяти: написал книгу мемуаров и создал клуб её поклонников. Умер он в 1944 году.
Актриса МХАТа Ольга Леонардовна Книппер стала женой одного из самых тонких и ироничных интеллигентов России, писателя Антона Павловича Чехова, 25 мая 1901 года. Ещё до женитьбы он писал ей: «…я не знаю, что сказать тебе, кроме одного, что я уже говорил тебе 10 000 раз и буду говорить, вероятно, ещё долго, то есть, что я тебя люблю – и больше ничего. Если теперь мы не вместе, то виноваты в этом не я и не ты, а бес, вложивший в меня бацилл, а в тебя любовь к искусству». По мнению толпы О.Л. Книппер-Чехова не годилась в жёны великому писателю – ни блеска, ни особенной красоты, ни самопожертвования, но просто жена и домохозяйка Чехову была не нужна.
Мы знаем, что духовный мир А.П. Чехова был очень сложным и противоречивым. Не зря свои, на первый взгляд простые пьесы, он называл «комедиями». Наверное, они, скорее, «трагикомедии», как и сама жизнь, которую Чехов в письме к Книппер сравнил с морковкой, так как о том и другом сказать больше нечего (?). Нет Бога или он есть, есть смысл жизни или его нет, - вот, наверное, суть его открытий. Наверное, в этом подходе есть предельная честность и открытость логике самой жизни, которая свойственна Чехову-врачу и Чехову-писателю, глубочайшему философу жизни. В отношении брака он как-то отметил в записной книжке: «Он и она поженились, и были несчастливы». После его смерти в 1904 году вдова продолжала писать мёртвому Чехову письма, в которых рассказывала, как пытается жить без него, как всюду видится ей его образ, как преследуют её воспоминания. «Свет и правду» их отношений она сохранила на всю жизнь, умерла на 91-м году жизни, в 1959 году.
Другая известная актриса МХАТа, Ангелина Иосифовна Степанова, овдовев после самоубийства известного мужа, писателя Александра Фадеева (он застрелился на даче 13 мая 1956 года), нашла слабое утешение в театре, но последние годы жизни посвятила семье. Умерла она 17 мая 2000 года во сне.
После смерти Любови Орловой, её известный супруг и режиссёр Александров, остался совсем один. У него была болезнь Альцгеймера. После смерти единственного сына от первого брака, Дугласа, Александров женился на его вдове. После его смерти архив знаменитых людей был выброшен на помойку.
После смерти обожавшего её супруга, Николая Рыбникова (умер во сне 22 октября 1990 года), яркая звезда экрана Алла Ларионова оказалась в пустоте. Она играла в театре, выступала с концертами; умерла также во сне 24 апреля 2000 года.
Вдова гениального А.С. Пушкина, Наталья Николаевна Гончарова, признавалась после его смерти: «Ничто не может заполнить пустоту, которую оставляет любовь». Через 2 года, как и советовал ей Пушкин перед смертью, она вышла замуж за генерал-майора Петра Петровича Ланского, родила от него троих детей, умерла 26 ноября 1863 года в возрасте 51 года. В браке с Ланским она нашла женское счастье. Муж пережил её на 14 лет и каждый вечер говорил: «Одним днём ещё ближе к моей драгоценной Наташе!».
Муза и жена величайшего поэта, Александра Блока, Любовь Дмитриевна Менделеева, несмотря на сложные перипетии совместной жизни, осталась вдовой поэта, преподавала историю балета, умерла в 1939 году.
После смерти (в 1982 году) Гала (настоящее её имя – Елена Дьяконова) известнейший художник Сальватор Дали, чтобы быть ближе к ней, переехал в замок Пубол, где была часовня с её могилой, и умер в одиночестве от тоски. (А ведь они часто ссорились, он даже бил её!).
Мы уже писали о вдовце-декабристе Сергее Волконском, который после смерти жены быстро угас, хотя их отношения не были идеальными. Декабрист Иван Александрович Анненков, прожив с женой Прасковьей Егоровной Анненковой (урождённой Полиной Гебль) с 4 апреля 1828 года (дата их свадьбы в Сибири) по 4 сентября 1876 года (дата её смерти во сне), как вспоминает их внучка, Мария Брызгалова, «… впал в болезненное состояние…». Скончался он через год и четыре месяца после её смерти и был похоронен в Нижегородском Крестовоздвиженском монастыре, рядом со своей женой, которая до самой смерти не снимала браслета и нательного крестика, отлитого Бестужевым из кандалов мужа (статья Ильи Медведева «Всецело жертвую собой», газета «Трибуна», 11-16 марта 2011 г.). У них родилось 18 детей, из которых 12 умерли.
После внезапной смерти Инессы Арманд в 1920 году В.И. Ленин не мог оправиться. В. Вульф пишет: «Ленин плёлся за её гробом, опираясь на руку Надежды Константиновны…По воспоминаниям Александры Коллонтай, «Ленина невозможно было узнать. Он шёл с закрытыми глазами, и казалось – вот-вот упадёт». Яркая, образованная, истинно идейная женщина, Инесса Арманд, конечно, не могла оставить Ленина равнодушным. Видимо, и он покорил её своей верой, интеллектом и энергией. После её смерти Н.К. Крупская принимала участие в судьбе её детей.
Анализируя личность Инессы Арманд и Крупской, их отношения к Ленину, Лариса Васильева в своей проникновенной книге «Кремлёвские жёны» подчёркивает, что во время похорон Инессы Арманд «Крупская поддерживала Ленина, а не Ленин – Крупскую. Это было ЕГО горе. Не ЕЁ». Далее Лариса Васильева развивает тему скорби Ильича: «Революционерка Анжелика Балабанова, бывшая в то время секретарём Третьего Интернационала, описала Ленина в день похорон Инессы: «Не только лицо Ленина, весь его облик выражал такую печаль, что никто даже не осмеливался кивнуть ему. Было ясно, что он хотел побыть наедине со своим горем. Он казался меньше ростом, лицо его было прикрыто кепкой, глаза, казалось, исчезли в болезненно сдерживаемых слезах. Всякий раз, как движение толпы напирало на нашу группу, он не оказывал никакого сопротивления толчкам, как будто был благодарен за то, что мог вплотную приблизиться к гробу».
Поскольку меня интересует, прежде всего, тема вдовства, не стану в этой книге заниматься ни анализом личности того или иного исторического или современного персонажа, ни вдаваться в оттенки их любовных отношений… Буду анализировать лишь связанные с вдовством переживания, состояния и пути их преодоления.
Ныне демонизируемый и, конечно, неоднозначный, но интересный каждому персонаж, - Иосиф Сталин. Он – дважды вдовец. Первой его женой была грузинка Екатерина Сванидзе. У них был сын – Яков, который погиб в годы Великой Отечественной войны в концентрационном лагере. По легенде, Сталин отказался его обменять на немецкого фельдмаршала. Лариса Васильева пишет: «Иосиф Иремашвили в уникальных воспоминаниях о молодых годах Сталина приводит его слова, сказанные на похоронах первой жены: «Это существо смягчило моё каменное сердце; она умерла – и вместе с ней последние тёплые чувства к людям».
Редко кто из скорбящих вдовцов не проходил после смерти любимого человека фазу глубочайшего отвращения к жизни и к людям, не стремился абсолютно уединиться, уйти в себя или даже из жизни навсегда! Хотя бы в сфере чувств!
Мы знаем, что мать Сталина, даже тогда, когда он стал хозяином Кремля, советовала жениться ему на простой грузинской девушке, которая была бы ему верной и покорной женой (невольно на память приходит пример Берии, который был женат на грузинке). Но стечение обстоятельств, специфика революционной и государственной деятельности связали жизнь Сталина и дочери профессионального революционера, Надежды Аллилуевой. Скорее всего, какое-то время между ними были сентиментальные чувства (Сталин был способен на них, что подтверждают его отношения к дочери Светлане). Но Надежда была гордой, самостоятельной и критической натурой. Она нашла свою, наверное, слишком радикальную форму протеста, – самоубийство. И, хотя существуют многочисленные версии её смерти, включая убийство другими лицами и даже самим Сталиным, я им не доверяю. Кроме того, даже другая версия её смерти не исключает искренней скорби Сталина. Лариса Васильева убеждена: «Он откровенно оплакивал её. И себя. Все окружающие описывали его страдания.
Искал причину её смерти в дурных влияниях других людей.
В себе искал – не уделял внимания, не водил в кино.
Возмущался – как могла она оставить его в такую тяжёлую минуту. Он как раз начинал свои расправы с «врагами народа».
Возмущался – оставила ему детей, зная, что он не может уделять им много внимания. Хотела наказать его? Наказала?
Больше не женился». Другие комментарии, как мне кажется, излишни! Хотя Лариса Васильева, сравнивая преданность Крупской Ленину и жены Сталина, Надежды Аллилуевой, отмечает: «Можно ли представить себе рядом со Сталиным женщину, подобную Крупской? Пожалуй, если омолодить и окрасить её, можно.
Что из этого следует? Да то, что мужской властвующий мир не терпит рядом с собой женского «Я», не сливающегося с ним. И убирает его, то ли своей рукой, то ли её собственной. Как получится…
Не долгая жизнь с иллюзиями цели, а ранняя смерть без иллюзий о великих целях». Мне представляется, что это не совсем так: как мужчины, так и женщины бывают очень разные.
С.Ю. Рыбас в биографии «Сталин» отмечает, что самоубийство жены Сталина, - своего рода, «метафизическое явление», так как оно явилось результатом целой суммы обстоятельств, самым главным из которых, наверное, было то, что «революция закончилась» (Надежда Аллилуева была ярким представителем убеждённых революционерок молодого поколения). Стране предстояли большие перемены. С.Ю. Рыбас пишет о Сталине: «Его охранник в своих безыскусных воспоминания дал важное свидетельство: «Сталин ещё долго по ночам ездил к могиле. Бывало, заходил в беседку и задумчиво курил трубку за трубкой…». Близость к власти, её наличие в самых разных формах никогда не спасали от трагедий неразделённой любви, личных потерь, включая вдовство. Такова судьба вдовы Императора России Александра Ш, датской принцессы Дагмар, Императрицы Марии Фёдоровны, которая должна была выйти замуж по любви за брата Александра и наследника, Николая Александровича. Но он неожиданно умер, оставив 18-летнюю почти вдову. Перед смертью он успел благословить союз брата и невесты. 20 октября 1894 года император Александр Ш умер на руках у Марии Фёдоровны. Как пишет в своей книге «Великие женщины ХХ века» Виталий Вульф, «Мария Фёдоровна была убита горем. Она была даже не в состоянии разговаривать».
Наверное, ещё более драматична судьба другой, высокопоставленной особы, сестры императрицы Александры Фёдоровны и жены Великого князя Сергея Александровича, Елизаветы Фёдоровны. Её мужа убил террорист Каляев 6 января 1905 года. Она не только нашла в себе силу свидеться с ним в тюрьме, чтобы вразумить и простить, но и приняла монашеский постриг, возвела Мариинскую обитель. Смиренно приняла свою тяжкую смерть от рук большевиков.
Облечённые властью люди, как и простые граждане, способны ради любви на многое. Ради своей любви к американке Уоллис Симпсон король Великобритании Эдуард УП отрёкся от престола. На десятую годовщину свадьбы Эдуард заявил: «Прошли десять лет, но не любовь». Он умер в 1972 году от рака горла. Она пережила его на 14 лет, потеряв всякий интерес к жизни, никого не принимая и не выходя из дома. Последние 8 лет она пролежала в глубоком параличе.
Несравненная Эдит Пиаф после неожиданной гибели любимого человека, известного боксёра Марселя Сердана, чуть не сошла с ума. Она разрушала себя алкоголем, морфием; перенесла несколько операций, много лечилась и попала в четыре автомобильные катастрофы. Пыталась покончить жизнь самоубийством. В 47 лет Эдит Пиаф вышла замуж за Тео Сарапо, который был моложе её на 20 лет. Он нежно ухаживал за ней; после её смерти в 1963 году прожил 7 лет и погиб в автомобильной катастрофе. Его похоронили в её могиле.
Божественная Мария Калласс была фактически раздавлена, когда её любимый Аристотель Онассис 20 октября 1968 года женился на вдове американского президента Жаклин Бувье-Кеннеди. Она так мечтала выйти за него замуж! Калласс потеряла голос, перестала петь, отдалилась от людей. Онассис вскоре разочаровался в Жаклин и вернулся к Марии Калласс, так как ему не хватало её бескорыстной, самоотверженной любви. После того, как в авиакатастрофе погиб его сын, Аристотель не хотел уже жить и умер 15 марта 1975 года. Как пишет В. Вульф, в сентябре 1977 года, Мария Калласс посетила могилу Онассиса на острове Скорпио, а в самолёте сказала секретарю Онассиса, Кики Мутсатосу: «Вы знаете, у нас с Арни ничего не было в этом мире, кроме друг друга. Я всю жизнь пишу ему письма…» И после долгой паузы добавила: «Ничего. Осталось недолго. Скоро мы встретимся». Она умерла 16 сентября 1977 года от сердечного приступа. Как всё же хорошо верить в загробную жизнь и надеяться на обязательную встречу с любимым!
Тяжёлое вдовство с трудом пережила известная актриса и телеведущая передачи «Давай поженимся» Лариса Гузеева. (Свою женскую душа она приоткрыла в интервью Оксане Пушкиной). Её любимый муж Илья (они встретились на съёмках фильма, на котором он был ассистентом режиссёра) умер от передозировки наркотика – его нашли в Шуваловском парке (прожили вместе они 8 лет). Илья любил её «безусловной» и искренней любовью, которая встречается не часто, поэтому Лариса с трудом пережила потерю: «Я себя не помню в те дни, сразу после того, как узнала, что он умер… И до сих пор чувствую его присутствие и опеку. По сей день! Мне очень тяжело, потому что сравниваю с ним всех мужчин, которые окружают меня. Все жадные, злобные, не щедрые душевно. Вот Илья умел любить!». Лариса с горя чуть не спилась, но вовремя взяла себя в руки.
Почти 20 лет прожила певица Елена Образцова с мужем, дирижёром Альгисом Жюрайтисом, но в 1998 году он умер от рака. После его смерти Елена Образцова не могла войти в их квартиру, находиться там, где всё напоминало ей о любимом человеке. Но она нашла в себе силу петь: гастролировала по всему миру, чтобы не быть дома… Спасло её, как видим, творчество и работа над собой. В 2015 году она также покинула этот мир.
Известный артист театра имени В.В. Маяковского, Михаил Филиппов, похоронив любимую жену, удивительную женщину и чудесную актрису, Наталью Гундареву, смерть которой оплакивала громадная толпа поклонников, продолжил воспевать её в стихах и мемуарах.
Евгений Максимович Примаков, успешно возглавлявший Правительство РФ в период очередного кризиса, с трудом пережив смерть сына, через шесть лет, в 1986 году, внезапно потерял любимую жену Лауру. В интервью Оксане Пушкиной он признавался: «Лаура до сих пор мне снится. Я постоянно её ревную к кому-то, хотя в жизни она никогда не давала мне поводов для подобных волнений. Под утро мне иногда не хочется просыпаться, потому что я хочу как можно дольше побыть с ней…».
Но Е.М. Примакову повезло. Он встретил женщину, врача по профессии, Ирину, которая не только стала ему верной подругой, женой и хозяйкой в доме, но и чтила память его Лауры. «Я вообще считаю, что если мужчина способен ради любимой перечеркнуть жизнь с предыдущей женщиной, то это вовсе не мужчина», - говорил он. Примаков честно признаётся в интервью Оксане Пушкиной, что «для мужчины важны три жизненных момента: работа, друзья и семья. В любой последовательности можно это перечислить, но исключи хоть одно из этих трёх понятий, и мужик перестаёт быть мужиком. Он прокисает. У него подсекаются колени. И в этом меня убедила собственная жизнь…». 26 июня 2015 года Е.М. Примаков умер; вдовой осталась его вторая жена. Приведу также пример с известным кинорежиссёром Эльдаром Рязановым. Он искренне любил свою первую жену Нину и был счастлив с ней. В стихотворении, посвящённом ей, он признаётся, что она для него – не только любимая жена, мать его детей, но и мать ему самому, а также – верный друг. Понятно, что этот человек не только был по-настоящему любим, но и сам умел любить преданно. И это свойство он не утратил после смерти жены. Наверное, поэтому сумел найти личное счастье с другой женщиной, своей второй женой Эммой…
Муслим Магомаев, звезда советской эстрады, умер осенью 2008 года. Ему было 66 лет. Осталась вдова с несравненным голосом, Тамара Синявская, которая до сих пор не может смотреть записи его песен, хотя и организовала конкурс певцов имени Муслима Магамаева, участвует в жюри других конкурсов, проводит на телевидении показательные мастер-классы.
Галина Вишневская, потеряв Мстислава Ростроповича, нашла в себе силу не только жить, но и возрождать музыкальную культуру России. Она умерла в 2012 году, похоронена рядом с мужем на Новодевичьем кладбище.
А.К. Трубицын в книге «Умереть любимой», с редкой откровенностью и нежностью поведал о любви к жене, известной журналистке, умершей в 2004 году от рака лёгких, Жанне Касьяненко. Он до сих пор работает во фракции КПРФ в Государственной Думе. А вот кинорежиссёр Владимир Мотыль, постановщик нестареющего фильма «Белое солнце пустыни» и «Звезда пленительного счастья», скончался вскоре после смерти своей жены, Людмилы, которая была его верной подругой и поддержкой всю жизнь.
Свои чувства и сны о муже после его потери я описала в двух книгах: В.П. Грибашёв, Н.И. Шелейкова «Что такое «Спектральная логика» и «Спектроглобус Грибашёва» и Н.И. Шелейкова «Диалоги на вечные темы».
В первой книге я подробно писала о жизни с ним, описала историю его болезни (он жил в парализованном состоянии 6,5 лет) и смерти. Повторяться ну буду! На протяжении более шести лет после его смерти в 2008 году хотелось снова и снова вспоминать и рассказывать об этом, самом счастливом и одновременно трудном периоде своей жизни! Приведу лишь один отрывок из Приложения 3 этой книги: «В 1997 году я продавала свой дом в г. Торопце Тверской области и Валентин впервые (с 1992 года, когда мы поженились) отказался туда ехать для уже непосильной физической работы на огороде и созидания нашего общего «гнезда» (за это мы взялись с энтузиазмом). Я, расставшись с ним более чем на месяц, почувствовала себя, как и до встречи с ним, затерянной в этом мире, поэтому писала ему письма каждый день. Он же, оставшись в посёлке Поваровка, без меня не мог ничего делать. Он не читал умные книги из нашей большой библиотеки, не занимался интерпретацией «Спектральной логики». Он брал детективы и «фэнтази» у соседа по квартире, врача Саши, иногда выпивал, почти не выходил из дома и написал мне лишь два письма, в которых повторялась одна фраза: «Тоскливо без тебя. Пустота Вселенская». И еще: «Всё время думаю только о тебе. Ты – моя единственная привязка к Земле – всё остальное чепуха, пустое».
Вот именно эти его слова: «Тоскливо без тебя. Пустота Вселенская», - я и решила выбить на его могильной плите. Думать о жизни без него не хотелось, ничто более шести последующих лет не имело тогда для меня значения. Жила лишь по привычке… В своей второй книге (в диалоге «Телефонный звонок с того света. Воображаемый диалог жены с покойным мужем», а также – в диалогах о любви и счастье-несчастье) я описала редкие сновидения, в которых общалась с мужем, проанализировала скорбную участь вдов и вдовцов. Недаром звезда балета Владимир Васильев признался, что он отдал бы всё, чтобы его Катя (Екатерина Максимова) перед ним появилась!
После почти 40-летней совместной жизни с журналистом Юрием Зерчяниновым овдовела известная комическая актриса Клара Борисовна Новикова. Известие о его смерти пришло к ней во время гастролей на Дальнем Востоке, которые она не прервала, так как была убеждена, что муж её в этом случае не поймёт: ведь у него было громадное чувство юмора. Она слетала на его проводы, которые были очень светлыми, и вернулась во Владивосток, хотя находилась в прострации и не могла поверить в происшедшее.
Известная писательница Лариса Рубальская после смерти мужа Давида Розенблата не скрывала, что часто плачет по нему. В своём интервью журналу «Тет-а-тет» она утверждает: «У японцев есть мудрая пословица «Каждая встреча – начало разлуки». Это действительно так. И часто эти разлуки бывают очень болезненными. Но даже если рубцы в душе остаются, со временем они заживают, перестают болеть. И об этом всегда надо помнить».
Вдова писателя Александра Исаевича Солженицына и мать их троих сыновей, Наталья Солженицына, успешно продолжает дело мужа, организовав фонд в поддержку талантливых писателей, жертв ГУЛАГа. Она ездит по всему миру с лекциями, даёт интервью СМИ, занимается обширной просветительской и общественно-политической деятельностью. На её примере видно, что за любовь расплачиваются не только страданиями и болью утрат. Посмертное воздаяние, даже слава за верное служение любимому известному человеку также иногда встречается.
В 2012 году не перенесла трагедию расставания жена известного артиста Александра Пороховщикова, Ирина Пороховщикова. Она повесилась, оставив записку, что не может жить без него. Не будем осуждать тех, кому мы не пришли на помощь в нужное время! Да и можно ли было помочь им обрести иной, пусть даже божественный, смысл жизни после потери самого близкого и родного существа на свете?
Несмотря на все эти описания скорбного вдовства, даже в русском фольклоре можно найти взгляды на семейную жизнь, брак с разных, иногда резко противоположных, точек зрения. Вот мнения из сборника пословиц В. Даля о том, что лучше: жениться или не жениться? «Без мужа, что без головы; без жены, что без ума». – «Женился, да сам себе подивился, что ни Богу, ни людям не сгодился». Но при этом для хорошего брака даже плохие качества партнёра вовсе не помеха: «Худ мой Устим, да лучше с ним». – «У умного мужа и глупая жена досужа». Хотя не всегда и «стерпится – слюбится!»: «Всякому мужу своя жена милее. Своя жена – своя и краса». - «Чужая жена – лебёдушка, а своя – полынь горькая». То есть в жизни бывает по-разному!
Русский фольклор отмечает не только различную степень совместимости супругов, но и различное отношение к потере супруга в результате смерти: «Муж да жена – одна душа. Муж да жена – одна сатана». «Где муж, там и жена». «Жить вместе и умереть вместе». – «Вместе тесно, а розно тошно. Семерым просторно, а двоим тесно». То есть: «Одному с женою радость, другому горе». «Красные похороны, когда муж жену хоронит». – «Не дай Бог, вдоветь и гореть!» «Худой муж в могилу – добрая жена по дворам». Или: «Вдовье дело горькое», «Вдовье сиротское дело. Сирая вдова – круглая сирота».
Для женской любви, переживаний личных потерь в средние века в Китае и Японии был особенно характерен мотив покорности судьбе и утончённость душевной скорби, страдания. Приведу цитату из книги японской придворной дамы Х-Х1 века Сэй-Сёнагон «Записки у изголовья»: «Мне нравится, если дом, где женщина живёт в одиночестве, имеет ветхий, заброшенный вид. Пусть обвалится ограда. Пусть водяные травы заглушат пруд, сад зарастёт полынью… Сколько в этом печали и сколько красоты! Мне претит дом, где одинокая женщина с видом опытной хозяйки хлопочет о том, чтобы всё починить и поправить, где ограда крепка и ворота на запоре!».
Ей вторит известная китайская поэтесса Х1 века Ли Цин Чжао:
«Где же тот, кто лишил меня сна?...
Поросло всё высокой травой,
И дорога ему домой
В гуще зелени не видна», - в этих строках горечь неразделённой любви, тоска по ушедшей молодости и желание слиться с природой.
Если посмотреть на соотношение графиков рождаемости и смертности населения России, представленных в монографии «Белая книга. Экономические реформы в России 1991-2001 г.», то после 1990 года мы обнаружим на рисунке «русский крест», то есть рождаемость резко снижается, а смертность растёт (особенно – у трудоспособного населения). При этом рост смертности сопровождался значительным сокращением средней продолжительности жизни. В 1986-87 гг. она составляла в РСФСР 70,13 года (у мужчин – 64,91, у женщин – 74,55). В 1994 году этот показатель составлял 63,98 (57, 59 – у мужчин и 71, 18 - у женщин). За 1992-2006 гг. численность населения России сократилось на 5,95 миллионов человек. Если в 2007 году Россия по численности населения занимала 9-е место в мире, то к 2050 году, по некоторым прогнозам, она скатится на 17-е.
Авторы «Ежегодного доклада Академии прогнозирования Российского отделения Международной академии будущего «Россия и мир: взгляд из 2017 года» отмечают, что в современной России средняя продолжительность жизни мужчин не превышает 59 лет. По этому показателю наша страна находится на 119 месте в мире. Средняя же продолжительность жизни российских женщин – 72 года (85-е место в мире).
По статистическим данным ООН 2012 года (газета «Правда», январь 2013 г.) по средней продолжительности жизни мы на 111 месте в мире, на 1 месте по абсолютной убыли населения и на 134 месте - по продолжительности жизни мужчин. 1 место мы занимаем также по числу самоубийств среди пожилых людей, а также – детей и подростков, 1 место по числу психических заболеваний, числу абортов и количеству разводов.
По расчётам Центра демографии и экологии человека Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, традиционное соотношение мужчин и женщин в России не в пользу первых – 2,5 к 5. К 2015 году это соотношение составило 2,5 к 6. Потери здоровых мужчин в нашей экономике можно сравнить с потерями в Великой Отечественной войне. Из 20 миллионов мужчин трудоспособного возраста примерно 1 миллион находится в заключении, 4 миллиона – хронические алкоголики, более 1 миллиона – наркоманы. Трудятся, то есть являются кормильцами семьи, всего 14 миллионов мужчин. В 2007 году из всех умерших граждан 30% составили мужчины трудоспособного возраста.
И хотя «на женскую половину населения падает две трети всего рабочего времени и лишь одна десятая мировой заработной платы; а на долю женщин приходится в мире только сотая часть имущественного состояния, то есть модель нашего общества патриархальна, в мире господствует мужчина», в России средняя продолжительность жизни мужчин на 13 лет меньше, чем у женщин. И это свидетельствует об их большем неблагополучии, несмотря на верность традициям патриархата! Значит, быть отцом и кормильцем в современном российском обществе – дело нелёгкое, а иногда – непосильное! И в этих условиях Правительство РФ в 2018 году затевает так называемую «пенсионную реформу» с целью увеличения возраста выхода на пенсию! Вместо того чтобы создавать молодым и старым дополнительные рабочие места и ввести прогрессивную шкалу налогообложения богатых людей, как сделано во всей Европе.
У некоторых женщин иногда напрашивается самый простой ответ: мужчины сами виноваты, что они живут меньше женщин. Ведь среди них много пьяниц, большинство из них – курящие; многие мужчины ведут нездоровый и менее активный образ жизни, чем женщины, которые больше заняты домашним хозяйством и проблемами семьи. Распространён взгляд, что мужчинам жить легче, чем женщинам. В нашей стране, как и в мире в целом, существует устойчивый миф о муже-кормильце, хотя в истории немало примеров, когда гениальные учёные, художники, писатели, политические деятели не могли не только обеспечивать семью, но и жили за счёт других и, прежде всего, женщин! В.И. Ленин, например, жил некоторое время на пенсию матери, Бернард Шоу – на средства семьи.
Р. Моуди и Д. Аркэнджел в книге «Жизнь после утраты» отмечают, что «после кончины одного из супругов вдовами и вдовцами овладевает ощущение утраты прошлого, настоящего и будущего одновременно; жизнь их прекращает свой ход». Способность восстанавливать душевное равновесие – привилегия юности и то «при наличии должной поддержки». Способность к адаптации уменьшается по мере накопления стрессов.
При потере близкого человека, если вера в смысл собственного существования подорвана таким кризисом, как считает основатель «логотерапии» (лечение поиском смысла жизни) В. Франкл, человек не в состоянии собрать жизненные силы для противостояния ударам судьбы. А вот для человека религиозного или верящего в Провидение вопроса о смысле жизни и вселенной не возникает. Для него смысл всегда есть, то есть «вера в сверхсмысл – как в метафизической концепции, так и в религиозном смысле Провидения – имеет огромное психотерапевтическое и психогигиеническое значение. Подобно истинной вере, основанной на внутренней силе, такая вера делает человека гораздо более жизнеспособным».
Мы знаем, что православная традиция (как, наверное, почти любая другая, основанная на религиозной вере) по принципу «Не сотвори себе кумира» предписывает не предаваться долгой и большой скорби при потере даже самого близкого человека. (Это правило, кстати, на мой взгляд, восходит к «спектральной» природе человека). Но эта, казалось бы, очевидная истина, в трагический час воспринимается, в лучшем случае, умом, так как чувства уму не всегда подвластны! Поэтому безутешная вдова или мать, потерявшая единственного сына, не услышит слов утешения. Она даже отринет их гневно, может предаться богохульству, начать неистовствовать в своём проявлении горя. Часто возникают тяжёлые состояния депрессии, зависти и недоброжелательства к окружающим, отвращение и осуждение к простым, естественным проявлениям жизни. Чужая радость, семейное благополучие воспринимаются, в лучшем случае, с умилением и сожалением, с болью и скорбью по собственному утраченному счастью. Иногда они настолько не сообразуются с внутренним миром страдающего человека, что кажутся кощунством, жутким диссонансом, лживым противостоянием всеобщей вселенской тоске, в которой пребывает теперь весь мир, всё человечество! Человек словно захвачен, порабощён скорбью, его внутренний мир замкнулся, сжался до точки. Душа нестерпимо болит, как открытая рана, и плачет. Временами хочется кричать и звать на помощь…
Погружение в одиночное существование после счастливого парного оказывается в некоторых случаях хуже тюрьмы и смерти. Утешение после развода или смерти партнёра приходит очень нескоро. Я где-то читала результаты опроса: в США, после смерти партнёра, вдовцы и вдовы начинают искать замену чуть ли ни сразу (через 2-3 недели), в России – лишь через 8 лет!
Cильная любовь, привязанность (в том числе, и к духовным учителям, идеалам) - это своеобразный «наркотик», как и нормальное, успешное «парное существование». Научные исследования подтверждают, что период длительной привязанности изменяет биохимический состав организма любящих друг друга людей. В головном мозге начинает вырабатываться эндорфин – натуральное болеутоляющее средство, вызывающее у человека чувство безопасности, спокойствия и умиротворения. А во время объятий, прикосновения и физической близости выделяется вещество окситоцин… Происходят изменения и на уровне физиологии мозга. Американский психиатр Норман Дойдж в книге «Пластичность мозга» связывает любовь не только с выработкой организмом определённых химических веществ, но и с изменением «карты мозга», в котором происходит закрепление определённых связей, активизируются центры удовольствия и тормозятся центры боли и отвращения.
Зато, как тяжело бывает утратить собственную доброкачественную химическую фабрику! Ведь организм, как и мозг, не только перестаёт самостоятельно производить те или иные химические вещества и состояния сознания, но и связывает их жёстко с теми или иными событиями и отдельным человеком. Поэтому некоторые люди воспринимают любовь как потерю индивидуальности…
Если одна из сторон уходит безвременно в мир иной, то даже православная традиция разрешает в этом случае повторный брак, так как он не является изменой чувству первому. Ведь другого человека и любят по-другому. Как указывает З.Фрейд и У. Буллит на примере психологического исследования биографии 28-го Президента США Вильсона, мужчина, бывший счастливым в браке, склонен снова в него вступать после смерти жены, – тем более, если в жене он видит замену матери. Вспомните рассказ А.П. Чехова «Душечка», в котором героиня, овдовев в очередной раз, вновь обретает смысл жизни в служении другому мужу. И хотя Чехов отчасти иронизирует по этому поводу, Душечка, по сути, - идеальная жена. В подобной ситуации человек имеет ограниченную свободу выбора: предаваться скорби в одиночестве; покончить жизнь самоубийством; либо попытаться скрасить и облегчить жизнь себе и другому, если нужный человек найдётся.
Кстати, горечь потери, невосполнимость утраты можно испытывать и при смерти, гибели любимых домашних питомцев: кошек, собак, лошадей, птиц и даже экзотических животных. И в этом нет ничего постыдного, хотя некоторые психологи скажут, что сильная привязанность к животным – ненормальность, и, как правило, она – форма переноса чувств к другому человеку, проявление невозможности удовлетворить свою привязанность на должном уровне. Религия также ставит животных ниже человека, хотя некоторые православные старцы и даже святые животных, птиц обожали. Поэтому мне кажется, что любовь к животным, жалость к ним – это нормально, так как она свидетельствует о высокой нравственности человека, его бескорыстии.
Я задаюсь невольно вопросом: что страшнее: смерть любимого человека, потеря объекта любви или смерть самой любви? К тому же: «Иметь и потерять – это не то же самое, что никогда не иметь», - так сказала мне одна мудрая вдова, Людмила Тимофеевна Каспарьянц.
С одной стороны, даже короткое, но полностью удовлетворяющее человека обладание чем-то, позволяет реализовать ему некий запрос, потребность. Например, потребность в любви к партнёру, потребность в материнстве или в родительской опеке. «Реализованный», удовлетворённый в том или ином проявлении человек отличается в корне он «нереализованного», неудовлетворённого, так как он, как правило, более спокойный, умудрённый опытом. Например, если у человека было благополучное детство, он рос в полной семье, его любили родители, дали ему всё, что было необходимо для его развития, то, даже потеряв их, пережив период скорби от утраты, он сохранит в глубинах своей памяти, бессознательного, счастливый опыт своего детства. То есть он не потеряет навечно состояние счастливого детства, которое навсегда останется с ним. Ребёнок, никогда не знавший родителей и полноты их любви, обладает совсем иным опытом. В лучшем случае это станет подталкивать его к некоторым действиям для компенсации недополученного семейного тепла; в худшем, он станет разрушителем и носителем негативного опыта семейной жизни. Поэтому потерять что-то дорогое в большинстве случаев всё же лучше, чем никогда не иметь. Если, конечно, человек не сокрушается безмерно по утраченному, так как «утрата – утрате рознь!» Иногда «реализации» в том или ином качестве не происходит вовсе, то есть человек не успел насытить свою потребность, получить от объекта привязанности необходимую и достаточную энергию для дальнейшей жизни. Он просит от жизни «ещё и ещё» именно в этом аспекте, то есть не происходит его дальнейшего развития. Это может быть тогда, когда утрата объекта любви происходит вопреки воле одного из любящих: один уже разлюбил, а другой, покинутый первым, испытывает тяжёлый психологический стресс. То есть характер отношений с объектом привязанности (счастливый или несчастливый; положительный или отрицательный опыт; плодотворный, созидательный или разрушительный контакт) сильно влияет на оценку индивидом степени реализации своего чувства или удовлетворённость той или иной потребности. Да и стресс от потери может быть слишком сильным, хотя утрата былого счастья иногда программирует человека на активный поиск и принятие объекта, способного вернуть, восполнить утраченное состояние. В этом «секрет» Душечки А.П. Чехова. Одна моя знакомая, похоронив дочь, вскоре удочерила сироту. Хотя уникальная актриса Нона Мордюкова, потеряв единственного сына, Владимира Тихонова, утверждала, что «время не лечит потерю ребёнка». Известная целительница Джуна также после смерти сына так и не смогла обрести утешения; умерла в 2015 году.
«Всё будет хорошо» - эти слова особенно нелепо и даже жутко слышать тем, кто недавно пережил утрату дорого и близкого существа. Кощунство этих слов очевидно! Во-первых, «всё хорошо никогда быть не может». Тем более, для всех. Да, что-то хорошее быть может, но самых близких и любимых уже не будет, если даже появятся новые привязанности, придёт новая большая любовь. Наверное, поэтому и существует в мире смерть. Ведь человек спланирован так, что у него память до конца никогда не разрушается (исключительным средством стирания памяти является только болезнь или специальная хирургическая операция), поэтому накопление негативных эмоций и переживаний за долгую или очень тяжёлую жизнь достигает критической массы, при которой мозг и сердце не выдерживают.
Случается, что люди осуждают вдовцов или родителей, сумевших обрести новый объект любви, но понять бездонную пропасть одинокой жизни можно лишь на своей шкуре. У любящей своего мужа вдовы, по сути, два выхода: умереть следом и думать только о смерти, либо искать замену своему мужу. Некоторым в состоянии горя от утраты приходится бросаться «во все тяжкие». Пример Ксении Петербургской – другая крайность: обретение утешения через потерю разума и святое юродство. Фрейд, наверное, назвал бы это уходом в болезнь.
Вдовы, для которых духовные ценности в отношениях c мужем занимают главное место, как правило, несмотря на горечь потери (в чём-то она, наверное, переживается острее, чем потеря мужа-кормильца, так как контакт с партнёром в этом случае был многомернее и полней, поэтому и его потеря глобальнее), не разрушаются как личности, если они находят в себе силу продолжать дело мужа. В журнале «Наука и религия», №8, 1990 г. опубликовано интервью с вдовой философа и поэта, автора уникальной утопии «Роза Мира» Даниила Андреева (1906-1959 гг.), - «Я прожила счастливую жизнь». Отбывая срок во Владимирской тюрьме, в 1954 году Д. Андреев перенёс инфаркт, вышел на свободу в 1957 году. Его труд стал достоянием людей во многом благодаря его вдове, Алле Александровне Андреевой, хотя она тоже прошла через тюрьмы и лагеря. Выжить ей там помогало общение с замечательными людьми, волею судеб оказавшихся в сходных условиях, а также – творчество (даже в лагере она продолжала работать как художник – писала лозунги, делала ёлочные и другие игрушки). Писала она и декорации, выступала на сцене. Проявился у неё там и лучший дар предвидения, хотя у самого Даниила Андреева был «редкий дар постижения иных миров».
Когда Даниил Андреев писал свою «мистерию» на пределе сил, его жена старалась в их отдельной комнатке создать ощущение уюта. Лишь в 1986 году (2 ноября Даниилу Андрееву исполнилось 80 лет), началась публикация его стихов в «Новом мире». А.А. Андреева убеждена, что его книги и прозрения – это вовсе не новое религиозное учение, «его «Роза Мира» - это опыт поэтический, видение поэта», и никогда нельзя говорить о каком-то особом отношении с Богом. Она признаёт, что Церковь в этом аспекте «всегда права, может быть, даже тогда, когда она не права».
Подводя итог своей жизни, А.А. Андреева говорит в своём интервью журналу: «Жизнь есть выбор. Постоянный, ежедневный выбор. Однажды предпочтёшь не своё – и жизнь пойдёт неправильно. Иметь всё невозможно. В моей жизни были и неустроенность, и тюрьма, и лагерь. Но у меня нет ощущения, что вся моя жизнь – это несчастья, беда и боль. Напротив. Я считаю, что прожила очень счастливую жизнь. Нам было легко переносить трудности, потому что главным для нас было творчество. Нам было легко, потому что мы с мужем были очень близкими людьми, любили друг друга. Мы не стремились к богатству, выбрав другой удел. Мы прожили счастливую жизнь. Такую, какую мы хотели. Наши представления о счастье совпадали с тем, как складывалась жизнь. Это главное для всякого человека».
Мы уже отмечали, что, возможно, даже более тяжко, чем потеря любимого партнёра, переживается потеря детей. Есть матери, а они, как правило, переживают сильнее отцов, которые сходят даже с ума. Особенно, если рядом нет других детей и любящего супруга, с кем можно разделить горе. Моя бабушка, Наталья Алексеевна Томилина, мать моей мамы, например, потеряла обоих сыновей, Николая и Василия (Коля умер после войны сам, а Вася в 23 года был ранен в танке во время битвы на Курской дуге и умер от ран в госпитале). Бабушка всю жизнь получала за Василия маленькую пенсию и часто доставала из-под кровати старый деревянный сундучок, из которого вынимала детские тапочки умерших сыновей, и тайком от меня плакала над ними. Боль потери, конечно, остаётся на всю жизнь, хотя творческие люди, например, стараются увековечить своих близких в своих произведениях, уйти в работу. Художник Александр Шилов, например, потеряв дочь, перестал писать картины, начал пить, но в 1997 году открыл Государственную картинную галерею. Конечно, немалую поддержку оказали и люди.
Религиозные традиции во всех странах мира предписывают определённые обряды, ритуалы и ограничивают период скорби временными рамками. Чрезмерная скорбь не поощряется; большое внимание придаётся молитвам и церковным службам. Тем более что привязанность к земным и преходящим объектам и лицам, рассматривается как сотворение кумира и предательство абсолютной любви к Богу. Есть точка зрения (статья «Энергетический вампиризм» в книге И. Царёва «Энциклопедия чудес»), что мёртвые, если предаваться скорби по ним, забирают энергию живых. Идею вампиризма, конечно, можно подвергнуть сомнению, объяснив потерю энергии и, как следствие, депрессию, утрату интереса к жизни и апатию, проявившиеся после потери объекта любви, с точки зрения современной психологии и физиологии. Например, их можно объяснить непластичностью мозга и психики в целом.
Норман Дойдж в своей книге справедливо отмечает, что люди часто бывают неспособны перейти к новому этапу своей жизни. С точки зрения нейропластичности мозга «для того, чтобы вступить в новые отношения без багажа прошлого, следует, прежде всего, перепрограммировать миллиарды связей в своём мозге…Переживая горе, мы учимся жить без того, кого любили, но сделать это очень сложно, так как сначала мы должны перестроить себя». Реорганизация становится возможной благодаря нейромодуляторам, которые повышают или снижают общую эффективность синаптических связей и вызывают продолжительные изменения.
Буддист, известный учёный Шри Дхамананда в книге «Как жить без страха и тревоги» даёт методику разрыва «эмоциональных узлов», которые возникают при расставании. Если предотвратить ничего уже нельзя, то в первую очередь, надо признать разрыв уже неизбежным. При этом человек проходит несколько стадий: это шок; после шока может появиться чувство уязвлённой гордости. Преодолев шок и восстановив свою гордость, человек вынужден столкнуться с горечью своего одиночества. Но и это ощущение когда-нибудь пройдёт. В течение этого периода нужно учиться жить одним днём. Постепенно будет обретаться новая свобода. В этот период нельзя совершать глупые поступки (в их числе: самоубийство, сумасшествие на почве разочарования, отказ от дальнейших попыток изменить свою судьбу). Надо не позволить своим трудностям «утопить вас». С такой психологической установкой на изменение можно вновь обрести уверенность в себе и преодолеть жизненные трудности.
В статье «Анатомия несчастья» (журнал «Коммерсантъ Власть», 2 июля 2002 г.) даётся, своего рода, алгоритм прохождения несчастья. «Современное представление психологов о горе связано с понятием «внутренняя работа». Это не просто эмоция, которой можно предаваться с той или иной интенсивностью, а особая деятельность, имеющая цель и результат. О том, что горе – это работа, первым догадался Зигмунд Фрейд. Он даже ввёл в своей классической работе термин «работа горя». Её цель, по мнению Фрейда, оторвать психическую энергию от любимого, но теперь утраченного человека и направить её на другие объекты».
На мой взгляд, это не совсем так. Прежде всего, Фрейд слишком рационализирует горе, то есть придаёт ему не столько высший, сколько «рабочий» смысл. Зачем и почему человеку посылается то или иное испытание и потеря, наверное, знает, образно выражаясь, только Бог, так как горе многомерно, то есть оно – не только работа, не только испытание и т.п. Оно просто есть! А смысл ему придаёт сам человек: вольно или невольно, в соответствии с той или иной моделью жизни, психологической концепцией, в зависимости от мотиваций. Если ему хочется преодолеть своё состояние, хочется жить дальше, - восторжествует одна концепция и определённое, негативное или смиренное отношение к горю; если этого не произойдёт, то горе может затмить разум, Вселенную, стать причиной смерти. В любом случае нужно хотеть преодолеть своё состояние, хотеть жить. А если человек не хочет жить и не хочет меняться? В случае если с объектом привязанности расстаться невозможно, можно сделать из него кумира. Я, например, оставшись вдовой, сделала из покойного мужа «икону». Аналогичный случай произошёл с вдовцом известной актрисы Клары Лучко. Первого мужа она потеряла рано и внезапно. Это был известный актёр Сергей Лукьянов. У них была настоящая большая любовь. Потом она долго не могла выйти замуж, пока не встретила журналиста-международника Дмитрия Мамлеева. И опять ей выпала удача. Много лет они прожили вместе, пока, накануне своего 80-летия, она не ушла из жизни быстро и внезапно. И вдовец после её смерти жил только ею! Альтернатива этой, как скажут психоаналитики, идеализации, интернализации, - лишь неполное, то есть непарное или случайно-парное существование, профанация настоящей любви, что иногда хуже смерти, так как это – смерть духовная, разрыв самого сокровенного и плодотворного жизненного контакта. Это духовная и душевная пустота, вакуум! Страдания и слёзы и то лучше!
З. Фрейд в работе «Печаль и меланхолия» утверждает: «Печаль – это, как правило, реакция на потерю любимого человека или занявшей его место абстракции, как то: родины, свободы, идеала и т.п.». Фрейд видит в печали естественное. Меланхолия же отличается от печали одной важной чертой - нарушением чувства собственной значимости. Нормой по Фрейду является то, «что победу одерживает принятие реальности». Если при печали в утрате нет ничего не осознаваемого, хотя «мир становится пустым и жалким», то при меланхолии, которая сопровождается унижением и потерей своего Я, «таким бывает само Я». При потери объекта при меланхолии, по мнению Фрейда, либидо не возвращается в Я, а служит идентификации Я с потерянным объектом. Утрата объекта превращается в утрату Я. Причём формой этой утраты может быть регрессия к нарциссизму, которая может проявляться даже в самоистязании, склонности к самоубийству. То есть скорбь по утраченному объекту обращается против себя, хотя может проявляться и как враждебность к нему.
Меланхолия приобретает характер мании, которую Фрейд сравнивает с алкогольным опьянением и триумфом Я, что происходит путём привлечения всё новой дополнительной энергии из-за устранения затрат на вытеснение. При печали ею также адсорбируется вся энергия Я, но преодоление осуществляется путём расторжения связи с утраченным объектом, так как Я решает остаться в живых, хотя расторжение связей при печали происходит очень медленно. В случае с меланхолией отношение к объекту амбивалентно, двойственно. «Подобно тому, как печаль побуждает Я отказаться от объекта, объявляя объект мёртвым и предлагая Я в виде награды остаться в живых, точно так же каждый отдельный конфликт амбивалентности ослабляет фиксацию либидо на объекте, обесценивая его и унижая, словно убивая».
Статья «Анатомия несчастья» предлагает нам следующее описание фаз горя. Начальная фаза горя – шок и оцепенение (длится семь-девять дней). Смысл этой фазы – получить передышку в страдании, отключиться от него, уйдя в состояние душевного онемения, оглушённости. Затем идёт фаза отрицания. Она иногда начинается с эмоции злости (например, при всяком напоминании о реальности). Человек начинает искать объяснение случившемуся, обвинять себя или окружающих. Третья фаза – острое горе (длится шесть-семь недель). Эта фаза может сопровождаться не только тяжёлыми чувствами и эмоциями (отчаянием, ощущением заброшенности, одиночества, страха, тревоги, злости, вины, беспомощности), но и телесными реакциями: слабостью, затруднением дыхания, нарушением сна и аппетита. Человек может стать замкнутым и раздражительным. Для этого периода характерна идеализация умершего и поглощённость его образом, возможно отождествление с умершим, подражание его привычкам, манерам. Сам разрыв с ним причиняет человеку боль, но в этот период формируется память об умершем.
Четвёртая фаза горя – фаза возрождения. Умерший перестаёт быть главным сосредоточием жизни. Переживания становятся прерывистыми (этот период длится примерно год).
Как указывается в статье «Анатомия несчастья», американский психиатр Эрих Линдеманн пришёл к выводу, что больше всего нуждаются в помощи и заболевают не те, кто слишком сильно горюют, а те, кто пытается избежать сильного страдания. Надо бояться не его, а «искажённых реакций горя»: повышенной активности и прилива сил без видимого проявления чувства утраты (о таких людях иногда говорят, что они хорошо держатся). Часто действия в этот период оказываются неразумными, наносят человеку и окружающим вред (новые поспешные браки, например, оказываются неудачными). Другой формой искажения является так называемое «отсроченное горе», во время которого наблюдается эмоциональная нестабильность. Линдеманн наблюдал также «синдром «предвосхищающего горя», когда человек как бы заранее переживает потерю.
При этом «развод, потеря дома, работы или любимой кошки ранят иногда не меньше, чем смерть близкого человека». Поэтому: «Главное – серьёзно относиться к любому несчастью, каким бы незначительным оно ни казалось».
Финский психоаналитик Вейкко Тэхкэ отмечает, что при потере объекта любви, привязанности могут возникать различные состояния психики – от внутренней попытки сопротивляться реальности потери (либо путём её отрицания, либо путём замещения новым объектом, либо путём его сохранения в форме интернализации) до ухода в болезнь. Этот специалист отмечает: «С момента выхода работы Фрейда «Траур и меланхолия»(1917) траур и депрессия считаются двумя главными альтернативами человеческого способа справиться с потерей значимых объектов. Другими предложенными и описанными в качестве главных альтернативами были отрицание потери или её значения с идеализацией утраченного объекта или без таковой, быстрая замена его новым объектом, патологическая печаль по «связанным» с ним объектами или идеями (Volkan,1981), развитие соматического или психосоматического заболевания, а также пристрастие к алкоголю, наркотикам или перееданию». При этом степень приверженности к тем или иным альтернативам (вместо более или менее нормального процесса траура) связана со степенью инфантильности, зависимости и амбивалентности отношения субъекта к утраченному объекту. В. Тэхкэ указывает на различие между печалью по личности, как целому объекту, и печалью по той функции, которую утраченная личность выполняла.
Таким образом, при потере объекта привязанности одни люди прибегают к помощи религии, другие – пускаются в поиск замены или с головой уходят в любую работу, благотворительную деятельность; третьи начинают пить или даже кончают жизнь самоубийством; некоторые – учатся смиренно жить в страдании. Главное – не впасть в гордыню «сверхчеловечности» или не упасть в пропасть «недочеловека».
Мне кажется, что каждый человек, словно невидимыми проводами, опутан многочисленными связями, в том числе воображаемыми, с окружающим миром. Некоторые связи основаны на вещественном обмене (путём дыхания, питья и еды – от нелюбимой с детства каши до шоколадных конфет и кофе); другие связи создаются благодаря незримым энергетическим полям (электромагнитному, гравитационному и т.п.), но все эти связи имеют также информационную составляющую и связаны с сознанием и воображением человека. Человек может быть связан с любыми осязаемыми вещами, предметами, книгами, телевидением, с теми или иными знаковыми системами культурного пространства. То есть можно выделять, с одной стороны, предметную, содержательную составляющую связей, с другой стороны говорить о форме связи, которая может быть как прямая, так и обратная; иерархическая и взаимозависимая, равноправная; линейная и круговая, цикличная, спиралевидная; непосредственная или опосредованная. Необходимо рассматривать и качество связей, которое человек оценивает через эмоции, определяя их как «отрицательные» или «положительные». Можно оценивать также их интенсивность, глубину и размерность.
Теперь представьте себе двух людей, любящих друг друга и тесно связанных между собой и с окружающим миром. Они любили одни и те же книги и фильмы, у них были общие воспоминания, оценки событий и объектов мира. Они пережили множество потрясений, имеют общих детей и друзей. У них есть и свои тайны, интимные подробности жизни. И вот один из них умирает. Уходит в мир иной… При этом у оставшегося на земле обрываются тысячи, миллионы связей с ушедшим. Наверное, его можно сравнить с колючим ежом, у которого в разные стороны торчат кровоточащие иголки. Когда он прикасается к некогда совместно любимым вещам, воспоминаниям, то испытывает нестерпимое страдание. Позитивное отношение к общим дорогим объектам (даже близким людям) и впечатлениям становится резко негативным или болезненным. Все обрывки его связей с миром пропитаны энергией прошлой жизни, которой было очень много, а сейчас у человека энергии осталось очень и очень мало. Особенно, если он уже стар, беспомощен и одинок. То есть все его связи, привязки – в прошлом, а главный объект связей – в гробу, в потустороннем мире…
Если же человек относительно молод и ему хочется ещё жить, то есть у него существуют другие связи с окружающим миром, то он начнёт, с одной стороны, усиливать, культивировать их. С другой стороны, он станет создавать новые связи. Кроме того, он постарается свои иголки, то есть оборванные связи, провода, куда-то, к кому-то пристроить. Он может, например, пристроить их к своим ближним, знавшим ушедшего, либо к сочувствующим; он способен приладить их к предмету быта, бывшего в употреблении у любимого существа. Чувства, ранее предназначавшиеся любимым объектам, переносятся в этом случае на других людей, на другие объекты. Помогает соединить оборванные провода и воображаемая связь с умершим через религию или фотографии, портреты; некоторые привязки, наверное, могут замыкаться и на самих себя… Но случается, что человек замыкается в своём виртуальном мире окончательно, живёт исключительно за счёт воображаемого и прошлого, у него не хватает энергии и решимости на образование новых связей.
Возникает вопрос: что же происходит со связями самих умерших, ушедших от нас? Куда пропадает «энергококон» умершего? И во всех ли случаях плохо – подпитывать этот кокон энергией? Ведь можно испытывать не только тоску и боль, но благодарность, радость, что утраченный любимый человек всё же был! То есть качество энергии, «подпитывающей» кокон, может быть разным. Ведь память о прошлом (в том числе, овеществлённая, в виде могил, гробниц, памятников, пирамид, мавзолеев и «вечного огня»), наверное, выполняет не только роль «вампира», но и служит важнейшим репером, символом определённого этапа нашей жизни. И этому символу надо уметь отдавать свою «энергетическую дань», не превращая этот процесс в «чёрную дыру».
Легче всего и наиболее правильно, наверное, заделывать свои обрубки энергетических связей в компании с подобными себе людьми, которые сами испытывают аналогичную скорбь и боль; с ними можно говорить о любимых, утраченных объектах; на этой почве возникают дружеские связи, новые браки и даже мемориальные общества и партии. Проще всего общаться с общими друзьями, общими любимцами-животными, но когда уходят и те, то боль становится вдвойне нестерпимой.
Выскажу ещё одно соображение в отношении перестройки бытия и сознания после утраты самых любимых существ и объектов. За долгие годы у нас вырабатывается насущная потребность в общении с ними. Эта обобщённая потребность может быть представлена, своего рода, спектром более простых и частных потребностей, как самых глубинных и важных (в общении, в любви во всех её проявлениях, в трансцендентном, в информации), так и более прагматичных и земных (в заботе и безопасности, в еде и пище). То есть утраченный нами объект выполнял по отношению к нам не только функциональные обязанности, но являлся уникальным стимулом для развития. После потери самого значимого в нашей жизни объекта утешение можно обрести только при условии, если в жизни появится объект, потребность в котором будет настолько же энергетичной, значимой, какой была потребность в утраченном объекте. Это может быть земной, реальный объект: другой человек или какое-то дело, увлечение, даже болезнь… Это может быть и воображаемый, нереальный объект или цель: служение Богу, достижение нирваны… Силу одной потребности можно преодолеть лишь силой другой потребности (сопоставимой по силе с прежней). До тех пор, пока это не произошло, решительный обрыв связей с любимым объектом чреват пустотой, депрессией, тоской и скукой существования, которые не лучше любой формы «вампиризма».
Преодоление тоски при утрате самого дорого и любимого в жизни происходит, во многом, путём ограничения их абсолютизации (то есть преодолением тоталитарного мышления) и хотя бы частичного обесценивания утраты за счёт наличия или обретения других ценностей и перспективы в жизни.
Новые рукописи
- Берегите мужчин! Автор: Шелейкова Нина Жанр: Публицистика
- Утки Автор: Виктор Верин Жанр: Проза
- Долина царей Автор: Крюкова Елена Жанр: Проза
Книжные новинки
- "Осенние откровения" Ларисы Каменщиковой Автор: Информационная служба РОСА Жанр: Книги РОСА
- Заметки фенолога – 2024 Автор: Фирсов Геннадий Жанр: Книги РОСА
- Владимиров А.А. "Формирование микрогеометрии поверхности при вибрационном точении" Автор: Информационная служба РОСА Жанр: Книги РОСА
 Видеогалерея
Видеогалерея Фотогалерея
Фотогалерея Аудиогалерея
Аудиогалерея Магазин
Магазин