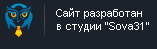Лазарет
Дата: 3 Апреля 2023 Автор: Крюкова Елена
Памяти великих русских хирургов:
святителя Луки (Валентина Феликсовича Войно-Ясенецкого)
и Николая Михайловича Амосова

ФРЕСКА ПЕРВАЯ. СЕВЕРНАЯ СТЕНА
Раскрой же двери. И войди, войди сюда босиком. Ты легчайшая легких, ты добрейшая добрых. Кто тебя разберёт, девчонка ты или музыка. Я тут лежу, лежу себе, лежу; а ты входишь и глядишь на меня, ты принадлежишь к существам, что не могут говорить, а только молчат, молчание твоё хрустально, беспечально, изначально. Я бы возомнил, что ты мне снишься, да видишь, я здоровою рукой крещусь, и благодарен я Господу, благодарен воздуху, коим дышу, что плечо мне раздробили левое, а не правое, и я могу шевелить рукой и накладывать крестное знамение. Наступили такие времена, что ты, инфанта, видишь вокруг себя не тех, кто верит в Бога, а лишь тех, кто верит в кровь и злобу. Ты благородна, а я тебе тоже благодарен. Вот лежу я тут, лежу. Губы уже не дрожат, они только тихо, слабо улыбаются, и я могу беседовать с тобою лишь сердцем, а это всего лишь кровавый комок, весь оплетённый прутьями и лозами плодоносных сосудов, как часто я видел его в красной слизи, а он бился у меня под руками в резиновых перчатках, взбрыкивал, хотел вырваться из клети костей, убежать, утечь в небеса, - а я хищно хватал его, сжимал в кулаке, ритмично сжимал, как мяч для гимнастики ладони с перерезанными сухожильями, - ах ты, инфанта в затрапезке, не пугайся моих мыслей, я тебе ещё не то расскажу, приучайся меня не бояться, - и тот кусок плоти, что, по нашим детским верованиям, полон добра и любви, яростно бился у меня в ладони, а потом вдруг застывал алой глыбой, мёртвой ощипанной курой, и я, молясь о продолжении жизни, наклонялся над ним, скользким, облитым кровью, и даже дышал на него. Так дышат на морозное стекло.
Я сам, дитя, стал морозным стеклом. Подыши на меня! Отогрей меня!
Вот, вот, видишь, ты подходишь ближе. Ещё ближе, не страшись. Твои зрачки, две букашки, ползают по мне, изучая, дивясь, а я-то гляжу на тебя не глазами: у меня их нет. Один затянут бельмом-паутиной, другой мне выбили, когда мучили меня. Про это я тебе не буду. Не настало время. Я слышу, как твои босые ноги шаркают по давно не мытым половицам лазарета. Вот лежу я здесь на железной койке, один, как царь, и железная сетка не прогибается подо мной, такой я лёгкий. Ты тоже лёгкая! Ты легко дышишь! Я слышу твоё дыхание, оно слетает ко мне бабочкой!
Иногда я слышу, как ты бродишь по унылой палате и возишь по полу щёткой. Я вижу сердцем твою щётку: длинная ручка, седая щетина, вся повылезла. Две твоих тощих косички связаны на затылке корзиночкой и упрятаны под ярко-красный платок. Да, платок у тебя на лбу цвета крови, он повязан плотно, палец под суровую ткань не протолкнёшь. Сколько тебе лет? Десять? Тринадцать? Пятнадцать? Ты слишком худенькая, поэтому твой возраст можно перепутать. Думаю, двенадцать тебе. Двенадцать апостолов ходили по горячим пыльным дорогам за Христом, а ты тут ходишь за больными. И не за деньги наняли тебя; тебя приневолили, тебе приказали. Ты послушалась, а что было делать? Скажи спасибо, тебя кормят. Швыряют в миску старинным оловянным половником жидкую кашу.
А ты неслышно подходишь ко мне, садишься на край моей койки, моего железного последнего корабля, и кормишь меня. С ложечки. Оловянная миска дрожит на твоих коленях, она живая. И чую я себя ребёнком, и стыдно мне, и сладко, и больно, и яростно, и ничего тут не поделать; я ловлю губами скользящую с ложки в небытие собачью кашу и думаю: нет, это еда не для прелестных инфант, это еда для уходящих с лика земли в ночные небеса.
Там плавают рыбы-звёзды. Дрожат поплавки планет. Милая, я в юности любил рыбачить. А когда рыбы наловлю, костерок разожгу, котелок на огонь водружу, разрезаю изловленных серебряных и золотых рыб вдоль брюха, прямо посредине подрагивающих красных плавников. Красный Мiръ! Кровь везде. Я вычищал ножом у рыбы из брюха кишки, а она ещё дёргалась, и я опускал её в булькающий кипяток, в адский котёл, и не ведал я тогда, что буду не рыбам - людям животы разрезать. Рёбра ломать. Мышцы кромсать. А потом крепко сшивать. Нить, которою сшивают людские раны, должна быть крепкой и мягкой.
Это как любовь: она вместе и сильная, и нежная.
Милое дитя, ты знаешь, я нахожусь внутри твоей картины. Ты же не живая, нет. Ты - нарисована. Я слышу тебя душой, вижу сердцем, обнимаю духом, а где твоё тело? А где моё тело? Мы сами себе снимся. Я то и дело погружаюсь в сон, а что ещё прикажешь делать в лазарете? Спать! Спать! Неужели тебе не снится твоя свита, твой веер из павлиньих перьев, твоя собака, твоя рыжая кошка, твои слуги, твои высокородные родители? Их отражения - вон там, подними глаза, в квадратном тусклом зеркале, высоко висящем на затянутой мрачной парчой стене. А может, это не парча, а солёные рыбы морские, на северном ветру насквозь провяленные, и не зеркало мотается, накренившись, под косым деревянным потолком, а грязное окно: и в нём не королевские сытые лица, а дальние, в мутной мгле, виселицы и плахи.
Я лежу меж тобой, твоим живым шевеленьем, и между ледяным зеркалом, отражающим мою смерть. Нашу общую смерть, одному умирать так тоскливо, невыносимо. Нет, не бойся, придвинься ближе. Кашу я уже всю съел. Мне трудно глотать. Мне тяжело говорить. Я посылаю тебе мысли, и ты гуляешь среди них, как в чащобе морозных узоров на зеркальном оконном стекле. Продыши во мне, застылом, смешной прозрачный кружочек нежным ртом! И приблизь к нему око свое. И гляди. Наблюдай. Ты много чего увидишь. Ты никогда не носила украшений, дырявое платье твое пахнет солёной трескою, картофельными очистками, золой и свечным нагаром, но мы с тобой здесь русские люди, наш лазарет на берегу моря, я никогда не мечтал так умирать, но я сейчас яснее, чем когда-либо во зрячей жизни, вижу: тело - хворост, душа - играющая рыба, дух - усыпанное полнощными звёздами небо. Я твое небо. Я дух. Ты кормишь меня кашей, это твоя обязанность, твое больничное послушание, но это лишнее. Я лежу, ты сидишь, а на нас из зеркала смотрит страшный Мiръ, который мы покинули. Мы никуда уже не уйдём с этого берега моря. Да нет, ты никакая не инфанта, ты царевна, зачем нам заморская живопись, мы же русские люди. Почему ты молчишь? Ты так внимательно, благоговейно слушаешь меня? Я лежу между твоей свитой, царевнушка, между швабр, щёток и веников, мисок и ложек, оловянных и деревянных, между запахом иных, многозвёздных красок, между режущими скальпелями врачебных голосов - и между Тем, кто стоит там, в углу, о, не оборачивайся, сначала я посмотрю ему в угрюмые глаза ясновидящим сердцем, - там, за нашими спинами, за перевалами ненависти и любви.
Я дерзну рассказать тебе сегодня мою любопытную историю. Ты любишь слушать истории? Так вот слушай! Возьми невесомыми пальцами мою здоровую руку. Пожми её. Я с трудом смогу ответить тебе пожатьем. Но я сделаю это. Давай склеим пальцы, сольём. Я не раз переливал при операциях кровь - не только из стерильной банки, но от человека к человеку. Господи! Любовь Твою и прощение Твоё на нас излей! Я много грешил, хоть пытался людей от смерти спасать. А ты, девочка, ты же подснежник в весенней тундре! Ты из Ангелов. Я узнал тебя.
Позволь мне начать мой рассказ. У тебя была бабушка? Нет? Она нашептывала тебе на ухо сказки, укладывая спать? Нет? Ты сирота, я понял. Давай я буду твоими отцом и матерью, твоими дедом и бабкой, твоими братьями и сёстрами, твоими далекими детьми и внуками. Мы свиделись на перекрестье времен, и время обожгло наши щёки и ключицы огненным ветром. Давай простим наше время и тихонько, на время, забудем его. Времени на самом деле нет. Зря все верят, что оно есть. Всё повторяется. Всё хохочет во все горло. Заливается слезами. Какая тёплая у тебя ручонка. Начнём же. Слушай. Господь с тобой.
***
Я раньше был портретом. Я был доступен воображению и кисти художника. Не морщь лицо своё; оно у тебя, дитя, слишком красивое и нежное, чтобы гримасами уродовать его.
Сквозь большие, просторные окна, величиной с колосящиеся пшеничные поля, всю мою жизнь лился свет; он лился то молоком, то мёдом, то густым красным вином, то прозрачной, призрачной пахтой, всё зависело от того, какое время суток на дворе, день, рассвет, закат или беспросветная ночь. Говоришь, живой человек не может быть живописью? Да живопись, дитя, это всё сущее. Всё вокруг нас. Мир не трёхмерен. Он многослоен - так, как многослойна человеческая кожа, человеческие потроха, весь пирог человеческой истории и мысли, из которой складываются огненные коржи веков. Им не вернуться никогда: они съедены до крошки. Встань сюда, к окну, в круг света. Встань так, чтобы находиться между мной-портретом, мной-человеком, кистью художника и другими его натурщиками, что толкутся там, поодаль. Его натурщики - мои владыки. Его натурщики - мои врачи. Его натурщики - мои палачи. Я их вижу сразу из трёх пространств: отсюда, с койки лазарета, оттуда, из насквозь просвеченной сливочным солнцем мастерской, и ниоткуда, с моего портрета. Три моих взгляда тихо соединяются. Сочетаются. Глазами можно сочетаться крепче любых уз: брачных, дружеских, родственных. Обними меня глазами, милая! Благослови меня зрачками своими. Я уже почти слепой, а ты только прозрела, слепой котёнок, ибо созерцаешь начало жизни твоей.
Ты спрашиваешь меня: а я, а где же я на картине? Ох, вот это трудный вопрос. Я шарю глазами повсюду - и тебя не вижу. Заблудившийся ясный луч, до брызг стекла пробивающий окно, так похож на тебя. Но это не ты. Я не должен ничего перепутать.
А художник? Где художник? Ах, да вот он. Он стоит и пишет. Возит кистью по холсту. Прищуривается. На кого он глядит? Натурщики угрюмо, страшно молчат. Не улыбаются, не беседуют, не шевелятся. Они отражаются. В зеркале.
Художник рисует их, острым взором вынимая из зеркала.
Вон оно, зеркало, на стене - огромное, как жизнь, я перепутал его с окном. Я старик, мне простительно, с кем не бывает. Мастер не видит их, живых; он видит их отражения, и они нравятся ему, если он их рисует. Что значит зарисовать? Это значит запомнить. Навек? Не обязательно. Нарисованное может сгореть в огне пожара, в кострах войны, истлеть и развеяться по чужому сиротскому ветру. Пока мы живы, мы или позируем, или рисуем. Третьего не дано.
Я глядел с портрета в лицо художника, но, деточка, виноват, я не помню его лица. Да полно, писал ли он меня и нас всех? Может, он просто смеялся над нами, и, смеясь, возил сухой кистью по белому холсту? Нет, в руке его была палитра, и могу поклясться, что я чувствовал острый и нежный запах масляных красок. Натурщики застыли, я смотрел перед собою, вперед, и, как и мастер, видел их в необъятном зеркале.
Дитя моё! Вот если бы я был учен живописи, я бы тебя нарисовал. Такую, как ты есть - тощие белые коски скользнули с затылка и потекли по плечам, худые кочерги маленьких рук, босые ножонки из-под холщовой замызганной, там и сям залатанной юбки. Почему не дал тебе главный врач лазарета снежно-белый, чистейший халат, чтобы ты полноправной работницей вышагивала по коридорам и палатам? Встань так, чтобы отразиться в зеркале. Так мне удобнее всю тебя охватить больным взглядом. Я вижу тебя и сквозь ледяное бельмо поземки, вьюги.
Пусть в чудесном зеркале отразится то, что художник не писал никогда, а я, грешный, не видал никогда. Зато все узришь ты; юные очи зрячи, а дети, да будет тебе известно, видят то, что не видят взрослые: они видят потусторонний Мiръ. Зеркало пусть станет нашей Библией, нашей Псалтырью. Я знаю наизусть много псалмов царя Давида, ибо я их и читал, и пел во храме, и плакал над ними в тиши моей нищей кельи. А вокруг меня, по срубовым стенам, висели, лунно блестя и паутинно мерцая, всё зеркала, зеркала - мою жизнь всегда отражали, мне давали ею полюбоваться, тщетной и тщедушной, и давали понять, что в ней надо менять, а что не надо, и рано ли умирать, и, наряду со мной, ничтожным, мне показывали царей земли, её лекарей, её портных, её солдат, её судей. Народ вздымался и клокотал в чудовищном зеркале, и накатывал прибоем, и отступал, тихо ворча или дико крича, а после воцарялось торжественное молчание.
И, ты знаешь, молчание нарушал лишь твой голос! Далекий, жалкий голосок! Я слышал, как ты кричишь мне из зеркала: батюшка!.. батюшка!.. очнись!.. ты не мёртвый, ты же живой!.. живой!.. Я очнулся и стал искать глазами зеркало, чтобы увидеть там мой народ, и не видели свет мои глаза, и понял я, что ослеп, и заплакал, а руки твои, ловкие, быстрые и худенькие, невесомей крыльев стрекозы, отирали мне слёзы со щек, заросших щетиной. И ты была звёздная стрекоза, а я был старый леший, и века проходили, пока дрожали надо мной твои сетчатые прозрачные крылья.
Я всю мою жизнь, дитятко, пытался вразумить людей. Быть может, это значит - поучать. Кто из нас имеет право учить? Внушать? Вести за собой? Учил, милая, только Господь. Нам ли, каждому, этого не знать! Даже грешники знают. Тем паче знают, чем дальше отстоят от вдыхания жарких либо ледяных ветров, коими дышат праведники. Вот я великий грешник. И каялся я каждодневно. И пытался не совершать грехов, в которых покаялся; однако диавол рядом, он за плечом твоим, и чуть зазевался ты, одолеет он тебя.
Вот служба во храме. Для иного иерея она - театр, виньетки позолоченные, музыка как украшение басом поющихся вечных словес. А для иного - исповедь. Стоит священник у аналоя и кается, кается. Думаешь, паства того не понимает? Да ходила ли ты во храм? Да стояла ли в череде исповедников и причастников? Тихо, тихо... не говори ничего. Зеркало нам всё с тобою скажет.
Зеркало всё отразит. И заскользим мы в нём, из нашего Мiра в Тот Мiръ, хотя и пути не знаем, и вехи не видим. Нас ведут. И мы идём.
И все мы друг у друга учимся.
И учитель благодарен ученику, ибо зрит через ученика небеса неведомые; и ученик благодарен учителю, ибо даёт ему учитель на тропе Времени обогнать себя.
Что спросила? Помню ли я имена всех, кто в зеркале отражён? Всех встреченных на пути? Много людей прошло сквозь сердце моё. Сокровищами моими стали они. Имена их помню не памятью - кровью. Ибо они - мой народ; и я - народ их родной. А власть над собою любую смиренно приму. Ведь, знай, кто-то на земле сильнее, кто-то слабее; и слабый вдруг окажется сильным, и сильный внезапно потеряет бразды правления и силу приказа. И счастлива так власть, что с Богом единое целое составляет. Как той звезды достигнуть? На каком прочном корабле?
Владыки рождают детей, нанимают им воспитателей, выкармливают их лучшими яствами, развлекают их дикими и домашними зверями, бархатными и шёлковыми нарядами, жонглёрами и лилипутами, и печальная карлица читает княжичу по слогам древнюю, как кости Левиафана, книгу, и нежный карлик в огромной шляпе поёт принцессе Ангельские песни, и при этом слёзы стекают по его грешным щекам, а на стене мvроточит святая икона, рассылая вокруг неземной аромат. Кошки бродят по изукрашенному росписями терему, собаки громко лакают ключевую воду из серебряных мисок, и, дитя, помни, богатый дворец - ещё не весь Мiръ, и никакое богатство в целом свете не стоит одного тихого поцелуя того, кого больше жизни любишь.
Стой так! Зеркало отражает тебя. Вот теперь я вижу тебя из трёх пространств, да нет, из трёх моих Времен, о которых сегодня расскажу тебе, не утаю ничего, и ты будешь вспоминать мой рассказ всегда. Открою тайну: вспоминая меня, ты всякий раз будешь проживать со мною мою жизнь. Жизнь - не просто зеркало, висящее на стене в заляпанной красным кадмием мастерской художника. Жизнь - это одно зеркало, и другое, и третье, и сотое, это великое множество зеркал, отражающих друг друга, отражающихся друг в друге, уводящих нас от самих себя - в гудящий наш народ - насмешливо и бесповоротно, сверкающих остро наточенными ножами, нежно льющих с посмертных небес звёздное золотое руно. Кто выдумал зеркало? В незапамятные, допотопные времена красавица гляделась в гладко обточенный чёрный лабрадор, и это была ты. Маленькая девочка с двумя белыми, вьюжными косками по плечам, хлебные веснушки по щекам, острые локти торчат в стороны, босые ноги в цыпках. Ты такая красивая! Не нагляжусь на тебя.
Проходят долгие века, шествуют мимо тяжкие тысячелетия, становятся легче пуха, призрачней предрассветного сна, накатывают из забытья людские валы, бьют о берег всеобщей тоски, бьют о берег моей единственной радости, разрушают её, напоследок целуют горячими брызгами, это люди текут перед Вселенной моих зеркал и уплывают в никуда, это люди струятся перед моим портретом и даже не остановятся перед ним, и не косят в меня жадными очами, и не разглядывают в линзы, чтобы приблизить не к пылающему сердцу, а к сугробному, холодному разуму своему, - и уходят, уходят, а я, несчастный, смотрю им вслед, я не знаю, как их остановить, ведь они есть Время, а Время остановит только Господь на Страшном Суде.
А люди всё идут, идут торжественно и бесконечно, и Время всё длится, и Страшный Суд, где он, кто кричит - завтра, кто - слишком далёко, отсюда не видно, и кто цепляет на грудь ордена и гордится ими, кто сдавленно плачет в углу бедной хибары, кто венчается в деревенском храме, кто держит над женихом и невестою златые венцы... кто?.. да ты же и держишь, малютка, нежное дитя моё.
Что спросила? Почему никто зеркало не разобьёт? Не расколотит суковатой палкой все зеркала? Почему все молятся и терпят, плачут и любят, молчат и ненавидят, идут и идут? Всё мимо и мимо? Время всегда - мимо. Такова его природа. Я, священник, я века напролет занимался Временем; помолясь, я просил Бога сурово не наказывать меня за то, что я пытаюсь разгадать Его святую загадку, а напротив, помочь мне в изысканиях моих. И часто я чуял себя живым мостом, перекинутым через времена. Однажды, после Литургии Василия Великого, огромной, как Мiръ, и великого священного труда Причастия я сидел дома, у смертного одра жены моей, тетрадь моя, куда заносил я смутные и грешные раздумья мои, была широко распахнута, как белое поле; и перо само начало чертить на белом листе фигуры: клубком, как спящая собака, свернувшийся скелет ребёнка, тьму земли кругом, над погребённым - шествие жизни: вот идут быки, вот бегут кони, вот бредут, витые рога выставив вперед, мощные бараны, вот плывут сонные рыбы, вот летят птицы, и среди них - царица Жар-Птица, и нет жизни конца, и нет начала. А детский скелет спит в земле. И сколько других, тысячи тысяч, тьмы тем, мириады мириадов, спят в брюхе земли и ждут Страшного Суда. Или - не ждут?
А кто ждёт? Души живые?
Да, дитя, я мост через мiры и века. По мне идут звери, катятся повозки, адские военные машины грохочут и взрыхляют стальными гусеницами землю: чернозём и подзол, наледь и грязь. Иди по мне! Я сам лягу тебе под ноги. Старость уходит, юность идет по ней, топчет её, веселясь. Тебе не разбить моё зеркало! Пусть это сделает другой, не ты. Тебе же нравится отражаться в нём. И какая тебе разница, нарисованное зеркало или настоящее: отражение плывёт и живёт, оно живёт отдельно от тебя, от наших желаний и предпочтений, оно замыкается на собственную загадку, пылает своим огнём. Любезное дитя мое, вглядись внимательней в меня! Неужели ты не различишь в моём старом, изморщенном лике твоё лицо? Ах, ты никогда не видела твоего отражения в зеркале? Ты не знаешь, что такое зеркало? Тогда тебе трудно будет объяснить мою чистую радость. Я давно не человек. Я зеркало. Я отражаю Мiръ. Будь добра, загляни в меня. Пусть ты там не увидишь себя. Зато Мiръ ты увидишь.
Войди внутрь меня, не бойся, войди внутрь Мiра. Это только с виду страшно. Это только кажется, что трудно. Мы, изъятые из Мiра, всегда можем войти в Мiръ; вернуться. Да, мы возвращаемся в него, рождённые им в муках, отторгнутые им. Перерублена пуповина, коей привязаны мы к Матери-Земле. А мы, вырастая, возвращаемся! И мы, умирая, отражаем весь Мiръ: всех людей, все войны, все рыдания и праздники, все Время! Время истекает кровью. Мы не можем в нём присутствовать: нам отмерен срок. Но мы можем отразиться друг в друге, и зеркала щедро подарят нам бесконечность.
Деточка, я совсем не умён. Я неразумен, я глупец, я не понимаю того, что для других людей лежит на ладони и внятно им, как "Отче наш". Но я хочу поведать тебе повесть, ты мнишь, о себе самом, а я говорю - я тут всего лишь отражение многих и многих людей, что медленно шли, текли мимо меня и тихо становились мною. Как хочешь, так и понимай! Если печально станет тебе и захочешь ты плакать - уйди, я не неволю тебя. Я не буду хвалить себя и очернять себя, не буду короновать себя или казнить себя; ты сама все поймёшь, ведь амальгама зеркала такая серебряная, праздничная, такая чудесная, она мерцает Луной и сверкает Солнцем в небесах, она освещает мое сердце изнутри, и ты увидишь, как оно бьется Полярной звездою в зените, не в клети измученных рёбер.
Я расскажу тебе о малом. Я расскажу тебе о многом, а может быть, даже обо всём. Я жил так долго, так безмерно долго, что мне внятно стало всё на свете страдание людское. Я собирал слёзы людей в горсть и в пригоршню, омывался ими, как Крещенской водой из чёрной, на синем снегу, проруби, и чужие слёзы текли по моему лицу и смертному телу, и я плакал вместе с другими душами живыми, коих не знал и не узнаю никогда. Ерунда - знать! Счастье - чувствовать! Жизнь это чувство, и восчувствуй, и возрадуйся, и восплачь, и ужаснись, и мучься без меры, и умри, и воскресни. Бог нам примером. Звёзды примером нам: они угасают, а после вспыхивают опять. Не бойся смерти. Умирая, ты рождаешься в жизнь. Только там иное чувствование, иная речь, иные флаги счастья, иные хоругви боли. Пока мы тут, на земле, нам больно именно так; перейдем в Мiръ Иной, и нам больно станет по-другому.
Детонька, что смеёшься? На лбу у тебя сегодня красный платок, а частенько ты приходишь в палату в белом. Я по дыханью твоему твой платок различаю. Многое внятно, если ловить чужое дыханье, прислушиваться к нему, к его хрипам, к его легчайшему дуновению. Скажи мне, ты пишешь стихи? Напиши стихи о нас с тобой. Как ты ко мне приходишь в палату и сидишь около моей железной, последней койки. Я не боюсь говорить с тобой о смерти, она равна для юных и старых. Она для всех, она хлеб. Спой о ней песню! Бормотать о ней не боюсь, а её самоё боюсь. Самого момента перехода. Как на ступень спущусь? А может, поднимусь? Как порог переступлю?
Знаешь, я от мук, причинённых мне, человеку, людьми, братьями моими, весь выгорел внутри, вместо печени пепел, вместо потрохов порванные струны, вместо сердца - кровавый комок. Сдери с головы красный платок и зажми в кулаке: вот тебе сердце моё. А ведь сказано в Писании: где сокровище твоё, там и сердце твоё. Где теперь сердце моё? Ужели в небесах? Нет, ещё нет. Здесь, на земле? Но и земли мне уже не видать. Так где я? На железной койке в тюремном лазарете? Железная койка моя земля. И ты, дитя, ты моя исповедница, я твой причастник, а ведь сколько лет я исповедовал и причащал людей.
Не сетуй. Заминки в исповеди моей не выйдет. Ведь я в последний раз исповедуюсь на земле, и не одной тебе, ты же понимаешь, а всему сущему: моим тюремщикам, что больно били меня, стенам лазарета, что пахнут сырым, просолённым морем деревом, а иногда подгорелой кашей, а иногда вяленой рыбой; близкому морю, слышу, как оно мерно гудит, поёт за стеной. Я исповедуюсь всем близким и далеким, всем яростным и милостивым. Быть добрым! Всё прощать! Что это? Зачем это? Господь нам это заповедал или мы сами, грешные, догадались? Время режет нас на куски, как свежевыловленную рыбу, а мы думаем, это мы его разрубили, расчленили, и варим его плоть в громадном котле, и котёл тот давно не чистили, он весь во ржавчине, в жире, в окалине. То всего лишь сон наш! А явь такая: Время приходит, взмахнёт ножом - и отрубит нас от самого дорогого. И корчись на берегу, на мокром солёном песке, под ледяным ветром с Северного полюса, в бессилии и тоске.
Ты вот не сочиняла ни стихов, ни песен, а я, слепец, тебе нежные стихи сочинил. На память. Лежу тут один днями, ночами напролёт, не сплю, пою. Никто не слышит. Я тихо пою. Мне всё равно, пусть больные думают, я сумасшедший; благословенны юродивые Христа ради, и благословен Мiръ, что их сечёт плетьми, гонит и терзает: без боли ты, живой, живая, никогда не узнаешь правды.
Вот слушай. Я тихонько.
Я подобен пастуху Давиду... и Роману Сладкопевцу, и... Не держите на меня обиды. И не тратьте на меня любви. Не обрушивайте гнев и ярость. Не сверкайте факелами глаз. Я не знаю, сколько мне осталось, и тем паче каждому из вас. Я подобен всем царям и нищим... я подобен рекам всем, ветрам... и воде, и занебесной пище... Люди, люди!.. я подобен вам... Каждому, хохочущему громко. Каждому, кто слёзы льёт во тьме. Я подобен старцу и ребёнку, и заплате на святой суме. Брёл... упал... рубцы и шрамы... раны... Бичеванья крик и благодать... Деточка, умру сегодня рано... но успею чудо рассказать... Сядь поближе на железной койке... домовина - панцирная сеть... Ты не плачь. Платок в руках не комкай. Ты поверь мне: сладко умереть. Я часовня. Дверь моя открыта. Купол мой серебрян и незряч. Я подобен пастуху Давиду... ну а ты, Вирсавья, ты не плачь...
Понравилась песня? А это всё правда. Исповедь это чудо. Многие думают: ну, пришёл во храм, набормотал священнику да себе под нос всякую поганую всячину из своей жизни, нечто утаил, стыдно, либо намеренно очернил себя, забыв, что самоуничижение паче гордости; а кто искренне признаётся во всем, тот слезами заливается, повествуя, тяжко сдирать исподнее бельё и обнажаться; и немногие, слышишь, немногие чуют: исповедь суть чудо, исповедуясь, ты становишься всем сущим, Белым Светом обширным, Царём Космосом в смоляной, антрацитовой, расшитой турмалинами и лалами парче, и звёзды в тебе шевелятся, играют и мерно, медно, медленно идут по угольному, дегтярному полю, будто коровы с алмазами во лбу, и перебредают великие небеса вдоль и поперёк, уходят вдаль, навсегда, - ты, признаваясь в содеянном, никогда больше не вернёшься туда, где ты это сотворил. И чудо в том, что тебе иерей грех отпускает, а ты всё равно помнишь его, помнишь и ненавидишь, помнишь и любишь.
Не уходи. Тебя я умоляю, есть такая песня. Её пел один мученик, такой, как я. Дитя, а ты ведь рядом с мучеником сидишь! Я то без гордыни произношу. Перед смертью ложь не говорят. Истину вышёптывают! Не уходи... слушай...
АЛЕКСЕЙ
Село, где родился, не скажу тебе названия его, забыл, очень любимо было мною. Я любил его, едва осмыслил видимый Мiръ, глядя на его красоту и безобразие широко распахнутыми глазами; глаза, доченька, это двери, и через них всё входит в тебя - и ужас, и благословенье, и тяжело им, обнявшимся, выйти наружу. А может, я любил мою Родину ещё до рожденья; Родина ведь в нас течёт, она наша кровь, наше упование. Не изменим ей. Не поглумимся над ней. Отец мой был беден; так беден, что иной раз, созерцая наш быт и домашнюю утварь, я забивался в угол, закрывал ладошками лицо и сотрясался в бессмысленном плаче. Нищету не поправить. Не залечить. Она как родимое пятно. Я тогда не знал, что возможно враз разбогатеть, а потом внезапно потерять всё драгоценное; мой отец был никто, да, видно, так и надо назвать его: никто, и звать никак, прости, шутить я не умею. Отец был всем и ничем. Он много чего умел, руки у него были золотые. Он пилил и рубил, колол, строгал. В нашем бедном доме он всё сам смастерил: из найденных на задворках досок сколотил двери, сделал стол и табуреты, сложил жалкую крохотную печку в бане, похожей на сарай, чтобы семейству можно было печь растопить, воду согреть и помыться. Нас, детей, было трое, а матери у нас отродясь не было. Мы росли при отце, и думали, что так и надо. Хотя видели во чужих дворах баб, тощих и толстых, а также древних старух, и понимали: вот женщины, и они занимают место под Солнцем, и делают дела, и возятся с детьми, значит, так тоже на земле бывает.
Однажды через наше село проезжал один богатый человек. То, что он богат, я понял сразу, выбежав на дорогу; железная повозка громко тарахтела, когда путешественник проезжал мимо нашей хижины. Мы, дети, побежали, как собаки, рядом с повозкой: два моих брата и я. Закричали, запрыгали. Я, младший брат, завопил громче всех: гляньте! гляньте! царь едет! Конечно, никакой это был не царь. Но железная повозка блестела на Солнце ярче павлиньих перьев, играли изумрудами стекла, в дверцы вставленные; высовывался из окошка наружу человек, и видно было нам, ребятишкам - пиджак бархатный, в галстуке алмазная заколка, на обшлагах рубахи жемчужные запонки, и все это великолепие сверкало нестерпимо и резало нам глаза.
Богатей услышал наши неистовые вопли и увидел нас. Остановил авто и вышел вон. Пошарил в кармане, наклонился к нам, детям, и рассовал нам по рукам то, что в кармане пиджака нашёл. Деньги бумажные и медные, красивые камешки, странные украшения: броши без заколок, одинокие серьги, бусы без застёжек. Мы на дядьку воззрились да заорали ещё пуще! Он впрыгнул в железную повозку и укатил. И только пыль вилась на дороге беличьим хвостом.
В тот вечер мы ели за ужином жареное мясо, яичницу, солёные огурцы, свежайший ситный, пили парное молоко, настоящий крепкий чай, а не собранные отцом в полях и лугах травы, и к чаю были поданы земляничное варенье и сахарная голова, и отец, смеясь, разбивал эту смешную голову своим плотницким молотком на мелкие острые кусочки.
Тогда я понял: хорошо быть богатым. И тогда же догадался: а мне богатым никогда не стать. Яблоко от яблони недалеко падает, ты ведь знаешь. К нищете мы, вся семья, привыкли.
Время нанизывало на нить слёз каменные года, отец старился и вот однажды умер. Мы с братьями похоронили его, как могли. Я, как мог, прочитал заупокойную молитву на его свежей могиле, я молился своими словами, нигде я не слыхал их, не читал. Старший брат научил меня грамоте. Алёша, говорил он, в школу не ходишь, так давай я тебя поучу! Брат ходил в школу, но бросил её: у них со средним братом были одни валенки на двоих. Летом мы бегали босиком. Как все в селе.
На самодельной этажерке, около печки, стояли наши книги. Я все их прочитал. Рано мальчонке было читать французскую книжку про толстых великанов: множество неприличностей я там отыскал и втихаря потешался. Раненько было нырять в любовные рассказы; на титульном листе красовался портрет создателя книги - утонченное лицо, нежные усики, печальный надменный взор. Знатный господин, думал я, и наверняка богатый, нам с братьями не чета. Я все его рассказы прочел; рано я узнал, что женщину надо обнимать и целовать и ложиться с ней в кровать, тогда тебе станет хорошо, а после ты будешь плакать, да и она заплачет, но это ничего не стоит в сравнении с испытанной радостью.
У нас в селе стояла церковь. Маленькая, как уточка, она плыла по окрестным буграм над широкой и мощной рекой. Уплывала в разнотравье. Однажды я туда примчался, босой прибежал, ноги купались в пыли, головёнку напекало Солнце. Я вбежал в могучие двери и замер: на меня рухнула штормовой волной музыка. Музыка меня сотрясла и обняла, я испугался и убежал. Пока бежал домой, плакал, но того не понимал; прибежал, а всё лицо мокро, я утирал его грязными ладонями и хохотал и плакал одновременно. Над собой смеялся, а ту чудесную музыку боялся вспомнить, но никогда больше не забыл.
Иной раз мне, ребёнку, казалось, что я уже взрослый. Я воображал себя таким же, как тот знатный странник в железной повозке: то владельцем усадьбы, то повелителем народа, то музыкантом, вот стою, на скрипке играю, а ещё лучше пою, и люди в зале громко хлопают мне в ладоши, а вот я священник во храме, и на животе у меня, поверх рясы, лежит великанский золотой крест. Чаще всего я представлял себя врачом. Деревянный стетоскоп в руке, белый халат чище первого снега. Склоняюсь над кроватью больного, и он больше никогда не умирает. А, выздоровев, песни поёт.
Два моих брата выросли, старший поступил в услужение в городе, другой остался в селе и работал по найму: то баньку кому срубит, то доски с лесопилки привезет, то крышу черепицей покроет. Мы с ним ютились в отцовой бедной избёнке. Старший прибыл летом, вкусить ягод и накупаться в родной реке, и изрёк: а тебе бы, Алёшенька, надо бы тоже в город перебраться, давай я тебя санитаром в лазарет устрою. А что такое лазарет, спросил я, как дурак. Лазарет, наставительно поднял палец старший брат, это такой большой дом, где лежат больные люди, много несчастных больных людей, а доктора их лечат, у докторов свои заботы, как получше больного вылечить, а ты бы там докторам помогал, сновал туда-сюда, тазы с водой им подносил, чистые полотенца, грязь из-под коек метлой выметал, мыл полы, окна в палатах настежь распахивал, чтобы болящим было чисто и вольно дышать. Ну как, поедешь работать в лазарет?
Я кивнул. А что мне оставалось делать?
И ещё мне стало жаль больных. Вот бедные, думал я, валяются на койках, встать не могут, стонут, плачут, страдно им, томно! Ну как им не помочь! Конечно, надо помочь! Помогу!
И тогда, в те поры, мы отправились в город вместе с братом.
Средний брат стоял на крыльце и махал нам рукой. Мы то и дело оборачивались и ответно махали ему. Шли мы к железной дороге, через поле и лес, а потом опять через поле. Жужжали шмели. Старший аккуратно нёс в руке маленький картонный чемоданчик. У меня за плечами моталась самосшитая котомка. Босые мои ноги мелькали у меня перед глазами, когда я опускал взгляд. Мы добрели до станции, отдуваясь, обливаясь потом, жара крепко обнимала нас, дождались железных вагонов, бегущих по рельсам в будущее, сели и поехали, и потряслись, и полетели. У брата, это было удивительно мне, уже водились деньги в карманах, как у того памятного богача; он купил нам настоящие билеты и настоящие пирожки с капустой в станционном буфете.
И стал я прислуживать в лазарете. Далеко от города, где жили мы с братом, шла война, и в лазарет наш то и дело привозили раненых. Я ещё не знал тогда, что война идёт всегда, и раненых будут привозить всегда, во все времена. Я наивно думал: ну ничего, времечко пройдет, этот ужас скоро закончится, и наш лазарет превратится в обычный госпиталь, где будут лечиться все, кому не лень, не только солдаты и офицеры. Но плохое время всё не кончалось, а крови лилось всё больше, и вот наконец её стало литься слишком уж много, и палаты не вмещали всех страждущих. Я еле успевал отмывать от крови крашеные масляной краской полы. Я белил оконные рамы и подоконники, когда в палату вбежала растрёпанная девушка, лицо у неё было перекошено, как старая стреха, и провизжала истошно: люди! люди! вы слышали! революция!
Я не знал, что это. Воззрился на девицу, а она возьми и упади на пол, плашмя, и громко стукнулась головой об пол, я подбежал, а она уже закатила глаза, и тут я увидел, что у неё простреленный бок залит кровью, и кровью пропиталась длинная неуклюжая юбка, и она кровью своею захлебнулась. Это была вторая смерть, которую я зрел в жизни, после отцовой тихой кончины в родной избе.
Революция изломала прежнюю жизнь и соблазнила другой, несбыточной. Люди привыкали к новому порядку вещей; люди ко всему привыкают, и Мiръ становится единым лазаретом, где все страдают, вопят, смеются, молятся, едят, пьют, выздоравливают и умирают, но только никогда, никогда не воскресают. Я рос в лазарете, как фикус на белённом мною подоконнике. И я вырастал, и я осознавал себя, лазарет и таинственный Мiръ за окном, где бесконечно творились революции и войны; и я, ухаживая за ранеными, посильно участвовал в страшных и прекрасных событиях, ибо тот, кто живёт, не может не жить, кто дышит, не дышать не может.
Я, молодой, хотел стать героем. Кто в юности не хочет стать героем! Врачи потихоньку научили меня не только мыть грязные полы, но и перевязывать раны, я помогал хирургам на операциях, не падал в обморок при виде разверстых внутренностей, вовремя подавал иглу и кетгут, а иногда и скальпель, и следил острыми юными зрачками, как делает разрез хирург, что он находит внутри человека и вынимает, выдирает, выбрасывая в кровавый таз, а что накрепко сшивает, не разъять. Я всё запоминал. Не думал, что это мне пригодится. Просто молодой организм как хлеб: его окуни в воду, он впитает воду, окуни его в рассол, он всосёт в себя рассол, окуни в вино - он впитает вино. И станет Причастием. Святыми Дарами.
Красные полотнища вдоль улиц! Колыханье знамён, рук, голов на площадях! Народ наш стал морем. И я стал в народе волной. Я катился, накатывался на берег прошлого. Понимал: надо не наблюдать Время, а вбирать его, глотать! Иначе оно нахлынет на тебя и потопит тебя.
И настал день.
Я, санитаришко, мальчишка, ассистировал маститому хирургу, а на ярко освещённом голом столе лежал голый человек, лишь ноги его были укрыты чистой простыней. Врач взмахивал изящными руками. Он дирижировал жизнью и смертью. Внезапно раздался сумасшедший звон. Будто массивная старинная люстра свалилась на пол из-под потолка. Я отскочил. Врач постоял немного над оперируемым, покачался странно, как пьяный. И повалился на пол. Искал рукой неведомое. Пытался разжать рот и вытолкнуть слово. И не мог. И на груди у него, по белому снегу халата, расплывалось алое дикое пятно. Это пуля влетела, разбила окно, вслепую нашла жизнь. Оборвала её.
Хирург не терял сознания. Он глазами показал мне на стол. Протянул ко мне руку. В кулаке скальпель. Он тянул мне, мне хирургический нож! Острый, как молния!
Он всё понимал, я - ничего. Я схватил скальпель и шагнул к столу. Раненый хирург пробормотал:
- У него пулевое... и у меня пулевое... оперируй... ты знаешь всё...
Я поднял скальпель над распятым на чистом столе телом человека.
Тело человека - тесто. Его можно мять, шлёпать, резать, крошить, кромсать. А что же тогда душа? Где она прячется?
Я спросил раненого врача, на полу лежащего в корчах:
- А кого сначала? Вот его, или, может, вас?
Я прохрипел эти слова, как древний старик.
И он выплюнул последнее хрипенье мне в ответ:
- Его... он уже готов... меня... разденьте...
Пока ошалевшие нянечки в белых фартучках стаскивали с доктора одежду, он умер. Я же в это время вонзил скальпель в тугую плоть человека и безжалостно разрезал её, и было мне страшно, и я дрожал, будто стоял на берегу зимней зальделой реки под сильным ветром, и ветер валил с ног, а я всё стоял и стоял, всё резал и резал, и разымал красное тесто голыми руками, и всхлипывал, и моргал, слёзы ослепляли меня и заливали лицо, захлёстывали, я ими захлёбывался, а потом сосредоточился, стал яснее, твёрже глядеть, я все помнил, что надо делать. И старенькой толстой нянечке, она ближе всех встала ко мне и тоже осиновым листом дрожала, я командовал, как настоящий хирург: иглу... кетгут... Погас над операционным полем свет. Перегорела лампочка. Другая нянечка, молоденькая, девочка совсем, медленно подошла, зажгла керосиновую лампу и выше, выше, высоко подняла над нами.
Мёртвого доктора, пока я оперировал, подхватили под мышки и под колени и унесли из операционной. Кто были эти люди, я не знал. Не понял. Я ничего не видел тогда, кроме красной, сочащейся кровью, как вином, плоти.
Так, доченька, я стал доктором, молодым, без образования, самодельным доктором, и я понял, мне надо учиться, и меня отрядили учиться, и я учился бесплатно, сжалились над сиротой, и взрослые умные, опытные врачи терпеливо, подолгу занимались со мной, да не только со мной, там, где обучали на врачей, много юношей толклось, клубилось. Днём я учился, а вечером пребывал в лазарете, война всё шла и шла, и солдат всё привозили и привозили, и коек уже не хватало, раненых размещать, и я вдруг решил: лучше я на войне пригожусь, поеду-ка я на войну.
Поздно вечером я еле ноги притащил домой, в нашу комнатёнку, что мы с братом снимали. И сказал ему о своём решении.
- Я уеду на войну!
- Ты с ума сошёл...
Брат долго и слёзно говорил мне, что я юн, что я отрок, что мне рано.
- Я уеду!
- Жизнь твоя только началась, тебя убьют на взлёте...
- Пусть! Зато я спасу жизни других!
- Дурак, их убьют следом, завтра...
Брат наливал мне в гранёный стакан горячего чаю, я ухватывал кривую ручку подстаканника и хлебал крепкий чай, обжигая глотку. Тогда мы поссорились, накричали друг на друга. Напоследок, постлавши себе постель, брат угрюмо сказал в стену, не глядя на меня:
- Не спеши, будет ещё война, тебя ещё успеют убить!
А потом обернулся и бросил, как кость собаке, зло и насмешливо:
- И порезать и зашить целую толпу - успеешь.
Тем не менее я сходил с ума. Время передо мной, перед моими глазами, а потом и внутри меня, будто я был женщиной и носил в животе живой огненный плод, то сжималось, то разымалось на части, то ложилось трепещущими слоями, то взрывалось, и я на миг терял зрение и кричал. Да, возможно, я и вправду одною ногой ступал в безумие, зато другою я прочно стоял на земле, я знал: есть болезнь, и есть здравие, и я клал мою молодую жизнь к подножию общей, великой и кровавой Жизни-Распятия, в городе с храмовых колоколен лился то тяжелый и гулкий, то нежный и прозрачно-птичий, весенний звон, а мне было недосуг заходить в церковь помолиться и поставить свечу: я задыхался от работы, и хирургия была моим светом в ночи, слоями моего Времени, моей любовью. Я не знал, что есть любовь, и я все равно женился - на той самой молоденькой нянечке, что керосиновую лампу над голым столом держала, пока я впервые резал человека. Нас обвенчали, несли над нами златые венцы, за скудно накрытым столом люди, знакомые и незнакомые, пили дешёвое вино за наше здоровье и семейство, и мне всё чудилось сном, да это и был сон, сон о счастье и Мiре. Моя нянечка родила мне детей, а я всё дальше, всё бесповоротней уходил по дороге священного безумия. Безумие мое, дитятко, заключалось в том, что я хотел не в одном лишь родном лазарете лечить людей, а пуститься в дальний путь - по земле, по войне, по широкому Мiру, и на этой длинной, страшной и бесконечной дороге лечить, лечить, лечить. Дарить, дарить, дарить. Отдавать, отдавать, отдавать. И не брать. Не брать никогда.
Откуда такое желание ко мне пришло? Я никогда не задумывался о том, что есть Бог. Честно, мне было безразлично, есть Он или нет; главное, был я, и я хотел, я желал, я радовался и страдал, но мне моего "я" было мало. Смертельно мало! Я хотел размножиться. Рассыпаться, разрастись, разлететься на сонмы звёзд, хлебных крошек, брызг спасительной крови. Я совершил в лазарете переливание крови от себя - раненому солдату, и возгордился: я своею кровушкой накормил голодного! Спас обречённого! Солдат, повернув забинтованную голову на подушке, по время переливания глядел на меня. Глаза солдатские слишком светлые, два копья, летят впереди лица, белые, серебряные, будто седые. Эти глаза видели поля смертей. Созвездия смертей. Снопы смертей и ее стога. Убитых людей Время сгребало в стога, а я? Что я делаю тут? Да, людей спасаю. А столько людей на земле - меня ждут! Разве я их покину!
Безумие одолевало. Я снаряжался в путь. Я уже понимал, что сама жизнь, каждый встающий день - это путь; но мне до боли, до слепоты хотелось живого долгого пути по настоящей земле.
Спасать. Исцелять. Я не знал тогда про Пантелеймона Целителя; но я видел себя в пути - то в железной повозке, то в телеге, то пешим ходом я иду, иду всё вперёд, вперёд, и бедные, страждущие, больные люди, что встречаются мне на пути моём, тянут ко мне руки, а я к ним руки тяну, подбегаю, обнимаю их, а потом из котомы достаю вату, бинт, шприц, иглу, коробки и пузырьки с целебными снадобьями, а то и скальпель, - живительный, спасающий нож: и убить можно, и излечить, - а можно убить по ошибке праведника, а можно излечить преступника.
Я догадывался: жизнь не однолика. Много хохочущих и плачущих лиц у жизни. Её не истолковать и не оправдать никому и никогда. Но можно пронзить собою, как иглой, на шприц насаженной, Время. Время! Вот что волновало меня. Я прочитал книгу про старого пророка Нострадамия, меня изумила его история. Врач он был, тот Нострадамий, равно же как и я! А вот поди ж ты, пророчил, угадывал грядущее. Я редко думал о будущем. Я знал: в будущем - смерть. Я отталкивал мысль о ней от себя: я и боялся её, и смирялся перед ней, и ненавидел её, и внушал себе, что она придёт, но не ко мне. А к кому-то другому! Рядом! Близко! А до меня не дойдёт. Споткнётся. Упадёт.
Это тоже был род безумия: я отрицал смерть, прекрасно понимая, что только она одна и есть в жизни. На моих руках уже умирали люди: и под скальпелем на столе, и на железной койке, и на улице, когда стреляли, палили вслепую из-за угла в белый свет, как в копеечку, и я бежал мимо убитых, а внутри меня кричали, вопили их убитые голоса: спаси! Помоги! Даже если нельзя помочь!
ДАЖЕ ЕСЛИ НЕЛЬЗЯ ПОМОЧЬ.
Огнём этот крик горел внутри меня, я его помнил всегда, я пытался стряхнуть с себя это огненное клеймо, но безнадёжный вопль всё звенел в пустом, пахнущем порохом, потрясённом воздухе, и я был потрясён всем: болью, войной, Временем, собой. Я не знал себя. Но каждый Божий день я собирался, снаряжался в путь, и снаряжение это было никакая не экипировка, не добыча крепкой одежды впрок, не покупка провизии, - я, пока дети мои кричали в колыбелях, собирал в долгий путь пожитки сердца моего, собирал скальпели, иглы и кетгуты души моей в дорожную суму. По карманам рассовывал, как тот мимоезжий богатей, дорогие самоцветы и жалкие монеты воспоминаний, признаний, смеха и слёз.
Ты спросишь: может быть, так посетило меня желание совершить подвиг? Молодые люди часто мечтают о подвиге. Я ничего не говорил жене; она хлопотала на кухне, возилась с детьми, а я сутки, недели, месяцы и годы напролёт пребывал в моём родном лазарете - и всё собирался, собирался, собирался в дорогу.
Понимал: да, всё нужно с собою взять - и еду, и тёплые вещи, и лекарства, и хирургические инструменты в стальном контейнере, чтобы на спиртовке можно было их вскипятить, если понадобятся, и обеззаразить; и фотоснимки любимых, незабываемых, и деньги, хоть немного, и, может, даже револьвер, а вдруг придётся отстреливаться от разбойников. Револьвер у нас дома имелся, тихо лежал в верхнем ящике письменного стола. Я не знал, откуда он появился. А брат мне не говорил. Жена знала, где хранится оружие, но тоже молчала. Ничего не спрашивала.
Пораздумав, револьвер я решил не брать. Подумал: если суждено умереть от чужой руки, умру! Приучал себя к мысли о смерти, повторял: она придёт и ко мне. Выбирал день ухода из дома. Со дня на день его откладывал. Задумаешь нечто важное, и всегда оттягиваешь момент, когда надо это важное сделать. Родить.
Бабы вон хорошо говорят: родить, нельзя погодить.
Жена моя то болела, то выздоравливала. Однажды мне причудилось - она умирает. Я напоил её лекарствами, укрыл тремя одеялами. Она молчала. По её лбу катился пот. Она тяжело и долго смотрела на меня. Я - на неё. Я шептал ей: ты будешь жить.
Я повторял старинную молитву: неужели мне одр сей гроб будет?
Дитя моё, прости, я забыл, выздоровела моя жена или умерла. Я так часто хоронил людей. Глубоко во мне звучала музыка, она заслоняла от меня происходящее, как занавеска закрывает горящий перед окном фонарь. А может, мне лишь приснилось, что жена при смерти, и я сижу у её смертного ложа и вслух читаю святую книгу Псалтырь, какую всегда у постелей умирающих читают.
Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие моё. Слышишь, какая музыка?
Я вынашивал мой путь в себе. Я слишком часто и ярко его воображал. Приближал. Уже в руках держал. Мой путь был моей птицей. Моим живым Ангелом. Моим искуплением. Перед тем, как уйти навсегда, укладывая скальпель в железный контейнер, я поцеловал его: так древние князья целовали перед битвой свой меч.
Помню, как на сон грядущий я расцеловал жену и подошёл к нежным кроваткам детей. Дети уже спали. Я склонился и припал губами ко лбу дочки. Потом поцеловал сына. Под моим ртом поплыла волна родных запахов, чуть вспотевшая кожа, поплыла жизнь, стронулась с места и стала уплывать, удаляться, и я не мог её остановить. Время текло нерушимо, невозвратимо. Не помню, сказал я тебе о Времени, дитя? А видишь, как я хорошо всё помню.
И, когда жена уснула, я зашёл в кладовую, подхватил там солдатский мешок, закинул его за спину, перекрестился и беззвучно распахнул дверь и переступил порог.
Что меня вело? Кто надо мной висел то в морозном, то в дурманящем весеннем, то в пыльно-солнечном, то в сыром, уставшем от дождей воздухе, вспыхивая, светясь, неслышно плача, улетая, возвращаясь, мерцая? Я ни о чём не думал. Я шёл. Я превратился в действие.
Есть разница: ты мечтаешь о том, как жить, или ты так живешь.
Я хотел подняться на ступень выше.
Или ты любишь, или ты сама любовь.
Я ещё не знал тогда про святого мученика, что сказал сарацинам: АЗ ЕСМЬ ЛЮБЫ. Но я хотел стать не наблюдателем жизни, а самою жизнью. Ею можно стать лишь тогда, когда ты ничего не боишься. Это трудно. В человеке глубоко и навечно поселился страх. Живёт там, не умирает. Страх бессмертен. Гвозди Распятия в ладонях, во ступнях - тоже страх. Я шёл по своей первой дороге, от дома на вокзал, и вдруг, непонятно почему, постучался в станционный домик: там горело окно. Старая работница железной дороги отворила мне дверь. Я переступил порог, опустил котому наземь. Старая женщина пристально смотрела на меня. Я ждал, когда она меня о чём-то спросит. Она молчала.
Молча набросала дров в подтопок, разогрела чайник. Молча выставила на стол кус подсохшего пирога. Я вынул из перемётной своей сумы хирургический скальпель и, усмехаясь, молча разрезал им, сверкающим, старый пирог. На два куска. Она взяла свой, я - свой. Мы медленно жевали чёрствый пирог, прихлёбывали пахнущий хвоей чай, и я удивился тому, что можно не говорить, молчать. Сидеть и молчать. Есть и молчать. Разговаривать молча. Глазами. Сердцами.
После трапезы я пожал обеими руками её руки. И из её глаз по её щекам покатились слёзы.
Я смотрел на эти слёзы и думал: вот горе, я вижу его, надо помочь.
- Хотите, я буду вашим сыном?
Сморщенное лицо на глазах становилось святым ликом.
- Хочу. Откуда вы знаете, что у меня сына убили?
Не помню, что я ответил. Помню, что прошептала она.
- Ты на войну идёшь, сынок?
- Да. На войну.
- Ну, Господь храни тебя.
И она перекрестила меня широким, неохватным, как ветер, крестом.
Я закрыл глаза и ясно, ярко увидал перед собой её убитого сына. Он лежал на земле, раскинув руки, желая обнять небо. Земля была схвачена морозцем, расчерчена бело-грязными полосами злого хрустального инея; вдали маячил расстрелянный храм, стена осыпалась, и наружу, в ледяной Мiръ, глядели искалеченные фрески, и ветер выдувал вон из сельского придорожного храма всё святое и намоленное. Потом я увидел убитого - живым. Сын вокзальной работницы сидел на корточках перед закопчённым котелком, хлебал расписной деревянной ложкой варево, весело глядел на меня. Сквозь меня. Он меня не видел. Только думал, что видит. Я услышал его далёкий, хриплый и весёлый голос:
- Эгей, Васька, давай, налегай, перед смертью хоть пожрать от пуза, напоследок.
Подошел, вминая сапоги в ласковую плывущую грязь, солдат. Постоял над костром, над котлом.
- Перед смертью, товарищ, Богу молиться надо.
- А не Красной Звезде?
Солдат молчал и стоял над походным котелком, грозный и печальный, как судьба.
А потом повернулся и отошёл прочь: так уходит Время.
И оба солдата исчезли из круга света моих незрячих глаз.
Я бы солгал тебе, дитя, если бы сказал: я не вспоминал жену и детей. Вспоминал! Но светились они сквозь времена словно бы в жизни иной, не моей. Я не умел тогда молиться, но я шептал: Господи, смилуйся, Господи, помоги бедным моим, дальним. Ножки твои замерзли? Дай укутаю их одеялом. Верблюжье, колючее, не греет, где они, милые, быстрые ноженьки твои? Умерли? Ах, нет, вот, живы, ну, грейся, согревайся. Плохо тут топят, печь дымит, а нынче она холодна, мертва. Да не будут топить, видать, мыслят так: всем болящим скоро помирать, нечего на них дрова тратить.
Молод я был! Любви хотел. В карман исцарапанного кошками кожаного пальто руку запускал и мял, сжимал билет на войну. Везде человеку нужен пропуск, билет, разрешение. Пешком на войну слишком долго было идти. А я трясся в железном вонючем вагоне и думал о любви. Надо ведь жадному молодому сердцу любить, без любви оно прах. Я шарил глазами по населению вагона: тот старик, эта старуха, в руках корзина, капустными листьями укрытая, за ними юноша, молочные губы, кисельные щеки, а где же та, о которой я буду мечтать? Твердил себе: мечтай о супруге, это законно, прилично, - но ветер жизни налетал иной, он сдирал с лица старую краску, обрушивал древние стены прочной кладки, и вниз, к земле, по кирпичам лились потоки крови - моей, чужой, небесной. И кровь, распаляясь, текла во мне другая. И всё чаще я видел картины, которые видеть человеку нельзя, иначе он потеряет разум.
Я многого хотел. На многое надеялся. Чтобы возлюбить людей, утешить их и обласкать, я ехал на войну. Война, царство смерти, манила меня новой жизнью.
Если совсем уж честно, я хотел узнать тайну смерти.
Я, молодой врач, уже зревший сто разномастных смертей, её не понимал. Зачем она? Как она происходит? Почему мы вытаскиваем человека из её объятий, иной раз больно, насильно? Зачем исповедаться перед смертью? Зачем прощаться? Где предстоит встреча?
И ещё тьма вопросов жгучими пчёлами летала, жужжала вокруг моей дорожной бессонной башки, и не было мне на них никакого ответа.
И вот, когда наш поезд, перестукивая громадными железными колёсами и всеми стальными потрохами, гремя деревянным утлым скелетом, позванивая жестяными и картонными перегородками ящиков-вагонов, где ютились мы, бедные скитальцы, наконец, весь в саже и дымах, осторожно, как мышкующий лис, подкрадывался к последнему перрону, я вдруг увидел её.
А вот не надо было видеть.
Надо было закрыть глаза.
Но и с закрытыми глазами я бы её увидал.
Русая коса, туго заплетённая, с затылка перевалилась на плечо, текла по груди. Грудь дерзко-высокая, два наметённых за зимнюю долгую ночь сугроба. Щеки бледные, на скулах еле видный, призрачный румянец, потусторонний. Глаза медленно перевела от окна, куда глядела неотрывно, на меня. Я чуть не закричал: меня обожгло чистой небесной синевой. Я и не думал, что живые радужки могут хранить внутри такую Богородичную синь. Подняла руку и поправила пшеничную длинную прядь, завернула за ухо. Голова непокрытая, шубейка расстёгнута, кудрявая овечья шкура радостно выворачивается наружу. Я различал капельки пота у неё над губой. Не помню, рот улыбался или был скорбно сомкнут. Только небесные глаза летели сквозь меня. Я прочитал в этих странных, иномiрных очах лишь одно, ужасающее, желанное: Я ТВОЯ ДУША.
Душа? А где она?
Что такое душа?
И зачем она в теле живёт?
Мои глаза вливались в её глаза, поселялись там навек, жили, плавали, вспыхивали, перемещались, припоминали, забывали. Из её синевы покатились светлые слёзы, и я заплакал. Слёз моих я не стыдился: разве себя перед своею душой стыдятся?
Она чуть выпрямилась, и я увидал, какая она мощная. Спину выгнула. Сильная стать. Крепкая, тяжёлая и радостная лепка лица. Щеки зарозовели сильнее, зарёй в полях. По полю её груди могли идти кони, коровы, молчаливые люди - вдаль, далеко, к новым небесам. Складки холстины струились, сама себе она в полутьме избы пошила платье, сама износит, сама сошьёт и саван, когда время придёт.
Я встал с жёлто-соломенной деревянной скамьи и направился к ней. И, пока я шёл, я видел: тает лик, тают сильные рабочие руки, разымается на туман и тучи щека, заволакивается пеленою снега ясная слепящая синева. Где ты? Где ты, моя Душа? Зачем я не спросил тебя о главном? Куда мне идти? Прав ли я, что выбрал такую жизнь? Или это жизнь сама, смеясь надо мною во весь голос, выбрала меня?
Я растерянно стоял около пустой скамьи. Возможно, красивая синеглазая молодуха вышла на недавней остановке. А я не заметил, как железная гусеница встала, постояла, потом опять покатила вперёд. Все вперёд и вперёд. Все вдаль и вдаль.
Для себя я назвал красавицу Душенькой. Душенька, Душенька, шептал я, ты же моя Душенька, как же долго я жил без тебя.
Поезд содрогнулся и остановился.
Дальше не поехал.
Мы прибыли на войну.
Я, вместе со всеми, вышел на перрон и стал прислушиваться: где стреляют, где взрывы, где канонада, в какой стороне? Пространство молчало. Воздух нежно дрожал. Сколько мы ехали? Я не знал. Неделю, месяц, год, два? Когда я воочию узрел мою Душу, Времени уже не существовало. Я привыкал жить без Времени, но это было не безвременье; скорее вневременье. Да, я уже шёл по перрону и улыбался вне Времени, и мне было так легко, невесомо, я готов был расцеловать каждого встречного-поперечного, всякого, кто попадался на пути - хоть царя, хоть генерала, хоть комиссара, хоть торговца, хоть нищего, калику перехожего. Мой народ гомонил и кричал вокруг меня, и мне счастливо было чуять себя его семенем, маковой росинкой.
Шёл и шёл, спросил прохожего, где идут бои; мужик показал мне, прищурился, однорукий, пощупал целой рукой пустой рукав.
- Иди пешком, а хочешь, найми шофера, а хочешь, останови телегу!
Я поглядел на дорогу. По ней катили грузовики, изящные авто, нелепые велосипеды с колесами огромными, как облака; грохотали танки. Я впервые увидел танк и содрогнулся. Таким железным домом на скрежещущих гусеницах можно раздавить в кровавую лепешку землю, годы, жизнь. И раздавленное - не воскресить.
А разве после смерти обязательно воскреснуть?
И кто, и зачем тебя воскресит?
Я вспомнил моих мертвецов в лазарете. Они мучились, выгибались на койке, обирали дрожащими скрюченными пальцами мятую простынь, потом опадали, как выбитый ковёр, кто прикрывал тяжёлые веки, кто так и лежал, с настежь открытыми, недвижными, мерцающими подземным льдом глазами. Смотрел я на них, юный врач, и думал: нет, нету там, за могилой, ничегошеньки, никаких мытарств, никакого воздаяния, никакого Ада и Рая. Ничего нет. Чернота. Пустота.
На дорогу я глядел, телег не видел.
- А разве сейчас остались лошади?
Мужик присвистнул и мелко, дробненько захохотал, и обнажились редкие, жалкие зубёшки.
- А как же! Сотни лошадок! Тыщи! Не сочтёшь! Кормилицы наши, поилицы... возилицы...
Я оглядывался.
- Да нет, говорю тебе! Какие лошади! Какие телеги!
Я шагнул на проезжую часть и вскинул руку. Остановилась железная повозка, водитель выглянул в окно, я встал на высокую ступеньку, забрался в кабину. Никогда не видал я таких машин, а вот увидел. Чудно ехать, сверху, из царской кабины, глядеть на мчащийся вокруг невозвратный Мiръ.
- Куда тебе, старик?
- Я не старик.
- Брось! Все мы старики! В Лопасню, что ли? По дороге!
- Туда, где люди людей убивают, - тихо ответил я.
И парень, курево в зубах, снеговая улыбка, больше ничего не спросил меня.
Ехали молча и глядели в никуда.
Милая, светлая моя! Согрелась? Обо мне не беспокойся. Кому я сейчас нужен, горячий ли, замерзший! Помню то великое, дегтярно-чёрное звёздное небо над полем моего первого боя. Слух пронесся меж солдатами: доктор приехал! Все сбежались глядеть на меня, как на диво. Пытались накормить. Я ел. Где я спал? Окопы, хатки, палатки, землянки, разрушенные срубы, сгоревшие сараи. Мы жили везде и спали везде. Не жалуясь, не разбирая. На войне никто ничего не говорит, только все всё делают. Война - молчаливое искусство.
Отдаются только приказы. Звенят крики команд.
И гром залпа. И летит огненная смерть.
Наше дело правое. Мы победим. А если не победим?
Что нас ждёт? Нас всех? И врагов, и друзей?
Некогда было искать ответов. Я еле успевал поворачиваться. Обезболить. Перевязать. Вытащить пулю. Выпростать из красного мяса дикий чёрный осколок, стальной коготь. Десятки осколков, иной раз и сотни, не вытащишь, изымешь лишь самые крупные, чтобы сильной муки не причиняли. Раны воспалялись. Гноились. Я вытирал лицо от пота и слёз гимнастеркой: мне выдали обмундирование; глубже надвигал на лоб каску: бойцы кричали, ты, доктор, ты давай береги себя, ты тут у нас один-единственный, тебя убьют, и кончен бал, погасли свечи, и в тюрьме моей темно! Кто нас будет спасать? Жизнь нам возвращать? Под моими руками не только оживали - умирали люди. Смерть солдата в бою, смерть солдата в лазарете. В бою - погиб смертью храбрых, а в лазарете? В лазарете - какою смертью умер? Почётной? Или незаметной? Назавтра тебя, лазаретный окровавленный тюфяк, забудут. Вынесут на задворки и сожгут. Подожгут старую газету, бросят в тебя, и займешься ты великим пламенем, и сгоришь в одну минуту, как тебя и не бывало.
Ночами солдаты старались отдохнуть - и мы, и враги. Бой развязывали рано утром. Немного поспали - и за работу. Работа смерти тяжела. Страшна? Да. Первое, самое первое время. Потом привыкаешь. Глядишь из-под затянутой пятнистой тканью каски вокруг, туда-сюда. Откуда смерть твоя прилетит? И кто о тебе заплачет?
То и дело я оперировал моих воинов. Говорю "моих", ибо все они были моими, принадлежностью моих врачебных мыслей, моей души, моих работающих неусыпных рук, моего страдающего духа. Очень много было ранений в живот и в голову. В животе таится жизнь; в голове живёт мысль. А дух? Где он живёт? А душа? Душа?
Душенька...
Солдаты соорудили мне в огромной, как цирк шапито, палатке хирургический стол - необъятный, как зимнее тоскливое поле в играющей обезумевшими звёздами ночи, когда нельзя до дна вдохнуть мороз: обожжёшь лёгкие. И без перерыва, дико, скорбно и умалишённо, всё несли и несли, всё тащили и тащили мне на этот стол раненых. Пока они жили ещё - раненые. Если я их не прооперирую, через минуту они будут трупами. Я это понимал! И руки мои наливались чугуном ярости. И, когда я взмахивал руками, обтянутыми резиновыми перчатками, над разъятым операционным полем, они, руки мои, становились лёгкими перьями, облачными крыльями, птицами в приговорённой к чёрной казни синеве. И летали. И точно хватали, и жестоко и быстро резали. И шили, шили, шили.
Кройка и шитье.
Опять полостное ранение, и опять пуля застряла глубоко, в потоках крови, месиве мышц её не так-то просто изловить. На войне ничего не происходит случайно. Особенно смерть. Говорят: вот, он пошёл в бой, и его случайно подстрелили! Нет. Ему всё было назначено. Война - слишком многозубый гребень, а коса Времени слишком густа. Мы издаём крик, когда гибнем. Я слышал эти последние крики. Я видел, как на моём рабочем громадном столе, под моим узким зрячим скальпелем, мечется человек, предсмертно хрипит, прерывисто вздыхает, охваченный страхом, тоскою, ужасом. Это ужас перед вечностью. Вечность совсем не высока, она не подобна небу. Она страшна и уродлива. Ибо для многих она - пустота. Под моей рукой, во вскрытой грудной клетке, билось и дрожало чужое сердце. Разрезана брюшная полость, сломаны рёбра, надо делать прямой массаж сердца, иначе оно остановится от болевого шока. Может, сделать укол камфоры прямо в сердечную мышцу? Я твердил себе: мышца, мышца, это всего лишь кровавая мышца, - я приказывал подать мне один препарат, другой, солдаты толклись рядом серой призрачной мошкарой, и каждый из них был человек, и они смотрели на распяленного на деревянном столе человека, и гадали, выживет или не выживет. А сам раненый с ужасом глядел на меня. На скальпель в моей занесённой над ним руке. Поворачивал голову. Оглядывал стол, резиновые трубки, хирургические железяки, веревки, коими был к столу крепко привязан, чтобы вдруг не дёрнулся от жуткой боли, не свалился наземь. В мечущихся туда-сюда его глазах я читал: вы не врач! Вы сатана! Вы стоите у входа в Ад! Вы меня не спасёте, а прямо в горловину смерти введёте! И бросите там! Навек! Навсегда! Дигоксин, кричал я, быстро мне дигоксин! Солдат, что мне ассистировал, в мiру учился на врача и разбирался в названиях лекарств. Он набирал снадобье в шприц и протягивал мне, не глядя на меня, а глядя на раненого. На умирающего.
Белый халат. Белая маска. Я не должен дышать на больного. Иначе я могу его заразить; а вдруг у меня грипп? Раненый начинал мотать головой из стороны в сторону. Будто гневно, полоумно отрицал нечто, отвергал. Таким движением можно вызвать у себя сильнейшее головокружение, опьяниться, забыться, потерять разум. Резиновые перчатки обтягивали мои руки, будто их окунули в клей, и они высохли, и пальцы слиплись, надо их растопырить, две пятерни. Я поднимал обе резиновые руки над красным ковром пульсирующих внутренностей. И нечем, нечем мне было больного усыпить. На время? Навеки?
- Тебе холодно?.. ты согреться хочешь... согреться... Ребята, закутайте ему ноги... ну хоть чем... хоть курткой, хоть портками...
Я работал. Солдат, что в иной жизни учился на врача, зажимал кровеносные сосуды, чтобы операционное поле не заливалось кровью. Кровь, священная жидкость. Китайцы учили о священных жидкостях в теле человека: кровь, лимфа, сперма, слюна. Другой солдат заматывал ноги раненого в его же, насквозь пропитанные и заляпанные кровью, камуфляжные штаны. Но, и это было ужаснее всего, я понимал, я сердцем читал это в его всё тише бьющемся сердце: всё напрасно, не жилец.
Мотор жизни. Как он хорошо, жестоко работает. Неостановимо. И вот останавливается. Всего лишь миг! Я, хирург, разымаю острым тонким ножом чужое тело на части. Потом эти части сшиваю. Разве сердце страдает? Разве болит и плачет душа? Плачут глаза, болит тело. Сердце испытывает тоску... разве это не обман? Самого себя и других? Тоскует наша мысль, не находя выхода, утратив радость существования. А сердце, вот оно: мешок с кровью, и бьётся ритмично, сдвоенно, систола-диастола, и больше ничего.
Не уходи! Парень, не исчезай! Куда ты!
Я всадил иглу прямо в этот плывущий в крови живой корабль, в этот треугольный, залитый красной болью кисет, лекарство медленно уходило из шприца вглубь чужой плоти, плоть пила последний напиток, последнюю надежду, а я надеяться уже перестал. Не зверь, а человек умирает! Но ведь зверь умирает так же! Ему больно! Ему томно! Страшно! Тоскливо! Какой ужас: больной не теряет сознания, стоп, подожди, ещё не началась агония, ох, какая уж тут, к лешему, агония, сейчас всё произойдет, очень быстро, быстро и просто, не успеешь оглянуться!
Сердце, сосуды, артерии и вены, мышцы, мускулы, кости, я всё для вас сделал, всё сделал, всё...
Ещё есть рефлекс. На прикосновение. На укус иглы. Есть ещё. Есть.
Всё медленнее. Всё тише. Всё безысходней. Всё нежнее.
Я положил скальпель рядом с ним. Около его головы. Живой маятник замедлял ход. Мне почудилось: его череп медный. Послышалось: кость звенит, ударяясь о пахнущий гарью воздух.
...это как море, безумный столетний прибой, что мерно и бесконечно накатывается на берег, его неслышно целуя, и опять отхлынет, туда, далеко, к рыбам и подводным гадам, и опять подбирается вкрадчиво, смятенно, играя, полыхая всеми карминными, мандаринными, изумрудными глубинами, а может, всей топью, грязной и заразной, ужасом всех саргассовых змеиных сплетений, беспросветной темью всех болот, придонными тучами взметённого осьминогом ила, я никогда не видел моря, но я его сердцем увидал, когда под моими резиновыми руками вспыхивало и гасло солёное, облитое кровью сердце, святою кровью, бедной, нищею кровью, я держал его, я прижимал к нему ладони, под ладонью оно дёргалось, бессловесно крича мне: ещё!.. ещё!.. ещё немного!.. и уже не кричало, а хрипело, уже не вопило мне, а никло, таяло и тихо плакало, сердце, во вскрытой грудной клетке, тоже умело плакать, красные капли стекали по судорожному тику слепой мышцы, по дрожащей сердечной щеке, деточка моя, я ощущал, сам колыхаясь, шатаясь на палубе корабля смерти, как ползут у меня по лицу - у меня!.. - густые, тяжёлые, жгучие, крупные, пьяно-солёные капли, и я слизывал их, глотал, а море смерти всё надвигалось, волна смерти всё поднималась и никак не могла обрушиться, а больной всё тщательнее скрывал свою близкую смерть, всё горячее притворялся живым, прикидывался бессмертным, и я уже почти поверил, я отнял холодные точные руки от плывущего вдаль пьяного сердца, а слёзы всё текли по нему, вниз, во тьму, и по моим щекам, под белой маской, тоже текли красные слёзы. Девочка моя! Как плохо плакать кровью! Кровь прорезает у тебя на щеках несмываемые морщины. Ты, молодой, желторотый, враз становишься старым. Душа твоя на глазах твоих дряхлеет. Окостеневает. Застывает.
Душенька...
Он волновался, переходя во тьму. Я это видел. Сердцем. Он терял регуляцию мышечной деятельности. Из-за страха: страх медленно накрывал его чёрной нефтяной простыней. Я стал путать чёрный и белый цвет. Чёрный халат. Чёрная маска. Чёрный скальпель, положенный мною рядом с медным виском. Медным лбом. Медными волосами. Почему он весь медный? Зачем он застыл в холоде древнего сплава? И уже патиной, паутинной зеленью затянуты тяжёлые веки. Резко, вызовом торчащая, исцарапанная скула.
- Не волнуйся, всё случится как надо.
Я вышептал это, себя не помня. Зачем я сломал ему рёбра? Зачем добывал из недр его памяти и боли сердце, такое живое? Невозможно остановить смерть. Она придёт ко всем. Война щедро дарит её, раздает направо и налево; и стараться не надо отыскать её секрет.
Рядом, в палатке, за тонким слоем бесполезного брезента, кричали люди. Мои больные. У одного была флегмона тазобедренного сустава, у другого ранение лица, и рана загноилась, как я ни лил щедрой бестрепетной рукою спирт. У третьего... четвертого... пятого... шестого...
У них у всех был один диагноз: СМЕРТЬ, и я не понимал, как можно этот приговор повернуть вспять.
Время же нельзя повернуть вспять. Время есть время.
Смерть есть смерть.
Может быть, это одно и то же, думал я.
Я опять положил руки ему на сердце. Всё тише, спокойнее билось оно. И моё тоже успокаивалось. Это было странно, но наши сердца бились в унисон. Оба утихали одновременно. Вот удары раздавались уже раз в десять секунд. Раз в полминуты. Раз в минуту. Вот прекратились совсем.
Я ждал. Держал чужое сердце в мёртвых руках. Главное, не зарыдать, я не любил плачущих мужчин, тем паче плачущих, над телом больного, хирургов. Хирурги пламенны, они не плачут. А что они делают, если под их руками, на столе спасения, умирает больной?
...всё сердце оплетено волокнами, красными водорослями, оно лежит будто бутыль вкусного вина в плетёной из краснотала корзине, блуждающий нерв то будит ужас и страсть, то усыпляет холодную бдительность, нервная система работает как часы, чувства обнимают одинокого человека, и вот он уже не одинок, но кто-то чёрный, там, за камнем, за угрюмой скалой, берёт булыжник и заносит над стеклянным циферблатом, и ударяет, и разбивает в алмазные осколки, в брызги, в кровь, в прах. Всё. Нет больше отлаженных часов. Нет нервов, сосудов и сухожилий. Есть красная каша из живого и мёртвого. Рвутся ростки. Развязываются водорослевые узлы. Распадаются в пыль волокна, нити, верёвки. Нет ничего. Нет.
Уже нет. Или ещё нет?
...БЫЛО В СЕРДЦЕ МОЁМ, КАК БЫ ГОРЯЩИЙ ОГОНЬ.
Откуда ударили мне в грудь эти слова? Зачем я их услышал? Чья-то жалобная рука тихо коснулась моего онемевшего локтя, и голос рядом мрачно промолвил:
- Доктор, не стойте так, не держите его больше, всё, амба.
Я оторвал неподъемные руки от иного тела. Оно было и вправду иное. Не просто чужое, но чуждое. Принадлежность Иного Мiра. Человек лежал передо мной, вытянулся, молчал. Спал. Может, он широко распахнутыми, белыми от пережитого ужаса глазами видел меня? Он глядел на меня. Я протянул руку и рукою в окровавленной перчатке закрыл ему глаза. Кровь испятнала его лицо, в полевом лазарете уже заросшее щетиной.
- Я не хотел... прости...
Я вслепую цапнул с маленького стола, что бойцы соорудили из пустых ящиков, многослойную марлю и нежно, осторожно протёр ему заляпанное его же кровью, чистое от дыхания смерти лицо. Вот он воевал, и он умер. И я держал в руках его сердце.
Сердце человека.
Я понял: тайна кроется в самом биении сердца. В утраченном. В том, что ты потерял.
Оно и есть самое дорогое.
Живёт ли эта тайна вечно, об этом надлежало узнать.
Нет. Зачем распахивать тайну скальпелем знания.
В это надлежало ПОВЕРИТЬ.
Я отошёл от хирургического стола. Тот, кто учился в жизни иной на врача, стащил с моих вытянутых рук перчатки. Я сказал ему спасибо. Люди вокруг молчали. Я не чувствовал, что я на войне. Может, там, в близком поле, опять грохотали взрывы и свистели пули. Я не слышал. Под моими голыми руками всё так же билось, кричало чужое сердце, и оно было моё, и оно было - я.
Ночь тоже билась над нами, замершими в спальных мешках в палатках, всеми своими звёздами. Я не спал. В открытые глаза втекала тьма. Я встал, надел тёплую куртку и вышел вон. Сам себе казался медведем, что выполз из берлоги посреди зимы. Ветер крутил прозрачную позёмку. Иней расписал узорами впадины и трещины земли. Звёзды мёрзли, дрожали над полем и бессильно падали в воронки от снарядов. Я стоял без мыслей, без чувств. Лучшее, что я мог сделать на войне, это перестать мыслить и чувствовать. Если буду мыслить и страдать, не смогу оперировать. Лучше так. Свободно. Спокойно. Над полем. Стоять, как лететь.
Я глядел в Мiръ, убитый войной. Вдруг с неба стал сочиться тихий свет. До рассвета ещё далеко. Взрыв? Пожар? Оружейные склады горят. Или бомбят ближний город? А мы тут, в поле, спим.
Свет разгорался и приближался. Он был плотным, хоть и бестелесным, нежно мерцал и снова затихал, становился ровным: струением позолоты, льющимся молоком. Он всё сильнее, а я всё растерянней. Я испытал страх, но не тот страх, когда в тебя летит бомба, пуля. Другой. Когда я почуял исходящий от света жар, меня будто кто невидимый в спину толкнул. И я повалился на колени.
Перед светом.
Деточка, ты вставала когда-нибудь на колени? Да? Тогда ты знаешь это чувство. Ты молчишь, а изнутри тебя поднимается голос. Он твой, и вроде бы не твой. Извне. Он звучит в тебе всё громче. Ты радуешься ему, и ты ужасаешься его. Голос звучал и во мне. Зимнее поле со всех сторон охватывало меня молчанием. Небо обнимало меня вечным молчанием, и оно ужасало меня. Я глядел вверх, и звёзды меркли, ибо свет разгорался. Волосы на голове моей поднялись. Голос звучал теперь не только внутри меня, но и рядом, поблизости, и кругом, и везде, и вот он поплыл на меня с небес. Голос стал всем сущим: полем вокруг, моим прошлым, моим вчера, моим пугающим, в облаках танцующим завтра, жизнями людей, сверкающими инструментами, коими я дирижировал чужой болью и счастьем, возрождая или убивая. И я смирился перед ним, и я склонил голову перед ним. И я запоминал всё, что он говорил мне.
И голос говорил.
И я слушал.
И по мере того, как я слышал и слушал его, я стал молча ему отвечать.
Мы говорили.
ЗАЧЕМ ТЫ НЕ ВЕРУЕШЬ В МЕНЯ? СМЕЕШЬСЯ НАДО МНОЙ?
Я не смеюсь над тобой. Я не знаю, кто ты.
ТЫ ВСЁ ЗНАЕШЬ, КТО Я.
Не ведаю. Прости меня.
Я ТОТ, КТО ПОД ТВОИМИ РУКАМИ УМЕР СЕГОДНЯ. Я ЕГО ДУША. Я ЕГО СЕРДЦЕ.
Быть не может. Человек умирает навсегда. И не становится светом. Его в землю кладут и землёй засыпают.
Я ЕСМЬ ВСЕ ЛЮДИ.
Не может быть. Каждый человек отделен. Каждый человек это Мiръ.
Я ЕСМЬ ЗЕМЛЯ, ВОДА, КАМНИ И ВОЗДУХ.
Ты свет, я это сейчас вижу. Ты не камень и не земля. Эта земля полита кровью. Мы ложимся в неё, убитые.
Я ЕСМЬ ОГОНЬ И НЕБО.
Ты льёшься с неба, я вижу. Свет и огонь, они братья.
Я ЕСМЬ ВСЕЛЕННАЯ.
Не верю. Ты просто свет.
Я ЕСМЬ ПРОСТРАНСТВО.
Что такое пространство?
Я ЕСМЬ ВРЕМЯ.
Как тебя исчислить? Запомнить?
Я ЕСМЬ ТВОЯ КРОВЬ. ОНА ПОМНИТ ВСЁ.
Кровь вытечет, если перерезать жилы.
Я ЕСМЬ ТВОЙ ГОСПОДЬ.
При звучании небесного рассветного голоса я сотрясся, будто был спокойно спящей землёй, и меня рассек надвое сильнейший подземный удар.
Господь, Господь! Но ведь Тебя выдумали люди, чтобы им спать спокойно! И на земле, и под землёй! Ты творение людей! Люди строят Тебе храмы, малюют Твои иконы, шепчут Тебе молитвы, но никто и никогда не видел Тебя!
МЕНЯ ВИДЕЛО МНОГО ЛЮДЕЙ ОТ СОТВОРЕНИЯ МIРА. НО МНОГИЕ СЧАСТЛИВЦЫ НЕ ВИДЕЛИ, И УВЕРОВАЛИ В МЕНЯ.
Я не верую! Прости!
ВЕРУЙ И МОЛИСЬ.
Не могу!
ПЕРЕСТУПИ ЧЕРЕЗ НЕМОЩЬ.
Не умею!
БУДЬ СИЛЬНЫМ.
Я слаб!
ИДИ ВПЕРЁД.
Я иду! Но ведь я на самом деле стою на месте! Это Время обтекает меня, движется мимо меня! Я несчастный одинокий остров! Лишь птицы живут на его берегах! А люди приплывают и уплывают, приходят и уходят!
ВОЗЬМИ МЕНЯ ЗА РУКУ.
Боюсь!
НЕ БОЙСЯ. НИКОГДА НИЧЕГО НЕ БОЙСЯ. СО МНОЮ ТЫ СИЛЁН.
Как это может быть?!
СО МНОЮ ТЫ БЕССМЕРТЕН.
Это несбыточно! Смерть - есть! Она есть всегда! Она есть и для Тебя!
ОНА ЧАСТЬ МЕНЯ. ЛЮБИ МЕНЯ. МОЛИСЬ МНЕ. УВИДИШЬ, ЧТО БУДЕТ.
Мой голос оборвался во мне сухой заиндевелой травой. Я все ещё стоял на коленях, и колени мои прожигал смертельный холод, он поднимался из глубины земли, из недр войны и мороза. Колени примерзали к бугристой почве. Камни больно в них врезались. Я стоял и понимал наказанных детей, коих ставят за провинность в угол на горох. Мне чудилось, из моих коленей течет кровь и питает нищую землю. Я все ещё задирал голову к небу, а свет уже начинал таять, разыматься на тонкие лучи, на сонные сполохи, на мигающие створы. Вот от него, громадного, на полнеба, остался среди звёзд один лишь пылающий тусклый фонарь. Керосиновая лампа. Свеча. Лучина. Тлеющая в остылой печи головня. Но и она погасла.
Умерла.
Кто со мной говорил? Неужели Господь Бог? Значит, всё не выдумки? Значит, напрасно одни наглые, жестокие люди смеются, а другие, нежные и покорные, верно соблюдают посты и обряды, длинной лентой движутся в сияющем храме к Причастию? Я вспомнил молитвы, какие знал. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим... Отче наш... Богородице Дево, радуйся... Да воскреснет Бог и расточатся врази Его... Рот бормотал начальные слова молитв; нет, не они нужны мне сейчас, мне нужен я сам. Спеть Господу мою песню. А разве у тебя, жалкий грешник, человече, кромсающий особым ножом живые тела, спасая либо губя, разве у тебя есть за пазухой песня?
Я впервые в жизни молился. Не молитвой из Молитвослова, что смирно лежал у покойного отца между иными книгами. Я молился сам, как мог, и молитва моя была странной, дикой и прекрасной. И не было ей конца.
...Господи, сделай так, чтобы я мог всю мою жизнь оперировать людей. Лечить. Лечить людей, это высшее благо. А ещё дай мне, прошу, особый дар. Только не смейся надо мной, Господи. Я хочу видеть Время. Провидеть его. Глядеть в его солёное колыханье и зреть, что там, в синеве, в клубящейся тьме, на самом дне. Где камни, водоросли, мох, искры мальков, живые бинты миног и угрей, глубоководные чудища. Люди не ведают Времени. Потому что они его не любят! Время слишком страшно. Оно то разымается, то смыкается. Говорят, в чужестранных морях, на большой глубине, ютится меж камней огромный моллюск, и, если нога или рука бедного ныряльщика попадёт между его открытых створок, они жадно захлопнутся: чудовище поймает еду, а пловец закричит истошно, да крика под водой никто не услышит, и, пока он будет, теряя мысли от боли, подниматься на поверхность воды, за ним потянется красная мантия крови. Она тут же растает в изумрудной толще огненным призраком. А человек вынырнет, солнце ударит его в лицо, но он всё равно умрёт. Умрёт от болевого шока либо от потери крови. Я знаю.
...нет. Он умрёт потому, что пришёл его срок.
И Господь его взял к Себе.
...Господи, а ещё сделай так, чтобы я по-новому ощутил жизнь и смерть. Я молод, но я уже так устал! Я хочу понять смерть. Иначе, чем вчера. Я её боялся. Она была мне противна. Я с ней смирялся. Я от неё отворачивался. Я относился к ней холодно и спокойно, старался её не замечать, хотя и принимать к сведению. "Доктор! Доктор! Сегодня в третьей палате умерла больная, от перитонита, гной откачали, но не предотвратили сепсис, заражение крови, высокая температура, несовместимая с жизнью. Экзитус леталис". Летать, улетать! Латынь тут ни при чём. Я иногда даже улыбался, когда медицинская сестра давала мне отчёт о жизнях и смертях в моём лазарете. Никто не спрашивал, почему я улыбаюсь, не говорил, что это невежливо или глупо. Мало ли что человек вспомнил, слушая речь о том, как другие умерли. Другие! Но не я. Не я! Не я! Я не умру!
Господи, да ведь и я умру. И все мы умрём; в особенности бойцы, здесь, на войне. Я среди солдат сам солдат. Я воюю со смертью. Каждый день, а то и ночью. Операционное поле освещают походными лампами. Иногда свечой. Живой огонь тоже позволяет увидеть детали внутренностей. Определить, что там, внутри у жизни - флегмона, карбункул, остеомиелит, свищ. Господи! Дай мне обнять смерть. Сделай её моей подругой!
И главное, Господи, дай мне узнать, что же такое душа. Что такое дух! И, озарённое ими, бестелесными, изнутри навек, на все посмертие, что же такое тело! Что есть наше тело, хилое, слабое, дрожащее, крепкое, богатырское, всё перекатывается играющими мышцами, никнет увялым стеблем, тело зверское, тело хищное, тело просящее, тело молящее, тело беспомощное, тело помогающее, тело плывущее, тело застылое, тело обнимающее, тело убивающее! Всё, что делается на земле, делают тела! Перемещаются в пространстве, сетуют на Время! Бормочут живым ртом то хвалы, то обиды! Сжимают в живых руках вечную любовь, а завтра с нею простятся навсегда! Хочу понять, что же тело такое! Почему я его оперирую, холодно прищурясь, а огонь горит во мне, внутри, горит там, где у меня сердце, под рёбрами, и, если я ошибусь, если плохой разрез сделаю, бесстрашно не выну червеобразный отросток ужаса, боли, тьмы, не выдеру вон из распластанного на столе человека, огонь во мне погаснет, и сам я почую смерть. И это я нынче умру. Отойдя от стола, будто палач от эшафота. И это я нынче не воскресну. Господи! Дай мне понять, что такое душа, и, может, это она во мне на всех моих операциях горит!
Дух, а что есть дух, Господи?! Не Ты ли сам и есть наш дух? Всеобщий дух, всесветный! Всемiрный! Необъятный! Да мы и не стремимся Тебя обнять. Я понял: перед Тобой склониться надо! Вот так, так стоять на коленях, и это не стыдно, это не смешно, это не мучительно, а радостно, счастливо, так упоённо впервые мне молиться Тебе, что я теряю от Твоего небесного праздника разум! Да разум мне и не нужен. Он мне нужен, чтобы наблюдать сочленения костей и перевивания кровеносных сосудов! А так - никакого не хочу разумения! Зачем мне оно! Сопоставлять? Решать? Загадывать? Разрезать плоть жизни вдоль и поперёк? Да, я есмь хирург! Я острый, опасный скальпель! Я режу, кромсаю направо и налево! Я страшен. Для врагов. Ибо я вооружён. Смерть - враг? Да первый враг! Самый главный! Человек только и делает, что борется со смертью! И всё равно умирает.
Господи, дай мне храбрость и спокойствие глядеть прямо в безносый череп смерти! Не убоюсь её. Приму её. Только, пока я жив и топчу землю, не дай мне умереть: при жизни.
Девочка моя, я не думал-не гадал, что на войне встречу того, кого буду любить, кому буду поклоняться, с кем буду сражаться не на жизнь, а на смерть, от кого буду терпеть побои и унижения, кому буду поверять все сокровенные чувства, с кем вместе буду раздумывать над нашей общей судьбой и вместе идти вперёд. Этот человек был, как и я, хирург.
Почему был? Может, он жив. Не знаю. А может, война сжевала его, кусок хлебной плоти.
Война нас всех сжуёт. Не пожалеет.
Работа у неё такая.
НИКОЛАЙ
Хирург. Безжалостный? Да. А зачем жалость, если речь идет о жизни. Две у тебя ноги или одна - а какая разница, если ты умрёшь. Я не просто оперирую: я предотвращаю. Тело - жратва для микробов. Один мой друг сказал: жизнь на земле убьют мельчайшие существа. Невидимые. Они выживут в любой войне и радостно размножатся там, где всё живое окочурится. Меня послали на войну, и я поехал. Я выполнил приказ. Хирургия моя проста, как лапоть. Не дать развиться инфекции. Это значит, вырезать из тела все больные ткани и не бояться отхватить даже кусок здорового мяса. Все телеса прошиты осколками, какая уж тут жизнь! Назавтра разовьется флегмона, а то и гангрена. И пиши пропало. Труп. Я работаю так: делаю широкий разрез, рассекаю рану. Оставляю её открытой. Шить нельзя. Иначе бактерии сожрут больного изнутри.
Многообразны военные травмы. Несть им числа. Я устал. Честно, я очень устал. У меня в глазах рябит от вида окровавленных тел, рваных ран, разрезов, зажимов. Особенно страшны раны живота. Я вспоминаю: от пули в живот, пущенной в него на дуэли, умер наш великий поэт. А тут не великие поэты, а простые солдатики мрут, как мухи, от полостных ранений. Если тебя ранили в живот, нужно побыстрее на стол. Пройдет время, и будет поздно. Ты умрёшь. Как и не было тебя на свете.
Череп, это очень сложно. Я никогда не делал трепанацию черепа. Неужели здесь придётся? Не могу взять в толк, как надо разымать кости черепа. Целая наука. Я запасся книжками. Найду, прочитаю. И всё буду делать по книжке, ха-ха. Может, получится. Но не верю. Скорей всего, мой первый череп умрёт прямо на столе. И я сам закрою ему глаза.
А ведь есть ещё грудь, руки-ноги, челюсти, глаза. Глаза! Я не офтальмолог. Я не смогу. Это другого сорта хирургия. Нужны лупы, зеркала, яркий свет, особые инструменты. У меня тут их нет. Значит, остается одно: лишать бойца глаза. Ну и что, кривой-косой, женилка цела, девки всё равно полюбят.
Я впервые видел всё страшное: взрывы, бомбежку, как земля чёрным веером вверх летит, раненых видел впервые. Кого на носилках тащат, кого под мышки да под коленки волокут. Брякают на стол. Товарищ военврач, срочно! Помирает! Я гляжу. Диагноз выкрикиваю. Мелкоосколочные в грудь, крупный осколок в брюшной полости, череп пробит! Соображаю: ранения, несовместимые с жизнью. Сейчас мужик умрёт. Прямо на моих руках. А люди надеются. Встали рядком вокруг меня и глядят на меня. Пристально глядят. А я ничего не могу сделать.
Начинаю делать. Делать нечего. Надо делать.
Человек на свете делает дело. Иного не дано.
На том свете делать он уже ничего не сможет. Того света просто нет.
Больно! Больно! Кто это кричит? Мой больной? Да, вон на той койке, у окна. Лазарет расположился в пробитом снарядами домишке около мутной речонки, она течёт в никуда. Я подхожу. Больно? Потерпи, друг. Больно будет недолго. Он умолкает. Помру, доктор, что ли? Криво усмехаюсь. Кто тебе это сказал? Бормочет: я сам знаю. Я ему, зло: ну, так если сам знаешь, лежи да не ори. Не терзай других раненых.
Осколочных ранений тьма-тьмущая. То и дело осколки в ведро выбрасываю, они звенят. Спать лягу - этот звон у меня в ушах. Кого оперирую под местной анестезией, новокаин вкачу, они лежат, зубами скрипят, иной раз я им между зубов щепку вставляю, чтобы вгрызлись крепче и не орали. Терпят. А кому даю общий наркоз. Мне ещё в городе присоветовали, в госпитале: ты там раненых щади. Они и так в бою побывали. Смертушку в рожу видали. Жалей их. А тебе что, эфира жалко?
Эфир. Нежное название. Ночной зефир струит эфир. Да, помню. Ещё со школы.
- Не охай! Не стони! Оперировать буду.
- Когда, доктор?
- Да сейчас. Время не терпит.
- А больно будет?
Все боли боятся.
Пока живы - все боятся боли.
- Нет. Не будет. Ничего не почувствуешь. Уснёшь просто, и всё.
- Как это усну? Я спать не хочу!
- Мы тебя усыпим.
- Усыпите? Гипноз, что ли? Или выпить дадите? Так я ещё хуже разбушуюсь!
- Маску наденем на морду, особую, польём особым лекарством. Только дыши глубже. И ничего не бойся.
Они все всё равно боятся. Я сам боюсь. Сколько бы операций ни делал.
На лице солдата маска Эсмарха, он в ней дик и страшен, как марсианин. Сестра подносит эфир. Время, проходит время. Ждём. Солдат сначала бормочет невнятно, потом вопит душераздирающе, потом утихает. Ждём ещё. Хрипит. Спит. Спит? Да вроде бы. Всякое бывало. Спит-спит, я оперирую, и вдруг больной как взовьется! Голубем белым, и вот-вот в небеса со стола взмоет. Ну, начнём! Скальпель. Острый. Будто железную молнию в тело всаживаю. Сам себе Богом кажусь. Ну, глупости. Никакого Бога нет. Всё это сказки, про богов. Люди сами себе утешение в скорбях выдумали. Чтобы сильно не плакать по ночам. А, к примеру, молиться.
Режу. Вынимаю. Сестра умело орудует зажимами. Вынимаю. Бросаю. Режу опять, разрез маленький, надо расширить. Вынимаю. Последний осколок нашёл. Выкинул. Всё. Можно шить. Только бы у больного сердце не остановилось. Мышцы у такого силача под наркозом как тряпки. Спит крепко. Проснется ли? Может, мы с эфиром переборщили?
- Йод! Где йод! Бинты!
Поливают йодом. Накладывают стерильную марлю и бинты.
Я оставляю сестру рядом со столом. На столе лежит и спит человек. Я его только что спас. Или погубил. Я ещё не знаю. Сестра восторженно, во все глаза, смотрит на меня. Сейчас больной проснётся, и его будет рвать. Рвота, наркоз отходит, обычное дело. Нужна миска. Или там кастрюля. Или таз. Таза нет. Не подумали. Не приготовились.
Солдат медленно поворачивает голову на железяке стола, и его бурно рвёт. Всеми внутренностями. Всей проклятой войной. Всей святой войной.
Я оборачиваюсь в дверях. Сестра вытирает рот солдату марлевой повязкой. Краска на щеках прожигает ей маску.
- Ой, Николай Петрович... простите... мы не подумали... не подготовились...
Я ухожу. Я не могу говорить. Я онемел. Сил нет.
Я его спас или я его погубил, я не знаю. Ближайшее будущее покажет. Хирургия, это не наука. Это художество. Намалюешь картину жизни или нет: наоборот, уродливо зачернишь.
Когда мои первые неудачные солдаты умирали, я плакал, как мальчишка после драки. Я имею дело со смертью, и я не знаю, что такое смерть. Ужо узнаю, когда ко мне придёт. А может, помолиться? Надо научиться.
А может, я эфира нанюхался.
Если мужик умрёт, пойду, налью в мензурку спирта и тяпну. Может, легче станет.
И выкурю папиросу. У меня ещё остались.
Помаленьку с фронтом освоился. Притерпелся. Бомбежки начинались, я сам командовал: раненых в подвал спустить! Сначала раненых, потом сами прячьтесь! Мы на себе их волокли, тяжёлых. Лежащих - на носилках и простынях, как в белых гамаках. И к этому привык. Человек ко всему привыкает. Дверь на крыльцо открыта. Самолеты пикируют. Слышен вой. Бомбят! Мы пригнулись, тащим раненых, спускаемся в подвал по щербатой лестнице. Зенитки лупят. Самолёты воют. Ужас войны. И к этому я привык. Все мы привыкли. И это страшно.
- Всех спустили?
- Всех, Николай Петрович!
Сидим подле раненых. Слышно, как падают бомбы. Грохот. Голос больного:
- Дальше полетят? Улетели?
Страшно хочу закурить. Нельзя.
- На город полетели.
- Бедные жители.
- А мы не бедные, лазаретные.
Вдруг дикий крик там, высоко, наверху, над лестницей.
- А-а-а-а-а! А-а-а-а!
Крик мальчишеский, звонкий, взахлеб.
Я поднимаюсь по лестнице. На крыльце стоит мальчонка, весь перепачканный землёй и кровью.
- Ты ранен?
Ощупываю его. Трясёт башкой.
- Никак нет... нет, товарищ доктор! Цел я! Там два грузовика с бойцами разбомбили! Раненых бойцов к вам в лазарет везли! К вам! Кого в лепешку, кто жив ещё! Спасите их! Спасите!
Опять орёт и ревёт белугой.
Я крепко прижимаю его головёнку к своему животу.
- Эй, хватит вопить. Ты же мужик. Ну! Ты же мужик!
Орать перестаёт. Глядит на меня. Глаза светлые, небесные.
- Мужик...
- Сейчас они улетят. У нас есть машина. Туда скатаем и заберём, кого сможем.
- Ух... спасибо...
- Погоди благодарить. Надо дело сделать.
Я отряжаю на спасение раненых госпитальную машинёшку. Люди выползают из подвала, тянут больных наверх, в палаты. Сам трясусь в машинёшке туда, к месту ужаса. Со мной едет санитар. Прибываем. Трупы и живые валяются на земле вперемешку. Кто стонет, кто кричит, кто молчит, кто умолк навек. Я хожу меж раненых и проверяю, кто жив, а кто нет. Щупаю артерию на шее, за ухом. Мертвецам закрываю глаза. Их надо похоронить. А то глаза вороны выклюют. А тела начнут истлевать и гнить, и зараза потечёт по земле, по весенним ручьям, и достигнет других жизней, и отравит их.
А разве только поэтому их надо похоронить? А может, ещё почему-то надо?
Санитар, шофер и я, мы подхватываем живых и несём в машину. Места мало. На заднее сиденье мы можем уложить двоих, от силы троих. Придётся сделать много рейсов. Народу тут изрядно. Убито почти половина. Человек пятнадцать живых. Пятнадцать жизней, разве это мало? На войне привыкаешь считать народ поголовно, как скот. Рота, взвод, батальон. Численность! Количество! Госпиталь - та же картина. Я всё время считаю больных. И выбывших из строя, сиречь, мёртвых, в военно-полевой ведомости отмечаю.
Кто-нибудь и меня когда-нибудь в какой-нибудь ведомости отметит.
Дескать, жил-поживал такой-то и из жизни выбыл. Обычное дело на войне.
И в мире обычное.
Всё всегда и везде обычно. Ничего нового нет. Ни под солнцем, как это говорится, ни под луной. Ни под ножом, ни под ружьем. Я ловил себя на мысли: неважно, как ты умрёшь. Важно, что это нельзя отодвинуть.
Если я это пишу, значит, я живой. И всё по-настоящему. А чем мир настоящий отличается от мира выдуманного? Да ничем. Кто поручится, что всё, записанное бородатыми летописцами, правда? Что всё в газетах - правда? Что всё в романах, стихах и тому подобных увеселениях - правда? Правды нет. Есть только сия минута. Ты в ней, внутри неё. Проживаешь её. Но даже ты не знаешь, окружает тебя правда или ложь. Ты не хочешь лжи. Ты сопротивляешься! Бьёшься! Ты не веришь в войну: снаряды рвутся не рядом со мной, люди падают в грязь под огнём не здесь, вокруг меня, а во сне! В моём сне! Мне всё снится! Я сплю! Сейчас проснусь!
Глупое желание. Все глупые желания несбыточны. Даже из страшного сна никто не вылезает. Там и остаётся. И сходит с ума.
Бедняге кажется, что с ним всё хорошо. А все видят: сумасшедший. Кто жалеет. Кто лечит, иногда насильно. Кто прогоняет прочь. Кто на что способен. Мне сказали, есть такая порода людей, юродивые, они при монастырях обитают. Богу молятся за нас, грешных. Будто юродивый этот не грешен. Ещё как грешен! Смотря что считать грехом. Я никогда не бывал в церквях, их только издали наблюдал. Так, цапну глазом и дальше побегу. Некогда. Надо в госпиталь успеть, три операции назначено, надо в академию, надо на склад, вату-марлю заказали, с машиной договориться. Надо то, надо сё. Какая церковь, о чём вы, люди. Церковь и без меня проживёт, а вот больные без меня не проживут. Помрут.
Эх, юродивые монастырские, мне бы ваши заботы. Вас там накормят, напоят, ну вы и беситесь от души. Наземь валитесь, кричите-блажите, руками-ногами дёргаете, и, по слухам, что-то там такое пророчите. Ну валяйте, пророчьте. Пророчество, это штука наподобие стихов, так думаю. Тронутый человек сочиняет, выкрикивает, что в башку взбредёт. На ходу подметки рвёт.
Всё. Стоп. Хватит об этих безумцах. Настоящее - это настоящее, и точка. Нет никакого прошлого, мы не знаем его, мы забыли его. Нет никакого будущего, мы не знаем его. Есть только сегодня. И мы все: здесь и нынче. Всё так просто. Не накручивайте небылиц сами себе. Жизнь дорога. Её надо спасать. И спасаю! Это моя работа.
Я жив. Я чудом остался жив. А внутри смерти побывал. Такая чепуха со мной приключилась. И теперь я, как дурак, всё думаю об этом человеке. Он спас меня. А я его убивал. Чуть не убил. Проклятье! Вспомнить не могу. А вспомнить надо. И записать. Написано пером, не вырубишь топором. Правда, можно сжечь. Запросто! Печь, костёр, таз, бумагу в клочки порвать, зажигалку поднести. Огонь взовьётся. Вот тебе и вся исповедь твоя. Ни исповеди, ни тебя. Где же здесь бессмертие?
Расскажу о прошлом, да оно так близко, что тебе настоящее, оно было вчера, ещё свеженькое, ещё болит, свежая рыба, только выловили, бьёт хвостом, это моя мысль бьёт мне в череп. Просит выхода. Надо нацарапать эти закорючки. Эй вы, будущие! Если вы будете. Прочитайте, а!
Я покинул госпиталь и вышел на берег неширокой речонки, покурить. А точнее, побыть один. Побыть одному на войне не удаётся. Ты всё время среди людей. Стою, смолю, и тут на меня из-за кустов - прыг! Руки за спину, связали, по земле ногами волокут. Речь вражеская. Гады! Я понимаю: меня схватили, потащили, не шлёпнули, значит, допрашивать будут. Форма на мне офицерская. Я вырываюсь. Мне по голове тяжёлым стукнули, я отключился. Очнулся в полутьме. Керосиновая лампёшка. Пламя бьется, краснеет, гаснет, опять разгорается. Глаза привыкли к темноте. Вижу: штаб. На стенах плакаты с черными пауками. Лают по-ихнему, аж захлёбываются. Меня под мышки, поставили перед офицером, за столом сидит, морда шире варежки, три подбородка, зуб золотой. Скалится. Гав-гав-гав-гав! Я немного знаю их собачий язык. Перевёл сам себе. Спроси, где, в каком селе спрятаны наши зенитки и где стоят наши части! Это он толмачу бросил. Тщедушный богомол, скрюченный стручок, пролаял по-русски: отвечаль, какой деревень сенит оруди и ктэ эст руссише зольдатен! Я усмехнулся. Страха смерти не наблюдал в себе никакого. Ни малейшего. Держи карман шире, толсторылый офицерчик! Буду молчать до последнего. Хоть замучь! Запытай!
И ведь запытали.
Не меня одного: нас вдвоем.
В керосиновом мраке я не рассмотрел сперва, что на топчане, у срубовой стены, лежит человек. И на нем, вот диво, белый халат. В грязюке, понятно, в кровище, понятно, однако, белый врачебный халат, по лицу его зрачками шарю, нет, не из нашего госпиталя, в нашем госпитале, кроме меня, хирурга, ещё один доктор и один фельдшер, мы его за доктора держим. Значит, из другого полевого госпиталя. Поблизости. И мы два пленника. Два, как говорится, языка. Н-да, влипли! Молчим как рыбы. Толмач слюной брызгает. Орёт прямо нам в лица: эсли ви не! отвечайль! ми ви! убивать! Гляжу, и неизвестный доктор тоже настроен помереть, но ничего не сказать. Я тихо и отчётливо говорю ему, вроде как не ему, а так, про себя бормочу: эй, ты откуда, товарищ, хоть намекни! Не успел договорить. Меня по губам так кулачиной мазнул толмач, я зуб выплюнул.
Началось. Когда-то должно было начаться.
Живёшь и думаешь: нет, со мной такого никогда не произойдёт. Ан нет, происходит. Ещё как происходит! Человек изначально жесток. Это его природа. Тело, оно так устроено, что испытывает бессознательное наслаждение при виде крови. Поэтому, если в восставшей толпе прольётся кровь, она звереет. Если солдаты расстреляют безвинных людей - люди поднимутся и пойдут убивать. Громить, крушить. А если человека однажды унизили, он жаждет мести. Месть это кровь. Человеку недостаточно унижения в ответ. Он хочет, чтобы обидчик испытал страх. А страх - это кровь. Страх, это смерть.
Вы скажете: да это не тело такое! Это мозг такой! Эту ему охота наслаждаться и мстить! Слушайте, а разве мозг не тело? Не часть тела? Всё это человек: живот, палец, брюхо, пятка, глаз, мозг. Почему мозг мыслит, это уже другой вопрос. Не ко мне. К психиатру. Да лучшие психиатры твердят: мы знаем мозг лишь на пять процентов, остальные девяносто пять процентов в тени.
Началось. Не остановить.
Будейт говориль?! Нет. Выстрел в бедро. Ему, другому. Закричал. Кровь полилась на топчан. Капала на пол. Толстяк пальцем на меня показал. Из тьмы выступил ещё один дьявол. Солдатёнок, в гимнастёрке. Поднес мне к подбородку зажигалку. Пламя прожигало кожу, добиралось до кости. Я скрипел зубами. Я и сам причинял боль, и выносил всяческую боль, если вы думаете, я был сам не резаный, ещё как резаный, вдоль и поперёк, всяко. И гнойный аппендицит, с перитонитом, и сломанная в гололёд рука, хорошо, что левая, лучезапястный сустав, четыре месяца в гипсе, так и оперировал в лангетке. И перелом двух рёбер, в подворотне избили, но я им тоже хорошо накостылял. Ноги мои не были связаны, я взял да пнул от всей души толмача. Он свалился. Толсторылый крикнул отрывисто. Меня повалили на пол, разодрали гимнастёрку на груди. Сапогами на запястья наступили. На ноги мне сел солдатёнок. Придавили. Толстяк выбрался из-за стола, поигрывал финским ножом. Я понял, что меня ждёт. Ну, хирург, сказал я себе, не бойся операции.
Поймал себя на том, что всё равно забоялся.
Резали долго. Со вкусом. И так, и эдак. Вырезали на груди фигуры. Знаки, я в зеркало рассмотрел потом раны. Вражеский паук. Наша звезда. Лезвие втыкали глубоко, смачно. Кровь текла медленно, обильно. Я чувствовал её тепло. Временами я даже не чувствовал боли. Я думал: только бы не ткнули нож вглубь, за грудину, и не добрались до артерии. Я боялся потерять сознание. Быть без сознания, ведь это почти умереть. Живи, заклинал я себя, только живи. Держись!
И я держался.
В борьбе с болью я забыл, что рядом, на топчане, лежит неведомый врач, и нога у него прострелена. Я скосил глаза и увидел: он пристально глядит на меня, и глаза его полны влажного ужаса. Лицо всё бородой заросшее. Я-то брился каждое утро. А может, у него бритвы с собой на войне не было.
Меня ударили сапогом под рёбра. Толстяк орал на своём пёсьем языке. Толмач выкрикнул: хотеть шить?! убить он!
И показал пальцем на лежащего на топчане.
Пинками меня подняли с пола. Я не мог стоять. Мне вопили: стоя-а-а-ать! Я широко раздвинул ноги и так качался. Мне в руки всунули винтовку. Толмач заорал: штреля-а-а-айт! И снова указал на чужого военврача. Я соображал мгновенно. Расстояние близкое. Выстрелю, и пуля разнесёт ему всю грудную клетку. Или всю брюшину. Или пройдёт навылет через лёгкие. Если стрелять в голову, мозг разлетится и заляпает все стены. В голову, наверняка умрёт. В любую часть тела - кто его знает, может, и выживет. Чтобы при тяжёлом ранении выжить, надо оказать раненому немедленную медицинскую помощь.
Врач смотрел на меня круглыми, совиными глазами. Я тщетно искал в них страх. Это я боялся, пока стоял и решал, стрелять-не стрелять, а у него страха не было. Солдатёнок по знаку толстяка накинул мне на шею веревку и стал душить. Лицо налилось кровью, я задыхался. Я видел, как люди умирают от удушья. Много раз видел. Это страшно. И повешенных видел. И кого я только не видел. Жизнь показывала мне страшные рожи страданья. Когда меня задушат, у меня будет синее лицо, а язык вывалится.
Главное, мы ничего не говорили сволочам. Ничего не сказали.
- Штреля-а-а-а-айт!
Я выстрелил.
Прощу ли я себе когда-нибудь это несостоявшееся убийство? Ведь я убивал человека. Своего человека. Родного. Жителя моей Родины. Человека моего народа. Более того, врача, как и я. Значит, собрата. Брата. Пусть я имени его не знал. Но я поднял винтовку и выстрелил в него. Почему? Испугался врага? Забоялся собственной смерти? Я понимал, что меня всё равно не пощадят: выстрелю я в пленника или не выстрелю, разницы нет, я враг, и меня надлежит убить, часом раньше, часом позже. Зачем я выстрелил? Что мною двигало? Думал ли я тогда о чём? Или выстрелил без чувства, без мысли? Обречённо? Машинально? Исполняя вражеский приказ?
А может, я его, брата моего, от ужаса, от мук одним выстрелом хотел спасти?
Человек - винтик в механизме. Его завинтили. А механизм расшатался. Разладился. Винтик ослаб и выпал из резьбы. На его месте дырка. Из неё течёт кровь. Течёт, течёт. Не остановить.
Когда я стрелял, я зажмурился. Открыл глаза. Военврач сполз с топчана на пол. Он лежал под моими ногами, халат задрался, я видел латанные на коленях портки. Текла кровь, уже останавливалась, пятно расплывалось по штанам, по халату, из простреленной не мною ноги. Врач поднял руки и зажал ладонями уши. Он оглох. Пух летал по штабу. Я выстрелил и попал в подушку, а целился в голову, чтобы убить наверняка. До сих пор не знаю, рассчитал я это, совершил бессознательно или просто рука дрогнула от неведомого, дикого страха.
Страх пришёл, он пришёл поздно, навалился на меня, загрыз меня.
Страх и стыд.
Я похвалил себя: правильно сделал, что выстрелил в подушку.
Нас потащили по полу из штаба вон, в сарай.
Дух гнилой соломы. Кровь льётся из порезов, медленно сворачивается, подсыхает. Свёртываемость у меня была всегда на высоте. Рабочие тромбоциты.
Мы сбежали. Уползли из сарая. Посреди ночи. Выломали ветхую доску. Под неё подлезли. Ползли. Не знали, куда. Потом чуть окрепли, поднялись на четвереньки, встали на ноги. Ковыляли, опираясь друг на друга.
Друг. На друга.
Слух к врачу возвращался. Враги за нами погоню не отрядили. Скорей всего, они побежали в другую сторону, а множества людей, чтобы тщательно прочесать окрестности, не было в их распоряжении. Мы добрели до чахлого леска. Тонкие кривые берёзы молили тусклое небо о помощи. В лесу мы чуть не утонули в болоте. Еле выбрались, оба в тине по уши. Бородатый врач, казалось, забыл, что я в него стрелял. А может, и правда забыл. Нечем было развести костер и согреться. Нечего было есть. Живот подвело. Тошнило от голода. Ещё не хватало голодной рвоты жёлчью. Мы ещё не звали друг друга по именам.
Пока мы пересекали леса и холмы, поля и овраги, мы сдружились. Мы оба слушали, в какой стороне стреляют. Наши госпитали находились близ линии фронта. Нам надо было вернуться. И мы старались вернуться. Без компаса, вусмерть голодные, изгвазданные в болотной грязи. Мы дошли до реки, и мы узнали берег. Хорошего кругаля мы дали. Да все-таки выбрели, куда надо.
Бородатый врач сказал: Бог помог. Я засмеялся. Сказал: не бог, а судьба. Он мне, серьёзно так: судьба это Бог. Я ему, насмешливо: да что ты говоришь? Мы оба перешли друг с другом на "ты". На берегу речонки нашли останки рыбацкого костра - хворост, головни, угли, пепел, серый круг на холодной земле. Я отыскал сухих веток, два камня, бил-бил о камень, высек искру. Ветки чудом запылали. Шел низовой лёгкий ветер. Он пах весной. Костерок с трудом разгорелся. Мы сидели у костра, расслабляться было некогда, согрелись и опять подтащили веток и щепок. Огонь хотел жрать, и мы тоже. Я зашёл в сапогах в воду. Около берега стояла сонная рыба. Я поймал её руками, вернулся к костру, смеясь. С рыбы капала яркая вода. Всходило солнце. Мы испекли рыбу в золе костра, на углях, и ели, глядя друг на друга, будто молились вместе.
Чёрт, я никогда не молился. Даже перед сложнейшей операцией. А вот он, видать, молился. Ну, по всему видно, верующий. Да ведь бога-то никакого нет! Это даже дети знают в нашей стране!
Рыбу съели, побрели по берегу. Мы теперь знали, куда идти. Впереди поднимался в небо дым. Это топили печь в моем госпитале. А твой где, спросил я врача. Мы в палатках и двух бараках, там, он махнул рукой, вверх по течению.
Поравнялись с госпиталем. Осыпалась северная стена. Бомбили. Гадёныши, бомбят раненых и врачей. По всем конвенциям такого делать нельзя. А вот делают. Наглецы. Война, разве у неё есть совесть? Совесть, она для мирных времён. Я обернулся к моему другу и протянул ему руку. Я, его убийца. И он пожал мою руку. Крепко.
Так стояли. Не могли разомкнуть рук, они будто слиплись.
- Ну, прощай.
- Прощай.
- Ты пока тут?
- Тут. Может, перебазируют, не знаю.
- Господь помоги тебе.
Я усмехнулся. Что надо ответить? "И тебе"? Но это будет враньё.
- И тебе.
Теперь улыбнулся он. Сквозь страшную бороду. Леший.
- Как я тебя найду? Хоть фамилию скажи.
Я сказал.
Потом спросил:
- А твоя?
Он назвал себя. И номер госпиталя.
Я всё запомнил.
Он тоже все запомнил.
На войне память обостряется. И записной книжки никакой не надо. Всё в голове.
Я не знал, что его из военного лазарета направили в столицу, там он принял сан и стал священником, а потом его арестовали.
АЛЕКСЕЙ
Сёстры. Мои сёстры.
Ну да, я так и называл их - сёстры мои; конечно, они были чьи-то чужие сёстры, и дочери, и матери, а мне они были, мне, военному хирургу, сёстры милосердия.
Милосердие! Самое драгоценное, что есть на земле у человека к человеку. Человек человеку передаёт тепло. Тепло источает свет нежности, нежность тихо мерцает любовью. Так замыкается круг. Это как годовой круг, Божий круг, коловрат. Время идёт по кругу, и вдруг распахивается огромными вратами.
Сёстры. Сёстры мои.
Сёстры милосердия.
В лазарете у меня, под боком моим, рядом с операционным столом моим; на поле боя, когда нельзя в рост идти, только ползти; в белых халатах, и вот они уже в грязи и крови; и красный крест на рукаве. Красный Крест. Родные, вы ведёте войну со смертью не в бою, не под грохот снарядов - здесь, за врачебным столом. Скальпель! Иглу! Кетгут! Веди бой за жизнь. За эту жизнь. Именно за эту. Ты не знаешь, кто умер вчера, кто умрёт завтра. Здесь. Сегодня. Сейчас. Эту жизнь - спаси.
Война, она только началась. Недавно. Вчера. Или века назад? Поток раненых шёл стеной. Река орущих, плачущих от боли людей. Русло неостановимой крови. А нам её надо останавливать. Марлю! Жгут! Бойцы умирали у нас на руках. Сараюшка на окраине села - наш лазарет. Палатки в поле. Бараки на краю оврага. Какая там больница! Какой госпиталь! На войне как на войне. А как оно - на войне? А вот гляди. Таблетки! Закончились, товарищ военврач. Инъекцию кордиамина! Закончился. Тогда адреналин! Есть ещё. Есть.
Господи, доктор, болит... как же болит... сил нету, больно как...
Усни, солдат. Усни.
Уснул. А утром - не проснулся.
А мы, сестра, к столу. Стой! Не падай! Валидол под язык. И, знаешь, у меня для тебя, сестра, есть подарок. В кармане халата завалялся. Не побрезгуй. На. Держи. Кусочек сахару. Ой, доктор... вам самому - нужно...
Отступаем! Сворачиваем лазарет! Зачем отступаем? А ты что, хочешь, чтобы нас всех тут перебили, как цыплят?! Враг наступает. Мы отступаем. Ничего! Когда-нибудь будем наступать! Это война. Доктор, а как же недвижимые раненые! Бросать. Бросать, сестра! Я не могу, доктор! Они так смотрят! Они кричат!
Доктор! Доктор! Сестра! Сестриченька! Не бросайте нас! Не бросайте! Зачем вы уходите! Как мы без вас! Нас же убьют!
Товарищ военврач! Я с ними остаюсь!
Господи, убьют и тебя. Собирайся! Уходим! Это приказ!
Нарушение приказа - трибунал!
Не уйду! Расстреляйте меня! Без всякого трибунала! Вот он, он так глядит! Душу вынимает!
Одна моя сестра вынесла из боя десять раненых. Втаскивала раненого на расстеленную на земле плащ-палатку и тащила по грязи. Ползла по земле и тянула. Ползла и тащила. Господи, приставь сестру мою к медали! Ты же можешь. Ты же сможешь.
Что у тебя в санитарной сумке, сестра моя? Йод. Вата. Бинт. Марля. Спички. Вода. Больше ничего.
Если повезёт, и командир сунет исподтишка, вбок равнодушно глядя, фляга со спиртом.
Нам, хирургам, спирт давали под расписку. Впрочем, как и всё остальное.
А бинтов и марли не хватало. Сёстры на бинты рвали всё, что под руку подвернётся. С мертвецов бельё стаскивали и им раненых перевязывали. А бывало, сами раздевались и с себя бельецо снимали. И рубашонками своими рану обматывали. Ещё тёплыми рубашонками... тепло девичьего тела хранящими...
Сёстры мои! Сестрички! Бомбили, стреляли, взрывали нас, и вы погибали. Родимые сёстры мои! Я вам сам глаза закрывал. Шептал над вами: Господи, будь Ты им проводником в Мiръ Иной. А как там, в Мiре Ином? Так же, как у нас, или лучше? Райский там Сад или война грохочет, как и здесь, и рушатся дома, и вопят перед смертью люди? Да нет, не люди, конечно... их души... а души, говорят, бессмертны... ну от боли, от боли-то они ведь могут кричать...
Милые, девушки мои, девочки ангельские, светлые! Вот ты, да, ты. Ангел в окровавленном халате! Сегодня придёт санитарный поезд. Нам надо доставить раненых к железнодорожному полотну. На чём? Машину разбомбили. В конюшне, близ околицы, стоит лошадь, впряжённая в телегу; позаботились, для нас запрягли; а сколько раненых мы можем уложить в телегу? Раненые, ведь это не дрова. Десять человек? А сорок здесь останутся? Два, три, четыре раза съездим, сколько понадобится. Пока едем, на лошадушке трюх-трюх по дороженьке просёлочной, нас лётчик увидит, вон он летает, бомбу сбросит! А река рядом, жаль, мелкая, мутная, не судоходная. А то на катере солдат бы увезли. Плыви, плыви, кораблик, кораблик золотой. Вези, вези подарки... подарки нам с тобой...
А тут близко от нас расквартировался в избах казачий полк. Казаки, в папахах, и с саблями! Сестрички смеются и плачут: какие сабли, тут танки тебя в кровавый блин раскатают, какие папахи, без каски не обойтись. Сами-то девчонки в касках. Иногда из касок едят. Повар на кухне суп в каски половником из котла наливает.
Сёстры мои, всё в руках горит, кипит, перевязки как заводской конвейер, мне некогда рану зашивать, к другому солдату и другой ране перебегаю, от одного края стола до другого, а сестра, гляжу, уже шьёт. Шьёт! Рану! Сама! Кетгутом! Да как умело затягивает! Сестра! Раненому слева, у окна, обезболивающее, укол! Есть, товарищ военврач!
Колет умело. В вену попадает с ходу. Да все попадают. Наловчились.
Милые, шприц - ваше оружие. Бессонная ночь с криками боли - ваш бой.
Уходят солдаты в ночь. В разведку. Медикаменты вчера привезли, отлично, а то вместо анальгина - щепку в рот, и грызи, друг, чтобы от боли не орать.
Раненые. Убитые. Здравых нет. И сёстры, сёстры мои.
И страшно, страшно и больно, страшно и мужественно, страшно и молитвенно. Страшно, а жить надо. И - живём. Под пулями. Под бомбёжкой. Под огнём. Милосердие! Как без тебя жить! Тобой живём. Все раненые - родные. Им все медсёстры - родня. Сестричка, наклонись, дай тебя поцелую! И наклонялись сёстры мои. И целовали их раненые. Умирающие - целовали. Как в церкви: в щёки, в лоб, со слезами. Как в Пасху. Предсмертная Пасха. Господи, и Ты видишь это.
Врага одна сестра моя на плащ-палатке в лазарет приволокла. Наклонилась, разрезала скальпелем ему портки, хотела рану обработать и перевязать, а тут солдат с койки завопил: сестричка, эй, берегись, убьёт! Сестра вскинулась, а вражина рукою с ножом уже взмахнул над ней. А тот солдатик, с ближней койки, уже вытащил из-под одеяла пистолет и пулю в гада всадил. Сестру спас. Сестричка села на пол, ноги подкосились, и плачет. Рядом с убитым врагом. А солдатик ей: не плачь, сестрёнка, мы ещё повоюем!
Всем по сто грамм спирта выдавали. Сестры мои сливали втихаря свои сто грамм во фляги, чтобы потом давать раненым бойцам. Флягу с собой брали, когда ползли на поле боя, раненых спасать. Вливали им в рот глоток спирта. И мёртвые - оживали. Глядишь, сестра обратно ползёт, на плащ-палатке за собою раненого тянет. Живой! Дышит! Губы спиртом пахнут. Не всех удавалось спасти. Часто бойца к лазарету сестра притянет, а он уже похолодел.
Справа танки, а слева конница. В село, близ него и стоял наш лазарет, прибыла конная армия, и кавалеристов разместили по избам на ночлег. Сёстры, вы своё белье на перевязку раненым порвали; и я велел облачить вас в мужские рубахи и кальсоны. Вы живенько переоделись и юркнули в койки. Спали или делали вид, что спите? Ржанье лошадей у входа я услышал. Входит генерал, за ним весёлый ординарец. Генерал глядит, как мои сёстры спят. Тихо-мирно. В койках на детей малых похожи. Генерал тихо говорит: зачем детишек на войну побрали? Я так же тихо отвечаю: это мои сёстры, товарищ генерал. А, сёстры, наклонил генерал голову. Понял. Всё понял. Вопросов больше не имею. Вольно, товарищ военврач.
А раненых сёстры на себе волокли частенько вместе с их оружием. Сестра, родная, вот ты, ты, да. Помнишь последнего твоего раненого? Помнишь? Ты подползла к нему, вокруг разрывы гремят, а он лежит навзничь, и рука перебитая. А у тебя из сумки ножницы выпали, и нож потерялся. Снаряды рвутся. Ни ножа, ни ножниц, только твои зубы. И стала ты грызть бойцу мышцу и кожу. Мягкие ткани. Мясо, кровь. Выплёвывала на землю, плакала, уливалась слезами, опять наклонялась к кровавому полю боли и грызла, грызла, резала жизнь остриями зубов. И перегрызла. И затампонировала бельём. И забинтовала. И бинта не хватило, стащила с себя гимнастёрку, в лоскуты порвала, оторвала рукава. Руки сильные стали, как у борца. Ты помнишь, что он тебе шептал, солдат, безрукий, в бреду? Давай скорее, сестричка, сестра... мне скоро снова в бой... скоро... сейчас... воевать буду... в атаку пойду... убью врага...
Сёстры. Сёстры мои.
Сёстры милосердия.
Меня в столицу перенаправляют. Там, в столичном лазарете, говорят, я нужнее, чем здесь. Кто-то внимательный хочет в столице мой опыт операций и лечения ран перенять. Пусть перенимает. Я с радостью опытом поделюсь. А я, сёстры мои, ещё ведь тайком книгу пишу. О том, как правильно делать операции на различных внутренних органах и наружных человеческих членах. Такая книга военному врачу поможет. Она и мне самому поможет; пока пишешь, главное понимаешь про жизнь. Не говоря уже о том, что и про смерть. Смерть, что она? Она непонятна. То ли будет, то ли нет. А может, со мной не будет. А на войне она случается едва ли не со всеми. Сёстры, вы знаете, сколько нас всех в живых останется после войны? Не знаете? Вот и я не знаю. Но предполагаю. Немного останется нас. И это не грустно. Это неизбежно. Это судьба. А о судьбе не печалятся. Судьба, она предписана. Не мы её сочиняли, писали, резали, бинтовали. Всё это сделал Бог.
Бог и только Бог.
Неверующие сёстры мои, средь вас таких ведь большинство, можете смеяться надо мной, можете веселиться между боями и криками. Только Бог владеет нами. Только у Него мы все в руках.
Я видел вокруг мою столицу. Город был не похож на себя. Столица, раньше царица, теперь побирушка. Над крышами висели белые огурцы дирижаблей, по улицам медленно шли прохожие с тёмными, как на закопчённых иконах, голодными лицами. Иногда маршировали странные колонны: то седых морщинистых людей в серых мышиных одеждах, а то и обносках с чужого плеча, то детей, и подошвы детских башмаков и ботинок громко, сухо стучали по асфальту, по брусчатке.
Я, прогрызая телом-червём грязные улицы, заявился в нашу с братом каморку. Ключ мы оставляли всегда в почтовом ящике. Там я его и нашел. Пустота и скорбь дохнули на меня изо всех щелей. На столе лежала записка: БРАТ, ЕСЛИ ТЫ ЖИВ И ВЕРНЁШЬСЯ, МОЛИСЬ ЗА МЕНЯ, Я УШЁЛ НА ФРОНТ. Я опустился на колени перед столом, перед запиской, перед жемчужно светящимся во тьме вечерним окном, и помолился. Молитв я не знал: своими словами.
Рядом с нашим домом ютилась маленькая церковка. Стены выкрашены жёлтой, цыплячьей краской, куполок тусклый, обшарпанный, давно не чищенный. Я зашёл. Служба кончилась. Ещё звенел последними словами проповеди пахучий, туманный воздух. Священник шагнул от аналоя ко мне, безмолвно стоящему.
- Господь благослови. Опоздал на службу, сын мой?
Я смутился.
- Нет.
- На исповедь? Исповедаться завтра, прежде Литургии, в восемь утра. Вечером Всенощное бдение.
- Нет. Да. Я исповедуюсь. Обязательно. Я бы хотел стать священником.
Батюшка не удивился. Стоял бестрепетно, ясно глядел на меня. Длинная его борода вилась седыми кольцами на широкой, мощной, как у кузнеца, груди.
- И как ты видишь твой путь, сын мой? С чего начнёшь?
- Вы - меня - спрашиваете... Я вас хочу спросить. Я не знаю.
Назавтра я явился на исповедь. Я каялся во всём, и даже в грехах, что не совершал. Священник терпеливо слушал. Я говорил долго. Он положил синюю, расшитую серебром епитрахиль мне на затылок, я перестал видеть Мiръ, я ослеп от счастья, от радости, что мне удалось всё несказуемое сказать. Священник бормотал надо мной молитвы, и я не особенно вслушивался в слова. Я впивал их всем собою, будто я был хлеб, и это меня, меня обмакнули в сладкое вино. Потом я встал, неиспытанное чувство Вселенской чистоты разлилось по телу, по сердцу, по всей церковке, по всему окоёму за её старыми дряхлыми стенами. Я был одно с Мiромъ. А Мiръ воссоединился со мной. Как бы сохранить это чувство, думал я потрясённо, не уронить, не растерять.
Разрешительная молитва закончилась. Я встал в очередь причастников, запели "Иже Херувимы". Я потянулся вместе со всеми к огромному золотому потиру в морщинистых, больших, корягами, рыбацких руках батюшки. Дошла и до меня очередь, я слизнул с позолоченной ложки кусок хлеба с кагором. Кус неведомой жизни. Теперь смерть не придёт, туманно и радостно подумал я.
Это потом я узнал: Тело Христово, Кровь Христова. Тогда же я просто тихо стал в сторонке, утёр рот ладонью, не мог говорить. Не мог даже радоваться. Захлестнула волна неиспытанного счастья. Я боялся его нарушить любым жестом, разбить хрусталем. Это как в любви. Внутри меня пело. Кто это пел? Я сам? Бог? Душа?
Душенька...
Через время, исчислить кое не представляется сейчас возможным, я, дитя моё, и правда стал священником. Шла война, не прекращалась, а лишь разгоралась, враг наступал, и я ждал, когда меня снова пошлют на войну, и я ходил в мой лазарет, и я оперировал раненых, и поутру и ввечеру я служил во храме, и я читал богословские книги, и, главное дело, я читал Евангелие, Псалтырь, Четьи-Минеи, Часослов, Цветную и Постную Триодь, и, конечно же, Ветхий Завет. Про войну в Ветхом Завете много чего сказано. Не вредно теперь, когда война идёт, гремит и ярится, эти слова перечитать.
За нашими спинами столько драгоценностей в сундуках. Столько мудрости! А мы живём одним днем. Есть в одном дне наслаждение, но есть и опасность забвения того, что было и что надобно помнить. Человек беспамятный - это машина, шуруп. Всяк может его вывинтить и ввинтить, куда заблагорассудится.
Утром служба. Днём лазарет. Вечером служба. Ночью чтение Священного Писания и пение псалмов. Я, не смейся, деточка, я пел Псалтырь на свой лад: голоса у меня не было отродясь, слуха тоже, музыке меня не учили, какая музыка в деревне, а петь хотелось, в моей церкви прихожане пели, ничего не боясь, кто во что горазд, хором, и Символ веры, и Отче наш, и Богородице Дево, и я взял с них пример, хоть дома, в четырех стенах, а спою, что моя душа желает, слышит в ночи.
Душенька...
Режим жизни моей нарушен был.
Меня вызвали на допрос в строгое здание, где сидели особые люди; мне сообщили шёпотом: они занимались устранением преступности и защитой граждан.
Меня допросили коротко и отрывисто. Я едва успевал отвечать. Вспомнил того, вражеского толстомордого офицера, что заставил моего собрата выстрелить в меня. Я спрашивал себя тогда: а если бы мне приказали, выстрелил бы я? И сам себе отвечал: нет. И сам над собой смеялся: а откуда ты сейчас-то знаешь?
Родной офицер взлаивал, я послушно на родном языке отвечал. Всё слава Богу. Я на Родине. Ошибочка вышла. Сейчас всё прояснится. Меня отпустят.
Допросный лай прекратился. Мне велели идти домой и вернуться в управление через месяц. Я хотел спросить: а что будет через месяц? И не спросил. Спросил только: а что, мне жить, как и прежде жил? Служить во храме можно? Разрешаем, сказали. Сквозь зубы процедили. Я поблагодарил за всё, поклонился и вышел из кабинета.
Изнутри поднималась тревога. В лазарете я низко склонялся над моими больными, накинутый на плечи халат распахивался, и под расстёгнутыми полами больные видели мою рясу и крест на груди. Их глаза округлялись. Кто-то присвистывал. Кто-то складывал молитвенно руки: благословите, батюшка. Я благословлял. Благословляя, я мыслил про себя: недостоин! И я учился избавляться не только от греховных поступков, но и от греховных мыслей. Моё всежизненное деяние, спасение людей посредством хирургических операций, моё дело хирурга, повседневное и немыслимо трудное, продолжалось, я понимал: никуда я от него не денусь, ни на войне, ни в Мiре. Больной на койке закрывал глаза, я осенял его крестным знамением, шептал над ним очистительную молитву. Люди исповедались мне на лазаретных койках, чуя близкий уход, перед самою смертью. И я успевал принять у них исповедь. Успевал отпустить им грехи. Они навек засыпали с улыбкой.
Месяц промчался, угас, как вспышка салюта в густом вареве ночного неба. Я пришёл в грозное управление. Меня встретили другие люди. Повели в другой кабинет. Там мне даже сесть не предложили. Я стоял в белом халате, моя ряса, видная из-под халата, мела пыльный пол. Сухопарый человек, вскинув глаза от вороха бумаг, отрывисто спросил меня: вы правда служили вместе с опальным Патриархом в храме Всех Святых на Кулишках десять дней назад? Правда, наклонил я голову. А вы знаете о том, что ваш Патриарх условно осужден? Нет, ответил я тихо. А вы знаете о том, что тот, кто совершает совместно с ним храмовые обряды, заведомо подлежит осуждению? Нет, повторил я ещё тише. Не знаете? Нет. Вы арестованы.
Да, я успел сослужить Патриарху в крошечном храме на окраине столицы, и я не знал, что он отбывает условный срок, и я не знал, в чём его вина. Да нет, все знали, в чем наша вина. Все. До единого. И я знал. В нежном храме, похожем на тот, что держит на ладони Николай Мiрликийский на весёлой яркой иконе, Патриарх возвещал и пел, гудел и пел, плакал и пел, и я вместе с ним. Он был уже очень старенький, и синие глаза его светились солнечным зенитом, добрые-добрые, всепрощающие, сразу отпускающие все грехи-прегрешения, вольные и невольные.
Я в жизни Церкви плавал рыбою в воде, будто священником стал с детских лет. Сам на себя дивился: и как это я! Однажды на службе закрыл глаза и увидел: толпы народу, далеко внизу. Головы, головы. Людское море, и накатывает вал, и шевелится. Громадная волна людей катилась вдаль. Я туда посмотрел. Там, над землёй, высоко, стояли облака взрывов, величиною с гору. Я поглядел вокруг. Всюду воздымались ужасные густые облака, похожие на гигантские зонты. Полыхал огонь. Море людей плескалось и билось в необъятном круге огня. Криков я не слышал. Уши залепила спасительная глухота. Внезапно глухота исчезла. Я стал слышать Мiръ опять. Вопли потрясли меня. Я никогда такого не слыхал на войне, хоть на войне люди кричат будь здоров. Оглядывал сверху клокочущую толпу. Она всё катилась. Люди бились о стены домов и сползали на землю, цепляясь ногтями за голый камень. Я летел над ними, Ангел бесплотный. Ангел мыслящий. Мыслил так: неужели этим, вот этим закончится весь человек? Его пребывание на земле? Но, если я это вижу, значит, так оно и будет? Или не надо верить себе? И видения могут бесы насылать, не Господь?
Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и да бежат от лица Его ненавидящие Его...
Я шёпотом читал эту молитву, когда меня в тесном душном авто везли в тюрьму.
Сначала карантин, я претерпел его безмолвно. Кормили плохо. Свиней, коров кормят лучше. Потом отвели в камеру, битком набитую ворами и бандитами. Я приготовился к тому, что ночью меня зарежут. Воры расспросили меня, кто я и что я. Я ничего не утаил. Воры меня зауважали. Пальцем не тронули. Если кто бросал мне грубое слово - того товарищи брали за шкирку, встряхивали и угрожающе бормотали: если ты ещё раз... Ночью иные пытались ко мне подойти под благословение. Я, сидя на нарах в ночи, благословлял людей. Всякий разбойник человек. На Голгофе стояло вкопанных в каменистую почву три креста. Висел Христос, леворучь Его корчился один разбойник, праворучь другой. Гестас и Дисмас. Кровью обливались: им солдаты тоже проткнули копьями животы. Один зло скрежетал зубами, вся и всех проклинал. Другой раскаялся. Может быть, плакал. Солнце заходило. Я воображал себя одним из разбойников. Кто бы я был? Дисмас, иначе Рах, кто повинился и был прощён? Злодей Гестас? Я не знал. Я видел. Я был Дисмас, и я был счастлив, и я слышал, как распятый избитый человек, с красной тряпкой на бёдрах, в колючем венке, тихо, хрипло, медленно мне говорит, с трудом повернув окровавленное лицо: нынче же будешь со Мною в Раю.
Рай! Райский Сад. Я туда постоянно хотел. Райский Сад, это была моя мечта, моё детское упование. Я любил его как дитя, и мечтал о нём, как дитя, и по нём тосковал. Моя Родина не была Райским Садом. Она воевала. Люди воюют за самое святое. Воюя, они защищают своё святое, чтобы оно жило, не умерло. Каждый воюет на своём месте за свою святость. Из множества святостей слагается великая Святая Земля. Она в любом месте. Не обязательно в Иерусалиме и Вифлееме. На обрыве над рекой стоит храм; под ним святая трава, святая земля, святая река. Это так просто понять. И полюбить.
Настал день, мне выкрикнули в открытую с лязгом железную дверь камеры: на выход! Я вышел без вещей. Меня повели в тюремный лазарет. Люди болеют везде, и в тюрьме тоже. Ещё сильнее, чем в мiру, болеют, мучатся. Медицинская помощь плохая. Воды подать, грелку к ногам, если жар, таблетку, если сердце болит, так страдай. Лежи спокойно, всё пройдет, пройдет и это. Мои бандиты и жулики тут тоже валялись. Небритые и страшные, как Гестас на кресте. Я ласково проводил ладонью по их щекам. Такое чувство, что ты гладишь еловую ветку. Одного замучила стенокардия, я понял. Не было в помощь мне ни пилюль, ни капель. Я перекрестил его и тихо сказал: молись, чтобы смиренным войти в Царствие Небесное. Ночью он умер от сердечного приступа. Я закрыл ему глаза и прочитал над ним отходную молитву.
На прогулку нас выгоняли, как скот, во мрачный тесный двор. Мы ходили там и вразброд, и по кругу, кое-кто прыгал, засидевшись и залежавшись.
К заключенным на свидание приходили родные и друзья. Ко мне никто не приходил. Брат воевал. О моей семье я не знал ничего. Где они, уехали в другой город, живы ли, погибли, может. Я молился за них и иногда плакал, их вспоминая. Память, доченька, нехорошая штука. Она тревожит, истязает, а взамен не дает ничего, кроме горечи под языком. Вместо обеда полынь, и вместо ужина полынь. Я понимал Сократа, когда он залпом выпил казнящую чашу цикуты. Уж лучше расстаться с горькой, солёной жизнью, чем бесконечно восседать на кровавом пиршестве её.
Книг никаких не водилось в камере. Никто из разбойников с собою книги не носил, не возил. Я стал наизусть читать бандитам Новый Завет. Что помнил. А помнил, может, и не всё, как надо. Кое-что наверняка присочинял. Так я читал им моё собственное Евангелие от Алексея; ну, да Бог простит. Канву-то я соблюдал. И читал, читал, и говорил, говорил. И они слушали, слушали. А один однажды спросил:
- Это вот что ты тут нам такое плетёшь языком? Правда это, или всё обман?
- Всё правда, - я сказал.
- Ух ты! Правда! А ты откуда взял, правда или нет? Гляди, наплёл!
- Это не я наплёл. Это записали жизнь Господа нашего Евангелисты. Матфей, Марк, Лука и Иоанн.
- А они откуда про Него знали? Гляди, сказочники! Да я тебе таких сказок воз и маленькую тележку накидаю!
- Это не сказки. Это правда.
- Да кто ж знает-то доподлинно, правда или ложь? Какая, к чертям, правда!
- Правда. Господь Сам есть высшая и последняя правда.
- Эка! Да что ты! Брешешь как по-писаному! А докажи! Сделай чудо!
Тут все в камере загалдели, заурчали, закричали:
- Да, да, чудо... Чудо!.. Сделай чудо! Чудо-то сотвори! А? Что? Слабо?! А возьми нас на слабо! Чуда! Чуда хотим! Чуда! Чуда!
И вот уже все они страшно вопили, безобразно разевая рты, надрываясь, хрипя, то ли глумясь, то ли молясь:
- Чуда! Чуда! Чуда!
Я встал посреди камеры. В обтерханных штанах, в изорванной рясе, босыми ногами на голом полу.
- Чуда хотите? Будет вам чудо.
Тут произошло нежданное. Бандит, у них слыл вожаком, схватил распоследнего бандитёнка, шестёрку, вытащил из-за сапога умело припрятанную от охраны заточку и всадил остриё шестёрке в грудь. Шестёрка упал, кровью заливаясь. Все расступились.
Тщедушный человечек крючился на полу, орошая кровью холодные камни.
- Ну что застыл! Валяй! Оживи!
- В бога-душу-мать!
Бандиты сыпали словами, выкрикивали: чуда!.. чуда!.. - потом утихли. Молчание упало пеленой тумана. Скрыло лица людей. Я не видел никого. Белый туман колыхался, плыл. Я медленно подходил к зарезанному. Видел: он ещё дышит. Опустился перед ним на колени. Ощупал рану. К сожалению, убийца попал в крупный сосуд. Если не наложить зажимы, несчастный изойдёт кровью.
Я резко встал.
- Хотите чуда? Будет вам чудо.
Я шагнул к стальной двери и заколотил в неё кулаком:
- Эй! Надзиратель! Срочно в лазарет! Меня и больного! У нас колотая рана!
Ключ в замке затарахтел немедленно. Ворвались надзиратели, подхватили раненого, побежали с ним по длиннющему, конца-краю нет, коридору, я широко пошагал за ними, и ряса моя чёрным знаменем развевалась.
В лазарете раненого взгромоздили на учительский, обитый чёрной свиной кожей стол - тут хирургических столов не водилось. Я попросил инструменты. Инструментов тоже не было.
- Это тебе не больница! У нас тут тюрьма!
- Принесите ножницы, кухонный нож, сапожную иглу, толстую... суровые нитки. Нож остро наточите. На огне обожгите. Иглу и ножницы тоже обожгите. Это дезинфекция. Спирт есть? Нет? Йод? Тащите йод. Вместо спирта водки бутылку. Водка у вас должна быть. Вату, бинт. Бинта если нет, рвите простынь на полоски.
Принесли всё требуемое, и даже водку. И бинт, и марлю, и простынку аккуратно на длинные ленты порвали.
Я оперировал. Руки сами летали. Под моими руками кряхтел, стонал и корчился разбойник Гестас. Он не раскаялся, но сейчас, я чувствовал это, раскается, вот-вот. Гестас, бормотал я ему, Гестас, ну что ты дёргаешься, понимаю, ты без анестезии, это очень больно, знаю, ну давай, вот глотни водки немного, чуток, в голову кровь бросится, жарко станет, хоть немного боль отойдет, отступит, давай, валяй, глотни. Я подносил разбойнику к устам чашу, а точнее, битую фаянсовую чашку, забытую на столе, из неё, из Чаши Грааля, следователи пили чай, а может, ту же водку, а может, макали туда пальцы, уставая перелистывать бумаги. Я раздвигал волокна мышц, я распахивал рану шире, всё шире, тщательно обрабатывал, чтобы не случилось загноения, заточка-то грязная, неровён час, сепсис расцветет, и тогда пиши пропало, поминай Гестаса как звали, а ты ещё живой, ну вот, отлично, не дёргайся, не кряхти и не плачь, твой вожак дурак, он от меня чуда хотел, чуда, а теперь ты будешь жить, ведь не полостное ранение, не в живот, кишки тебе не разворотило, кровищи только море, так и хлещет, ну я пальцами зажму артерию, и операционную площадь простынёй осушу, делать нечего, зажима-то тут нет, слава тебе Господи, все остальное нашлось, да ведь и помощника у меня нет, всё один, ну так, без перчаток, Гестас, одной рукой сведу и стисну края раны, иглу в зубы, нитка чудом вдета, видишь, есть на земле чудо, а теперь шить, мы же всегда всё сшиваем рваное, нельзя терпеть дыру, её надо заштопать, на жизни дыра, смерть, давай захомутаем её, наложим заплату, никто и не увидит, крепкий шов наложим на рваную рану, смерть, пускай она корчится под иглой, орёт, вот так, так, ещё шить, сшивать, жить-поживать, ты будешь жить, дурак, и вожак твой дурак, и все вы дураки, а может, и нет, ходите рядом со смертью, чтобы полнее, счастливее ощутить жизнь, давай, тупая какая игла, кожу протыкаешь, а она не лезет, пронзаю насквозь мягкие ткани, крестовидные наслоения мышц, рыбачью сеть капилляров, сгустки хрящей, ломкие ветки суставов, кровавую губку пузырчатых лёгких цвета густого Пасхального кагора, человек же такой красивый, он чудесно устроен, сам человек чудо, великое чудо Бога, сделан по образу и подобию Божию, а никто в это не верит, думают, человек сам по себе, а Бог Сам по Себе, но это неправда, а правде не верят, правда это всегда ложь, правду отрицают, правду гонят, над правдой смеются, правду бичуют, правду распинают, но от этого всего она не перестает быть правдой, это и есть чудо, люди, дураки, ах, бедняги, милые, родные люди, ведь это же и есть чудо, и это правда, все, Гестас, дружище, терпи, потерпи еще немного, сейчас, сейчас все оборвется, сейчас закончится чудо, наше с тобой чудо, возвращение к жизни, ты вернулся, я тебя вернул, вот и прекрасно, вот и все, последний шов, так, покрепче затянуть, зубами откусить, ну что ты, доктор, зачем зубами, вот же, рядом с тобой ножницы, схвати их и откромсай всё лишнее, отсеки, отрежь. Так. Всё!
Я швырнул ножницы на стол, они зазвенели.
Передо мной лежал разбойник Гестас и тихо стонал.
Я обработал, промыл водкой, залил йодом и зашил ему колотую рану. Ничего особенного. Никакого чуда.
Простая операция, простецкая, студент медицинского факультета сделает без труда.
Я продолжал читать заключенным Евангелие. Когда нас выгоняли на прогулку в тюремный двор, я понимал: вот она осень, вот оно предзимье, скоро снег повалит. Настало утро, нам всем приказали: на выход! с вещами! - и из одной тюрьмы погнали в другую. Пешком, через всю столицу. Ранним осенним утром, затемно. Нигде не горел свет. Ночью город погружали во мрак. Чтобы враг не узрел его с воздуха и не начал сбрасывать бомбы.
Мои воры молча топали рядом со мной. Я шёл, ими окруженный. Мне это даже нравилось: защита. От кого? Кто собирался напасть на нашу тюремную колонну? Мне захотелось на фронт, в мой покинутый госпиталь. Там я приносил пользу Родине, находился на своем месте и в своё время. А в тюрьме я пребывал в безвременье. Мне иной раз чудилось: это застенки Понтия Пилата, и я вправду среди разбойников, приговоренных к казни, и рассказываю им то, что еще только должно произойти. Завтра.
Так мешались в одном котле времена. Я отощал, с усмешкой щупал свои железно торчащие ребра. Сам себе прощупывал печень. Увеличена. Это недоедание. Проще сказать, голод. В баланде, приносимой нам, плавали свекольные хвосты, а мы смеялись: крысиные.
В новой тюрьме нас разделили. Воров угнали в неизвестность, меня и ещё трёх человек всунули в пустую, маленькую, тесную камеру с двумя нарами. "Будем спать валетом", - процедил бородатый узник. Я уловил в нем сходство с тем госпитальным доктором, вспомнил, как мы виртуозно и просто сбежали из вражеского плена. Он сказал: поздравляю нас, товарищи, мы политические! Я задумался. Я - политический? Почему? Потому, что священник? А разве вера - не личное дело человека?
Не-е-е-ет, нашептывал мне тонкий лисий голосок изнутри, нет, врёшь, нет у нас больше никаких личных дел, всё общественное, всё - общее. Всеобщее. И будь добр...
Я не додумывал. И так было всё ясно. Нам всем раздали бараньи тулупы. Меж собой мы толковали: значит, далёко повезут. На Север, на Урал, может быть, в Сибирь. Нас однажды повели на прогулку в тулупах. Вышли, а под серым шерстяным небом снег, и блестит, как старое столовое серебро. Наледью покрылся. Я присел на корточки, взял снег в руку и ел его. Пить хотел, а воды давали мало.
Обратно в камеру вели нас - узрел я около открытой двери соседней камеры мальчонку. Он стоял и дрожал, в босиком, в одной рубашонке, видно, только привезли, сдёрнули с постели. Ребёнок! Зачем в тюрьмы детей забирают? Дети-то что такого преступного сотворили? Я подошёл к дрожащему мальчонке, стащил с себя тулуп и набросил ему на плечи, и укутал его, и поцеловал. Где мои дети? Где моя жена? Всех взяла война. Всех съело Время.
Пошел по коридору, не оглядывался. Надзиратель орал: отставить! Но не подбежал, и у мальчишки мой тулуп не отобрал. И меня карцером за провинность не наказал. Я уже знал, что такое карцер. В карцере уже два наших вора по пять дней посидели, и оба заболели туберкулёзом. Если бы сорвать хвойную ветку и пожевать, жевать каждый день. Ни цинги, ни чахотки. Да в тюремном голом дворе ни сосен, ни елей.
Я всех лечил. Люди болели, заболевали часто, лекарств не было никаких. Особо тяжелых отправляли в тюремный лазарет, и там они умирали. Не вернулся в камеру из лазарета - все ясно: увезли на погост. Чем же я лечил людей, мое дитятко? Да всем, что в моём распоряжении имелось: кашляющему грудь ладонями докрасна разотру, тулупы навалю, - согревайся, нужно сухое тепло. У кого глаз заболит, загноится - попрошу у надзирателя кипятку, заварим чаю, у бородача в сапоге таилась чудом пронесённая в застенок пачка грузинского чая, и тою крепкой чайной заваркой больной глаз промываю. Кто на живот пожалуется - тоже крепким чаем потчую. А есть не разрешаю. Так, простым чайком, вылечил несколько отравлений. В клозете велел всем тщательно мыть руки с мылом, пока там на краю раковины валялся отрезанный ножом от большого куска синий, с прожилками, обмылок. Неровён час, уберут, а вы, люди, держите руки в чистоте! А ноги, ноги в тепле. А живот в голоде и так у нас уже. А голова в холоде: нет у нас тёплых цигейковых ушанок, охотничьих лисьих треухов. Выходим во двор воздуха свежего глотнуть, в ушах ветер свищет. Всё по правилам медицинским. Все предписания доктора исполнены.
И на старуху бывает проруха; а на старика и смертушка не крепка. Захворал и я, здоровьишко в неволе терялось ежеминутно. Безумный грипп свалил меня. Я кашлял, хрипел, поднялся дикий жар, я метался в жару на тюремной койке, и, потом сокамерники сказали, бредил. Когда вынырнул из тяжёлого бреда - мне сообщили: скоро пускаемся в путь по этапу, повезут на поезде, по слухам, на восток. Лежал ли я в лазарете? Дитятко, я не помню. Память отшибло. Может, и лежал. Тогда спасибо тюремным врачам, что меня выходили. Вирус жрёт человека изнутри, и может до костей сожрать. И сделаешь ты последний вдох, а выдоха не будет.
Эшелон с арестованными трясся, скользил вперед и вдаль по чехоням-рельсам, бежал обречённым путем по узким, скользким от инея стальным селёдкам, и кормили нас селёдкой, а вагон качался, переваливался на рельсах чудовищной уткой, и всё было живое - и вагон, и эшелон, и парчовый алмазный иней, и заснеженные сосны и пихты по обеим сторонам дороги, и вороны и сойки в чёрных колючих ветвях, и крики, ругань, смех и стоны узников, а я один сидел мёртвый, Временем приваренный к твёрдому дорожному топчану. Ни спать, ни пить, ни есть, ни глядеть. Глаза чуть прикрыты чугунными веками. Вижу всё внутри. Продолжаю видеть.
Трясясь в вонючем вагоне, я видел все внутри.
То, что произошло тысячи лет назад; то, что через тысячи лет должно произойти.
Я один. Я лечу.
Да нет, не людей лечу. Я лечу над Мiромъ.
Это всем только кажется, что я живу, дышу, среди людей передвигаюсь. Делаю дело свое, и стараюсь делать его хорошо. В тюрьме свои дни влачу, послушный воле людей, лишивших меня свободы. Нет. Я не здесь. Я не только здесь. Я ещё и здесь. Небо ли это? Время ли? Не знаю. Это мой полет. Раскинуть руки, так удобнее лететь, проще. Гляжу вниз. Мне чудится, у меня за спиной хлопают крылья, перья чуть звенят, посверкивают в лучах звёзд, и у меня от этих искр по голым рукам ходят мелкие сполохи.
Я не знаю, одет я или гол. Руки вижу: нагие. Сильные, все в игре мускулов. А через миг - старые, с дряблыми мышцами, со стариковскими пятнами-бородавками. В таких руках нельзя держать скальпель и делать разрез. А если к тому же и зрение угасает, тебе не место у хирургического стола, доктор. Сиди в кресле, держи кошку на коленях, гладь ласково.
А я лечу.
Я здесь, в тесной и тёмной камере, в каморке, внутри человечьей каменной постройки, где томятся, не зная своей вины, арестованные люди; и я здесь, в ночных небесах, и отсюда, с небес, далеко внизу, я вижу мою Землю, а на ней идут войны, сшибаются мiры, народы в кровь бьют друг друга, топят, сжигают и вешают, расстреливают в упор, один народ убивает другой, из ненависти, а бывает, из любви, ведь когда зверь-человек любит и страдает, он хочет убить того, кто причиняет ему страдания. А когда он любит и счастлив, он хочет убить того, кого любит и кто любит его - чтобы его любовь никому другому не досталась. Чтобы только он один владел! И один - помнил.
Я лечу. Полет ужасен. Он бесконечен. Я не знаю, когда он оборвётся. Меня тошнит, кругом катится голова, зрение обостряется до яростного блеска гранёного алмаза. Я лечу и гляжу вниз. Я не в тайной замкнутой камере. Не в тюрьме. Им меня не запереть. Я всё вижу и всё запоминаю. Гляди, говорю я себе строго, и запоминай: кроме тебя, этого больше не увидит никто.
У меня в руке невидимый жезл. Вижу его только я. Он отсвечивает золотом, он сплошь усыпан росою мелких алмазов. Звёзды? Слёзы? Всё равно. Вижу: небо омывает чёрной кровью мои босые, раскинутые в полёте ноги. Их пока не сломали в пытках. Они не покрыты шрамами от боевых ран. Я часто испытывал сильную боль, и я не боюсь боли. Я боюсь предательства. Я боюсь предать Бога моего; я уверовал в Него и я люблю Его, и все, что я вижу внизу, в земной прошлой жизни и в будущих веках, это Его достояние.
Не моё.
Оно моё, лишь пока вижу.
Сейчас вижу. И говорю. Лечу и говорю. Сам слышу свой голос. Надо, летя, говорить, тогда будет не так страшно. Пространство тоже может убить, как и Время. Это два убийцы человека. А человек мечется среди них, то к одному прижмётся, то к другому. Они оба ему родные. И оба - его палачи.
Солнце здесь, высоко над Землей, горит не желтым, а синим светом; иногда голубым, в алый отсвет; иногда белым, слепящим. Золотое Солнце только на Земле, на берегу реки, в день, когда не бьют разрывными и не взрываются снаряды. Над рукавами рек, над синью плачущих озер лечу я, летит мой голос. Могу даже закричать! О том, что вижу.
Грядущая жизнь, ты благодать! Жизнь, ты вечная благодать! И там, через тысячелетия, ты будешь благодатью! И так же бедный человек будет любить тебя, и так же будет стараться жить, не умирать, не умереть! Стать землёй и воздухом, огнём и водой! Разве это участь! Мы не стихии, мы люди! И хотим пребыть людьми! И остаться людьми! И там, через тысячи лет, мы все будем людьми; и там мы будем любить и ненавидеть, мстить и сражаться, есть-пить и молиться. И рождать, рождать на свет себе подобных.
И умирать, проклятье... умирать...
Лети, кричал я себе, зри, запоминай! Умирать, люди будут всё так же умирать! Как и сейчас! И даже от рук друг друга! Есть я, и есть мой враг! Есть Христос, и есть бичующие Его! Но ведь Он простил палачам своим! И мы должны простить! Но нет! В груди несем не прощение, а вечную войну! Да, она справедлива! Да, освободительна она! Но, освобождая нашу землю от врага, мы убиваем человека! Того. Другого. Иного. Чужого. Не наш! Убей. Враг! Убей. Он твоего сына убил, твою семью убил, твою душу убил - его убей!
Я вижу там, далеко, очень ясно всё, до мелочей, с такой высоты нельзя их разглядеть, а я всё равно вижу, вижу, наплывают, ползут друг на друга колонны чудовищных гигантских машин, эти механизмы не известны в моем Времени, они не круглые и не квадратные, у них пять железных углов, вместо гусениц танков, нам хорошо знакомых, у них стальные паучьи ноги; сочленения гнутся и шевелятся, ноги переступают быстро, пятиугольное железное брюхо ноги несут легко, будто не на земле бой, а в невесомости, в туманном сне, с полей наползает сизый голубиный туман, я вижу, как рядом с ползущими по земле стальными каракатицами бегут люди, держат за края белые квадраты, да, я понял, что это, я рассмотрел, это такие будущие носилки, они огромные, необъятные, да, на них лежат люди, лежат плашмя, кто корчится, кто свернулся в утробный клубок, кто на животе валяется, кто рвет на себе от непереносимой боли волосы, это солдаты новой войны, а носилки-то твердые, такие квадратные, цвета снега, невесомые доски, и люди, тяжёлые, грязные, в крови, они на диво тоже невесомы, ничто не весит, всё только снится, и бойня эта новая снится, только жертвы настоящие, и надо быстрее из битвы их унести, все такие же врачи, все такие же санитары, а вот лежит в центре белого квадрата человек, нет, уже не человек, месиво из костей, потрохов и взорванных мышц, это человек, голодный, живот подвело, нашёл в кармане убитого врага заморскую сладость, жадно съел её, и снаряд, величиною с чечевицу, разорвался у него внутри.
Человек убивает человека. А там, вдали, над полем, я вижу, как сшибаются тучи. С одной стороны наползают тучи светлые, облака кучевые, летят из них стрелы солнечные, стрелы пламенные, стрелы огненные; с другой стороны наваливаются тучи смоляные, нефтяные, дегтярные, цвета взорванной земли; они, несомые грозовым ветром, приближаются быстро и неотвратимо; летят из них чёрные длинные копья, вонзаются в светлые, сияющие телеса лёгких, победно-радостных облаков. Битва Небесная! Битва Предвечная! Там, в небесах, времена и народы бьются - не на жизнь, а на смерть. И очень важно, кто победит. И - надо победить! Даже если все умрем!
Я лечу, я вижу: отныне и навсегда мы будем жить внутри войны. Мы всегда будем воевать. Эта битва, мы мним её последней, она растянется на века, на тысячелетия. На вечность.
Санитары тащат носилки. Мы их перевернём! Кто это мы? Мы не знаем, кто мы. Нам бы это узнать. Не санитары носилки волокут. Их тащит вихрь. Ветер. А люди просто держатся за края белизны. Когда перевернутся носилки вихря, когда встанут друг против друга и оскалятся, как звери, санитары, начнётся новая война.
Тогда нельзя будет отличить людей Бога от слуг Князя тьмы. Все поменяются местами. Новая война налепит на людей новые ярлыки. Вот идет, грохочет новое орудие смерти: дом на колесах, величиной с гору, гремит всеми железными листами, шурупами и болтами, если он на тебя наползёт, раздавит тебя кровавой букашкой под бешено вертящимися колесами. Дом вздымается стальной волной, дом издает человеческий крик. Погибая под взрывами, дом хрипит, но убить его слишком трудно, ибо он имеет способность возрождаться. Железо, если оно мыслит, человеку подобно, и размножается, подобно человеку, оно уже бессмертно, и сжигай его не сжигай, оно воспрянет и восстанет против человека. Убьёт родителя своего. Да ведь так и дети поступают с отцами и матерями; отцеубийца проклят, матереубийца казнен на площади, да только вновь и вновь они, убийцы тех, кто их породил, приходят на землю. Все возвращается. Хорошо это или плохо? Мы мечтаем о бессмертии. А ведь оно хуже самой лютой казни. Я, врач, спасаю людей от смерти, и я всё время забываю, какое благо - умереть.
Лечу и вижу. Лечу и плачу.
Лечу, а может, еду, а может, сплю. Нет, это меня на подводе в новом городе везут в новую тюрьму. Холодно. Это Север. Меня привели в новую камеру, там угрюмо сидели и молчали новые люди, я сел на нары, опустил глаза и закатал штаны до колен. Мои ноги неимоверно распухли. Это плохо работало сердце. Не тянуло тяжелый воз изношенного тела.
Я был ещё молод, дитятко, а уже как старик.
Ночь прикрыла нас и наши одинокие слёзы толстым, беспросветным траурным платом. Я лежал и глядел в потолок. Думал о войне. Она шла далеко и бесконечно. Я закрыл глаза, хотел уснуть. Не получилось. Я видел перед собой большую войну, другую, не нашу, там люди сражались невиданным оружием; потом вдыхал ароматы мира, потом надвинулись видения ещё одной войны, потом ещё, и я перестал расставлять войны по старшинству, по ранжиру и росту, я просто понял, что им нет конца, и стал я безутешен. Нас желают захватить! Но мы не дадимся. Не поддадимся! И Давид побивал несчастных филистимлян ослиною челюстью! И героиня Иудифь отсекала голову вражескому царю Олоферну! Чем мы хуже? Но ведь и не лучше! Война всеобща. Теперь нам надо в ней жить. Мы не выберемся из неё. Если и возникнет замирение, оно на час, на полчаса. Передышка. А потом опять.
Да, опять, на другое утро, после ночи в холодной тюрьме в холодном, до крыш заваленном снегом и льдом городе, нас погнали на вокзал, втолкнули поезд, и шатались мы в нём, живые маятники, до другого города, и я, доченька, не помню ничего, что было в тот день. Ничего! Старая память. Нету памяти. Как красиво лежат твои беленькие коски у тебя на груди. Я не вижу глазами, но я вижу сердцем. Будто седые, но ведь ты не старушка, а девчонка. А будто старушка. Я священник, я и старуху могу назвать во храме: дочь моя.
Явился и третий поезд, и третья дорога. Мы понимали: едем по Сибири. В третьем арестантском вагоне маленькие зарешеченные окна, как дырки скворешен, торчали под самым потолком. Я вставал, мне на плечи взбирался, кто помоложе и похудощавее, а по нашим спинам на самый верх, как в цирке, залезал совсем мальчонка; осуждённые дети тоже ехали с нами. Вагон был набит людьми до отказа. Кормили нас селёдкой, и иных селёдкой рвало, и все страшно хотели пить. Я призывал всех терпеть и вслух молился. Кто повторял молитвы за мной. Кто глумился и пытался меня переорать бодрой песней: наш паровоз, вперёд лети, в коммуне остановка! Иного нет у нас пути, в руках у нас винтовка!
Население нашей вагонной камеры удивляло пестротой. Бандит, он громко хвастался, скольких убил; людей называл "мясо"; два вора-щипача; белобрысый мальчик лет десяти; трое рабочих с лесопилки; фортепьянный настройщик; двое почтовых служащих, жаловались, что прямо на почте их и зацапали, и мёрзли они в лёгкой, не по зиме, одежде; две уличных шалавы, одна старая, другая юная, чуть постарше тебя, милая; ночью распутницы ускользали к охране, увеселять ее и потешать, за это стража оделяла их куском хлеба, и однажды ломоть сыра старая шалава притащила, а молодая - рыбные консервы, "Камбала в томатном соусе", название, видишь, запомнил.
Бабёнки хлеб и иную пищу нам вручали, просили: разделите поровну. Я был поражен таким благородством души. Мне давали свободу распределять еду. Я воображал, как эта еда была заработана. Разламывал хлеб, раздавал куски страждущим, и слёзы заливали мне слепое от горя лицо. Я глядел, как люди ели, искоса взглядывал на шалав. Шалавы тоже глядели, как люди ели, и плакали, как и я, утирая щёки и носы грязными, в саже, ладонями.
Нас всех, весь поезд, привели в третью тюрьму. Я усмехался: Бог троицу любит. В новой тюрьме у меня стащили все мои вещи. Ничего у меня не осталось. Я стал гол как сокол, и даже радовался этому. В камере сидели злые люди. Они захотели меня убить. Я с большим сожалением вспоминал про свой острый скальпель, когда разбойники ночью напали на меня и стали бить, и все приговаривали: убьём, убьём, мокрое место от тебя останется! Почему они меня невзлюбили, я не понял. Может быть, за молитвы. Я молился вслух. Это могло им не понравиться.
День я лежал, избитый, потом неделю заживали кровоподтеки. Ни слова не сказал охране. Все слова в заключении напрасны. Словам не верят. Да и самой жизни не верят. Верят только смерти. Она приходит, и человека надо списать со счетов, заполнить нужную документацию, вот это настоящая работа.
Новая тюрьма располагалась в подвале огромного, величиной с корабль, старого каменного дома. Зима вымораживала нас в камерах, как клопов. Я выходил в коридор, нас вели в отхожее место, однако в коридоре живого места не было, все заросло столетней засохшей грязью. Со двора доносились выстрелы и крики. Убивали людей. Разбойники подходили к окнам, наблюдали расстрел, гоготали. Я не смотрел в окна на смерть. Отворачивался. Опять плакал.
Слезы текли по щекам уже безостановочно. Я презирал себя за это.
Я хотел на войну.
Хотел к хирургическому столу.
А не отскребать постыдную грязь во мрачном, душном коридоре тюрьмы.
Братцы, мы тут живем как в гробу, выцедил беззубый разбойник, что крепче всех лупил меня недавней ночью. Из гроба мы скоро вышли на свежий зимний воздух. Нас построили в ряд по двое и повели. Перед строем ехала черная кургузая машина и гарцевал всадник на гнедой откормленной, толстозадой лошади, лошадиная шкура лоснилась. Мы шли долго. В пути ослабли, свалились в снег люди. Остались лежать. Нас гнали дальше. Мы уходили и оглядывались. Обессиленные не шевелились. Я сказал беззубому: лучше замёрзнуть и тихо уснуть, чем такая жизнь. А он мне знаешь что ответил? Негоже батюшке так рассуждать. Всякая жизнь дорога. Другой у человека не будет.
Так разбойник научил меня, священника, любви: в который раз от Сотворения Мiра.
Остановились на ночлег в заметенной великими снегами деревне. Спали на полу вповалку, живыми бревнами, теснее друг к другу прижимались, чтобы согреться. Среди ночи в дверь бешено застучали: отворитеся! мужик помират! мучится оченно, силов нетути глядети! Охранник дверь открыл. На меня гаркнул: ты дохтур, што ли?! Я что было сил побежал за плачущей взахлеб бабой в огромном, с кистями, платке, и ноги вязли в глубоком снегу, я их зло вытаскивал из сугроба, вытряхивал из валенка снег и бежал дальше. Дом гремел на метельном ветру раззявленной дверью. Мужик лежал на широкой лавке, руки свешивались до полу, охал, иногда вскрикивал и скрежетал зубами.
- Где болит?
- Животе-е-е-ень...
- Здесь?
- Да-а-а-а-а! Ай!
И опять я родной скальпель вспомнил.
- Хозяйка! Нож острый с кухни тащи!
- Охти мне! Каковской? Тесак свиной?!
- Да хоть его! И водки, хоть на дне бутыли!
- Как жа, как жа... без водки-то, ах...
Принесла. Я обжёг лезвие на пламени свечи и полил потемнелую сталь водкой.
- Ещё, мать, ваты неси.
- Што-о-о-о?!
- Ах ты Господи... Ну, корпию. Ветошь! Тряпки ненужные! Кровь чем буду промокать! Быстро!
Баба притащила целый мешок разномастных тканевых обрезков.
- Вот, дохтур... эх, толечко не ори ты так...
Я быстро и крепко привязал тряпками руки и ноги мужика к лавке. Задрал ему рубаху. Спустил портки. Антисанитария! А делать нечего. Вперед, хирург! На войне как на войне!
Я сделал широкий разрез. Сразу живот распахал. Аппендицит, типичный. Хорошо бы не гнойный. Ну, Господь, храни меня! И мужика. Без Тебя, Господи, никуда! Пусть иные смеются! А вот никуда!
- Таз принеси...
Баба носилась по избе как помело.
Медный таз брякнул об пол около лавки и около распятого мужика. Живот вздувался. Кровь лилась на пол. Я ущупал червеобразный отросток, вслепую отыскал кончиками пальцев, в разливанной кровавой луже раскромсанной брюшины, его основание и рубанул обожжённым тесаком по налитому гноем червю. Так быстро швырнул его в таз, что сам испугался.
Мужик заорал.
- Мать! А йод у тебя в избе есть?!
- Дохтур! Што таковое ё-о-о-от?! Не знаю-у-у-у-у!
- Не вой как волк...
Значит, водкой обойдусь.
- Половник неси!
Кровь половником из брюха вычерпывал. Таз наполнялся. В ночи, при свете тусклой свечи, кровь чернела, как варенье из черноплодной рябины. Моя жена, в другой жизни, варила такое.
Мужик орал.
Ветошью кровь обтирал. Ветошью тампонировал распаханную, как дышащее поле, брюшную полость. Грязной ветошью! Мыши в ней ночевали! Что я делаю! Сепсиса мужику не избежать! Но вертел и вертел из тряпок тампоны, и совал, совал их в разрезанный живот.
Господи... шить...
- Баба!
- Божечки, божечки...
- Иглу мне, наибольшую, какую найдёшь! И нитку толстую, суровую! Можно - шерсть! Пряжу!
Баба незряче отматывала от клубка нить, перекусывала зубами, в зубах принесла мне иглу, я вытащил у неё иглу из зубов, губы её тряслись. Игла вспыхивала под свечой. Детонька, глаза мои в те поры зрели Божий Мiръ, я вдел в иглу пряжу, соединил края разреза и стал шить. Шил, шил, всё туже и туже затягивая стежки. Мужик орал. Вдруг перестал орать.
Я отступил от лавки на шаг. Вытер лоб кровавой рукой. Кровь, видать, размазалась у меня по лицу, и баба отпрыгнула от меня, как от ведьмака.
Согнулась, как переломилась, в земном поклоне. Стала падать, валиться на меня.
- Ну что ты, баба...
Я подхватил её под мышки, усадил на лавку, в ногах мужа. Отвязал мужика от лавки.
Баба ревела в голос, должно быть, от радости. Мужик прохрипел:
- Экой ты ловкой... яко охотник в тайге...
Баба цеплялась за подол моей изорванной в долгом пути рясы.
- Батюшка родненькой!..
На табурете, у изголовья мужика, лежали: красный нож, красная игла, обрывок красной нити, выпачканный кровью клубок. Тряпки валялись под лавкой, по половицам, у печи. Будто разноцветные котята в тепле спали. А кошка гуляла на морозе.
Я погладил бабу по голове и широкими шагами, сам боясь разреветься, вышел вон.
За мной, ругаясь страшно, побежал охранник; пока я оперировал, он привалился к печке и задремал, а сейчас я уходил у него из-под носа, неровён час, в тайгу убегу, и поминай как звали.
...страшные машины передвигались по небу мгновенно. Возникали из ничего, из тумана.
Растворялись в текучем, пламенном воздухе.
Они сжирали воздух и рождали пустоту; мгновенной молнией утекали по руслам пустоты, проваливались в её разверстые дыры. Третья война убивала сама себя, а люди думали, что убивают друг друга. Враг - врага. А это война ярилась, рыдала и хохотала, лишая себя жизни на глазах у всех. У каждого.
Люди думали, Третья война - последняя. Ничего подобного. Я видел ту, что явится позже, Четвёртую войну. В Третьей оружие приходило из ниоткуда и исчезало в никуда. В Четвёртой на дико орущих людей летели, быстрее звука и света, с косматых мрачных небес стальные носороги и крокодилы, тупорылые железные киты. Они летели, они падали, чтобы разбиться о наши безумные головы, но не разбивались, а в последний миг зависали над собственной смертью, наставляли железную морду на тебя, да, прямо на тебя, и тогда уже приближались медленно, жутко, завывая, клокоча, надвигаясь неотвратимо, и круглые стеклянные глаза их оживали и вращались в глазницах, их вращал чужой безмолвный приказ, сила неведомой мысли, машины слушались не руля, не педали, не кнопки - они подчинялись мысли, мгновенной её вспышке, то отчаянной, то победной, поэтому они двигались по небу, по земле и в глубине океана могучим продолжением беспомощного человека, и человек становился непобедим.
Да, самолеты в виде крокодилов налетали и глядели нам в перекошенные последним ужасом лица, а на троне надо всем Мiромъ сидел один Владыка, и отмерено ему было жизни, я знал, немного. Я видел его изрезанное оврагами морщин каменное лицо. Он закидывал голову, тяжелая корона валилась с его головы прямо в снег, ибо трон стоял, врытый во льды и снега, это белыми глазами глядели в тебя полюс и вечный мороз, и Одинокий Царь сидел, укутанный в древние шкуры горностаев и белых песцов, и грел руки одиноким дыханием. Прищурясь, он глядел вдаль, на торосы, на густо-зелёную кромку застывающей у берега воды, на алое лезвие заката, так похожего на смерть. Он глядел на рыбачью лодку. Она медленно плыла вдоль берега, и Царь не различал в ней рыбака. Я его видел. Старика с чёрно-седой, кольцами, буйно-бешеной бородой. Старик мерно грёб, и я рассмотрел: рыбак-то в рясе. Батюшка на рыбную ловлю в море вышел. Что ж, рыбку и Апостолы ловили. Всё правильно. Так и надо. Земля умирает, железные крокодилы пожрут её и всю жизнь на ней, а ты знай рыбу лови, соли, вяль, вари, жарь. Рыба - жизнь. Не зевай!
Гляди, последний Монарх, думал я, созерцая ту картину, мелко дрожа на холоду Времени, он свободен, твой подданный, твой рыбак, ты уже не можешь им управлять, ему повелевать, ты можешь только на троне восседать и пялиться в небеса, насквозь изрезанные железными китами и косатками. Ты приказал разрушить Мiръ - а он плывёт! Ты приговорил белый свет - а он плывёт! Всё живёт, и на тебя плевать хотело!
Но видел я, теряет лодка путь, плутает рыбак, правит в открытое море, и больше не вернётся, а благословенно это или страшно, он сам не знает, в открытом море много рыбы, но много и гибели. Железные спруты поднимаются со дна. Железные Левиафаны загрызают одиноких ловцов. Оглянись! По берегам лепятся к горам города, сёла, деревни, соборы, церквушки и часовни; люди до последнего верили в Бога, они и сейчас верят в Бога, всё ещё верят, всё ещё...
Ну что, Владыка, ты бы рад был приказать роскошному Вавилону: умри; бедняцкому селенью в далёких горах: а ты живи! Не можешь. Ты уже ничего не можешь. Твоя Четвёртая война сильнее тебя. Люди победили Третью войну, они её пережили, переплыли, вместе с тем рыбаком, в той самой рыбачьей лодке, он накормил одной-единственной своей жизнью всех голодных, страждущих, плачущих, погибающих, - а Четвёртая побеждает людей; ей не нужны ни хлеб, ни рыба, ни жизнь, ни смерть, - она, железная, выше смерти, она смеётся над жизнью и над бессмертием, надо всеми богами и царями, и над единственным Богом, и над единственной землёй, чёрным шаром катящейся под нашими умирающими ногами; ей и она сама не нужна, её молитва - самоубийство, её завет - ничто. Пустота. Зеро.
Древние мудрецы учили: в моём конце моё начало, в пустоте наивысшая полнота. Неужели они нас обманывали? И себя - обманывали?
Я видел: казнь Земли вот-вот совершится. А под ногами моими - Родина. Она вся в снегах. В песцовых, в собольих, царских шкурах. В рухляди драгоценной. В мантии искристой. Давно нашей верой коронована, а ликом с Божией Матерью схожа. Родина, икона моя! Я с моей войны много писем домой написал. Мысленно. Покинутой жене, утраченным детям. Я безумец, да, но кто же из безумцев в этом признается? Может, и верно, что я, ныряльщик во Время, оставил жену мою и детей моих и пошёл на войну, и повлёкся, как на войну, в неволю. Плох тот человек, что не испытал войны, революции и тюрьмы. Я всякую наблюдённую мною смерть пережил, как свою. Воскресал. Утекал вперёд кровавым ручьём. Торил кровью своею дорогу в снегу: тем, кто после придёт, кто идёт за мной.
Враг, он никогда не возьмёт нашу столицу. Наш великий град - город Солнца. Луна катится колесом. Вглядывается сквозь ночь в спящих нас. Мы спим нашу последнюю ночь. Я вижу эти бумаги, читаю эти косноязычные, злые законы, указы, кипящие ненавистью. Всё. Приближается кончина. Воздымется океан. Хлынет вода на берега, зальёт города, вскипит в узких пещерах улиц. Океан уже надвигается на сушу, солёная вода накроет нас; это все наши слёзы, на всей земле пролитые когда-либо.
Откуда движется на Родину смерть? С Запада? С Востока? Всё равно. Сражаться. Вот что остаётся в Четвёртой войне. Да и в этой, нынешней, то же самое остаётся: нет замирения, нет переговоров, нет надежды. Война каждый раз последняя. Она всякий раз - конец света. И, сражаясь, мы не знаем, отодвигаем мы его или приближаем.
С Востока по морям идёт один вражеский флот, идёт другой, дружеский флот, и мы путаем на кораблях биение флагов, мы не различаем, друг приближается или враг, а надо зорче быть, надо вглядываться вдаль и понимать, кто перед нами. Пустеют храмы Божии. Кричат чайки над морем. Разве я когда-нибудь увижу море? Какое оно? Неподвластное оку? Зрение, ты же Райское блаженство. Мы, обладая зрением, живем в Райском Саду, но не осознаём того. Рассыпаны по морю острова. Война - остров в Мiре. Мiръ - остров в войне.
Снежные змеи ползут. Обвивают мне ноги. Море отхлынуло. Железные крокодилы прогудели над затылком и утонули в тучах. Метельные змеи обнимают, крутят меня в танце. Я в тайге. Я иду сквозь тайгу. Здесь нет войны. Ни нашей, ни Третьей, ни Четвёртой, никакой. В тайге, в медвежьей берлоге, спрятаны дети последнего Царя. Они ещё не родились. Но они уже там. Я их вижу. Их упрятали, чтобы их не убили. Землю всю выжгут дотла, а дети выживут. Зачем? Они не сумеют добывать себе пищу. Они умрут.
Все умрут.
А когда все умрут, из подземелий Ада выйдут на поверхность земли старики и старухи.
Они выйдут, чтобы увидеть, как умирают их дети, внуки и правнуки. Чтобы увидеть мёртвых детей. Тогда они поймут: и мы мёртвые. Они услышат крики, услышат молчание, услышат смерть. Услышат голос ничто.
И старики захотят, чтобы двигались их руки и ноги, захотят увидеть, как полыхает огонь, как умалишённо хлещет в лица людей вода, погребая их под собой. Они крикнут: последний Царь, ты сумасшедший! Ты никто! Ничто!
Я прошепчу старикам: это Антихрист, неужели вы его не узнали.
Но старики не услышат моего дикого шёпота.
Отчего война? Почему ненависть? Какой правитель вызывает другого на бой? Когда придут к согласию? Когда все будут сожжены, застрелены, взорваны, утоплены, задушены, зарублены, зарезаны, мертвы? Когда один, некто, полоумный, соберёт под чужой пограничной стеной тайные войска, и затаится, и станет выжидать удобной, роковой минуты?
И люди превратятся в диких зверей. Зарычат. Завоют. Станут изгибаться хищными телами, у них отрастут хвосты, и ими они будут бить по земле, возбуждая себя для близкой кровавой грызни.
Зачем война? Чтобы завоевать? Чтобы покорить? Чтобы царить?
Я никогда не хотел быть изгнанником. И вот я изгнанник у себя на Родине. Я на Родине, и я в её тюрьме, и меня бьют и мучат мои родные люди, и я уже не на земле, я в последних небесах, в последней тайге, на последней тропе. Я не могу зверино ненавидеть. Я не могу участвовать в заговорах. Убивать из-за угла. Я в человеке напротив вижу родню. Даже в старом разбойнике. В наглом бандите. Я согласен быть убитым, чтобы только чужой мальчонка согрелся в моем казённом тулупе.
Мы рабы, но мы не разучились петь песни. Мы поём даже гимн нашей Родины. По утрам, когда нас поднимают в тюрьме на перекличку, мы гимн поём. И теперь, когда мы с охранником идём по морозной тайге, по хрусткому хрустальному, жёсткому снегу, и визжит он под валенком, как заколотый поросёнок, я тихо, шёпотом пою: вставай, проклятьем заклеймённый, весь Мiръ голодных и рабов! Кипит наш разум возмущённый, и в смертный бой вести готов!
Опять в смертный... опять в бой...
Выпустите нас из тюрем! Выплюньте из-за колючей проволоки! И, если вы нас освободите, мы рассыплемся по всей воле цветным заполошным салютом, и мы выйдем на волю не рабами - князьями, полководцами, воинами, героями! Последней в Мiре войне нужны герои. Герои - это мы. Мы! А вы нас - за решётку!
Но тем сильнее восчувствуем мы, герои, вождя нашего: Господа. Бог нас ведёт.
И можете в ваших воплях на площадях, в ваших благолепных проповедях нас юродивыми именовать! нас оскорблять и грязью мазать! нас проклинать! над нами злобно хохотать! Мы от этого хуже не станем. Мы - сила! Мы - слава. Мы - вера. Мы - воинство. Мы пойдём сражаться за Родину и за жизнь, и мы уже - народ. И, умирая, падая на землю в кровавом бою, мы продолжаем жизнь. Мы не даём земле умереть! Ещё немного! Ещё живи! Ещё...
Падаю на снег. Звёзды над пихтами. Звёзды над острыми верхушками чёрных елей. Звёзды ходят кругами, и у меня кружится голова. Охранник орёт: встать! Я лежу. Надо мной, далеко, в бездонной вышине, в иной жизни, плывёт красная осьминожья звезда. Это Марс. Он чуть красноватый, испускает острые, ножевые лучи. Потом вдруг переливается речным перламутром, гаснет на миг: туча наползла, - вспыхивает опять, вонзается в глаза. Свет, острый скальпель, разрезает склеру, сетчатку, стекловидное тело, добирается до вожделенного хрусталика. Если хрусталик помутнеет, я могу ослепнуть. Ну и пусть. Значит, так суждено. Смирение и терпение, так учили отцы Церкви. Я их наизусть повторяю. И Ефрема Сирина, и Григория Богослова, и Иоанна Златоуста. А превыше всего твержу Исусову молитву. Господи Исусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного.
Марс надо мной. Над нами всеми. Стоит. Не уходит.
И не уйдёт.
Я вижу войны. В будущем. Всегда.
Ныне, и присно, и во веки веком. Аминь.
Третья? Четвёртая? А не хотите, люди, семьдесят войн ждёт впереди?
Богу молитесь? А если всех богов убьют, распнут опять и навек, без малейшей надежды Воскресения?
А не хотите, убийц Бога, убийц всех святых будут из-под земли доставать - и страшно казнить, пытать, сжигать, так человек будет мстить, и, мстящий, будет радоваться, озлобленный, будет злом наслаждаться и во зле торжествовать?
Зло рождает зло. Это закон.
Зло хуже чумы. Хуже оспы, холеры. Злом заболел - перестал в зеркале отражаться. Вот ты, дитя моё, ты ведь отражаешься в зеркале? Отражаешься во мне? Да, шепчешь ты, да! Я слышу. Спасибо тебе за радость. Сердце моё бьётся, когда я рассказываю тебе свою жизнь. Но ведь это и твоя жизнь тоже. Та, которую ты ещё не прожила.
Я говорю тебе, и ты слушаешь, и ты слышишь не только голос: ты обновляешься, очищается твоя душа, под рёбрами сияет сердце твоё, моё сокровище. Прижми руки к груди. Кожа и косточки. Слушай, как сердце бьётся.
Наступит такое время, знай, что сто лет на небе не будет радуги. А потом сто лет на небе будет радуга сиять каждый день. Воссияет на целый век, самоцветная, счастливая. Сухая мёртвая земля новой влагой оросится. Ты выбежишь под ливень, новая ты. Поднимешь руки к небу! Так будешь стоять под стеной серебряной воды! Чистой! Тёплой! Земля напьётся! И ты будешь смеяться! Такая радость, счастье. Ты хочешь счастья? По радуге пойди.
НИКОЛАЙ
Я сам не знаю, как я спас её. Я думал, она уже труп.
Толчок изнутри. Я подошел. Старался не смотреть на разбомблённый санитарный поезд. Смерть мелькала перед глазами, и глаза болели, а я переставал видеть. Не хватало только ослепнуть, да понятно, что не от вида мертвецов. Тут другое. Витаминов ни черта не хватает. А откуда их на фронте взять.
Иногда я вспоминал моего бородатого доктора, соратника, собрата, и думал насмешливо и горько: хорошо хоть, не замучили враги. А близки мы были тогда к тому, чтобы трупами стать. Отличную гнилую дощечку в стене сарая обнаружили; спасибо, дощечка, спасла нас.
Может, где воюет. В смысле, бойцов спасает. Да не пересечёмся уже. Гора с горой на войне не сходится. Кого-нибудь из нас убьют. Не дай Бог.
Бог? Привыкли мы, чуть что, Бога поминать. Вот и я туда же.
Крик раздался.
- Эгей! Доктор! Гребите сюда! Около вагонов полно живых валяется! Может, спасём кого!
Спасать. Спасти. Завет на всю войну. Одно слово. Это вместо клятвы Гиппократа.
Кричу в ответ, глотку надрываю.
- Иду-у-у-у!
Иду.
Парень, обе ноги оторвало, из культей кровь хлещет. Теряет кровь стремительно. Сейчас умрёт. Тут ни переливание не сделаешь, ни зажимы не наложишь, ни жгуты, ничего. Вот уже бледнеет, зеленеет. Я не гляжу, как он умирает. Только хрипы слышу. Тысячу раз я видел, как человек, умирая, странно выгибается. Будто хочет достать что-то важное, немыслимое, откуда? У небес отнять? Не дано ему. Он - на земле - помирает. И ничем смерть не отодвинуть. Никакими руками. И никакими разрывными её не расстрелять.
Мужик, череп раскроен. Ещё дышит. Глаза выкатывает. Ещё видит. Меня увидел. Знаете, мозг, сам по себе, не болит. Серое вещество безболезненно. Болят ветки нервов, его оплетающие. И кожа головы. А мозгу не больно, и черепу не больно. Кости тоже не болят.
И этому жить осталось - раз, два, и обчёлся.
А может, можно попытаться. Попробовать. Попробую.
- Эй! Носилки!
Бегут парни, с носилками. Я показываю на этого, с расколотым черепом. Парни кладут его на носилки быстро, а мне кажется, медленно, как в кошмарном сне. Когда ты сознаёшь, что снится сон, но двигаешься как сомнамбула, бежишь, еле передвигая ноги, и не можешь убежать, бежишь на месте.
Утаскивают. Сломя голову к госпиталю, с ещё живой ношей, бегут. Госпиталь наш рядом, за железной дорогой.
Гляжу вдаль, на них. Вот они уже крошечные, как зимние воробьи. Вот меньше чечевицы. Вот уж я и носилки не различаю. Да, ослабло зрение. Масло сливочное, витамин А, печень трески и тому подобная роскошь! Где её взять?
Раненый в гипсе. Нога в гипсе по колено, и рука тоже. Белой кочергой согнута. Вместо второй руки - красное месиво. Стонет. Потом орёт. По сухой траве разливается, медленно впитывается в землю чёрная кровь. Венозная.
- Ты как, друг?
Здесь все мы друг другу друзья.
Прекращает орать. Глядит на меня, как на Бога.
- Воды-ы-ы-ы-ы...
Щупаю пульс на шее, сонную артерию. На запястье. Еле прослушивается. Нитевидный. Рвётся. Аритмия. Выпадения ударов. Экстрасистола.
За мной медленно движется медсестра. Я всё время забываю, как её зовут. Выкрикну имя, а она меня поправляет. Я не Оля, а Даша. Душенька? Дашенька!
А что, если всех их - девок, баб - под одну гребёнку - Душеньками звать? И ласково, и не имя. Дёшево и сердито, короче.
- Душенька... Дашенька, вколи ему морфий, если ещё остался.
- Остался!
- Валяй...
Смотрю, как втыкается игла в кубитальную вену в локтевом сгибе. Умелая Дашенька, попадает в вену без всякого жгута выше тока крови. Молодец.
Раненых не вижу, а крики и хрипы - слышу.
- Доктор!.. ступню оторвало... ступню...
- Докто-о-о-ор!.. держу кишки, видишь... держу...
- Доктор... спасите... спаси...
Мать вашу, братцы, я тут спаситель какой-то. Стыдно мне. Немного кого сегодня спасу. Не смогу. Да вы этого не поймёте. Никогда.
Не вижу, это соображаю, от слёз. Я что, кисейная барышня?!
Зло промакиваю глаза обшлагами гимнастёрки. Трясу башкой, как мокрый пёс.
Санитары ведут под локотки раненых. Раненые им за шеи цепляются, повисают на них всей тяжестью. Ковыляют. Теряют сознание от боли. Валятся наземь. Санитары бьют их по щекам, снова взваливают себе на плечи, тащат на себе.
И вдруг! Платье задралось. Лицо передо мной. Женское. Сначала я увидел лицо. В полосках, разводах крови. Будто кто щёки, и лоб, и подбородок нарочно красными узорами расписал, размалевал. Потом увидел руки. Руки сжимали пучки седой травы. В правой трава, в кулаке зажата, в левой трава. Лежала, по земле руками ползала, траву с корнями выдирала, так боль заглушала. Может, чтобы не орать на всё чистое поле. Чтобы враг не услышал.
Потом она открыла глаза, и я увидел её глаза.
Синие. Синие. Синие! Небесные.
Она ударила в меня не глазами - всем небом.
Я уж и забыл, как небо выглядит. Синее, серое, ночное звёздное - мне было все равно. Некогда мне было на него смотреть.
Синие глаза увидели меня. Выкатились из орбит.
Выпучив глаза, она силилась слово сказать. И не могла. Из вымазанных кровью губ вырывались только хрипы.
Потом я перевел глаза ниже. Шея. Трахея. Грудь. Живот.
Весь живот осколками разворочен. Полостное, множественное.
Не жилица.
Я чувствовал, сейчас упаду. Держаться! Экий слабак.
Вдохнул, выдохнул пару раз глубоко.
Женщина всё смотрела на меня. Всё хрипела.
Хрипом, я узнал это, тоже можно говорить и петь. Жаловаться. Плакать.
Голос прорезался.
- Доктор... спасите...
Ну что ты будешь делать. Кроме "доктор, спасите" больше и слов-то никаких в лексиконе раненых не осталось.
Я крикнул ей:
- Спасу!
Думал, выйдет крик, а вышел хрип.
- Спасите... быстрее... несите... унесите... они снова... два раза налетали... всех убьют... всех...
Я обернулся. Искал глазами сестру.
- Сестра! Сестра! - Чёрт, опять забыл имя. - Морфий! Морфию сюда! Ещё есть?!
Сестра, Оля или там Даша, чёрт разберёт, наклонилась над раненой. Вводила ей в вену живое спасение. Вводила сон. Вводила жизнь. Только бы не перебрала с дозой, а то вместо жизни введёт больному смерть. Смерть это тоже сон, только вечный. Впрочем, может, в её положении это и хорошо. Я наклонился и одёрнул платье у неё на ноге, прикрыл ей ноги. Развороченный живот нечем прикрыть. Живот молча кричит от боли. Брюшина, в отличие от серого вещества, очень болезненна. Она ещё хорошо борется с болью. Иной мужик уже бы давно в голос орал. Она лежит спокойно. Только глядит. Глядит на меня синим небом. И хрипит.
За спиной затарахтела машина. Госпитальный грузовик приехал. Великолепно. Сейчас мы всех живых в кузов загрузим и домой повезём. Вот как, я уже госпиталь домом называю. А что, и правда, это нам всем дом родной. Пока война идёт. А что после войны грянет, мы не знаем. Никто. И мы все тут не пророки. Не видим будущее. А зачем его видеть? Живи себе и живи. Или умирай. Третьего не дано.
Мотор заглох. Я молча махнул рукой.
Я уже не мог говорить.
Она всё лежала и смотрела на меня. Дышала с подхрипом, громко.
Её синие, широко распахнутые глаза светились. Так глаза у женщины светятся в любви.
Мы перетаскали в госпиталь всех живых. Среди мёртвых, возможно, были живые. Я тщательно прощупывал пульсацию сонной артерии. Я не мог ошибиться. Верил себе. А надо было не верить. Пока грузовик колыхался, перевозя раненых к нам, я сидел в кузове рядом с ней. Держал её за руку, якобы щупая пульс. На самом деле мне просто хотелось, ну вот хотелось держать её за руку. А потом, я просто сразу бы почувствовал, когда она умирает. По исчезающему теплу руки. Я не знал, чувствует ли она мою руку или нет. Закрыла глаза. Синева провалилась внутрь её существа. Дышала. Я видел, грудь поднимается. Может, она потеряла сознание. Тогда дело плохо. Я хотел потрепать, побить ее ладонью по щеке, чтобы она открыла глаза. Побоялся. Вдруг не откроет. Ну что ж, похороним неподалеку от госпиталя, там мы организовали походное госпитальное кладбище. И много уже людей там лежит. В земле. Под землёй.
Грузовик подскакивал на сухих кочках, на россыпях камней, обломках угля. Эта земля всю жизнь давала Родине угля. Даёшь уголь! У нас в школе висели такие плакаты. Если врага выгоним, ещё угля даст. Даёшь выгнать врага! Раздавить гадину!
Я держал, держал её руку. Сжимал. Всё крепче. Всё обречённей.
И чудо случилось. Она ответила мне на моё крепкое, отчаянное пожатие. Пальцы шевельнулись, сжались. Она сжимала рукой мою руку. Тёплая рука. Живая. Живая.
Мы уже подъезжали к воротам госпиталя, когда она опять открыла глаза.
Я окунулся в их невозможную синеву и громко, хрипло выдохнул.
Потом опять вдохнул, захлебнулся холодным воздухом.
Радостью захлебнулся.
В операционную я нёс её на руках.
Она была совсем не тяжёлой. Я даже удивился.
И сам я сделался лёгким, будто не весил ничего.
Санитары волокли других раненых. На машине из соседнего, вверх по реке, госпиталя приехали ещё врачи. Голодные, просили поесть. Я рявкнул: сначала оперируем! Оперировали везде, где можно было. Клали раненых на топчаны, на диваны, просто на доски, на обеденные столы в госпитальной столовой. Скальпелей наших не хватало, да врачи догадались, с собой привезли. И новокаин, и бутыль чистого спирта, девяносто шесть градусов, и морфий, и йод, и анальгин в ампулах, и иглы, и кетгут, и все такое. Богатые эти врачи были, в сравнении с нами. Мы-то повытряслись. Рядом с нами кровопролитные бои как раз и шли.
Верхняя брыжеечная вена. Кровит. Зажим! Сестра отличная, быстрей меня обо всём догадывается. Всё видит. Это я уже слепой. Остановить кровотечение! Важнее сейчас ничего нет. Острое рассечение по белой линии живота. Так. Добавляем правый подреберный разрез. Нужно обнажить печень. Так сподручнее. Я должен печень видеть. Дёргается! Лежи, душенька, лежи.
Лежи спокойно.
Двенадцатиперстная. Ранения! Всё пробито. Вынимаю осколки. Иссекаю ткани кишки. Пот течёт со лба на брови, глаза и щёки. Дотекает до маски, ловлю пот губами. Сестра! Промакните! Оля! Я Даша. Наплевать! Я ослепну. Да нет, вижу я, вижу. Не бойтесь. Не промахнусь.
Я вижу осколки. Их страшно много. Их тьма. Они торчат везде. В желудочно-ободочной связке, в сальнике. Вскрыл брюшину. Всё кровит! Тампонада! Пережмите аорту! Чуть ниже диафрагмы! Да! Здесь! Я пережала, Николай Петрович. Печень цела?! Это чудо! Это же чудо! При такой россыпи осколков! Это невозможно. Ого-го, да тут перфорации тонкой кишки, не только толстой. Не счесть. Не могу понять. Она ещё жива! Она живёт! Но это невозможно. Так не бывает!
Бывает, не бывает, всё равно.
Душенька, Дульсинея Тобосская, княгиня Ольга, Кармен, кастаньеты, старые доспехи, ржавое копьё. Звенят ожерелья, звенит монисто. Далеко бомбят, и стёкла в окнах звенят. Я вытаскиваю осколки и бросаю, вытаскиваю и бросаю в таз, они звенят, я быстро делаю резекцию, она ведь лежит под общей анестезией, не под местной, с таким ранением только маска и хлороформ, никакой эфир тут не подействует, с ним возни не оберешься, долго надо ждать, пока...
Надо шить. Ушивать. Крепче. Можно ушить фасцию. Нужно? А если внутрибрюшная гипертензия? Опять разрез? Ну уж нет. Ты молодая! Слышишь, молодая! На тебе все заживёт, как на собаке! Организм полон сил!
Что ты врёшь. Ей и сам себе. Война, голод, недоедание, долгая страшная зима, она ослабла вусмерть. Зачем, куда она ехала в санитарном поезде? Эх, да она, должно быть, санинструктор. Эх я дурак. Не догадался. Это её родные больные вокруг неё, на насыпи, на шпалах - мёртвые валялись.
Рядом с нами стояла маленькая девочка, белые коски врастопырку по плечам, лоб красным платком перехвачен, узел на затылке. Она нам помогала. Высоко, и как только руки не устали, держала тусклую лампу в зеркальной полусфере. Электрический шнур вился далеко к окну, к неисправной розетке. Девочка неуклюже дернула шнуром, вилка вывалилась из розетки, и свет погас. В ночном полумраке, пока девочка возилась с вилкой и розеткой, при свете Луны в голое окно без штор, я заканчивал операцию. Сестра всхлипывала, я слышал. Не реагировал. Бабы всегда плачут. Им только дай поплакать.
Иглу! Кетгут!
Лампа загорелась, отражалась в увеличительном зеркале, девочка опять высоко подняла её. Да будет свет! Лицо моё опять заливал пот. Уж лучше бы слёзы. Пот, слёзы, соль, кровь, полный набор удовольствий. Как бы умоленные сказали: страдания это испытания, их посылает Господь. Мы ему покажем такого Господа, врагу! Сотрём в порошок! И поминай как звали. И никакому Господу не помолится.
Я отшагнул от стола. Сорвал маску, насквозь солёную. Отвернулся. Даша или там Оля, чёрт знает, приблизилась ко мне и чистой маской, из кармана добыла, заботливо обтёрла мне сумасшедшее лицо. Я дошёл до двери операционной и оглянулся. Больная лежала не шевелясь. Ноги вытянуты. Укрыта простынёй, от подбородка до щиколоток. Из-под простынки ступни торчат. Хорошо, не вывернуты, как обычно у мертвецов. Жива. Ещё жива.
Я вышел и пошёл по тёмному, безглазому ночному коридору, и повторял: живи, живи.
К утру прооперировали всех. С ног валились. Спали все, и гости и наши, на полу в столовой. Туманно и дразняще пахло пригорелой кашей.
Я не зря понадеялся на молодую женскую силу. Моя больная оклемалась. Выздоравливала. Я приходил в палату, окидывал взглядом чужие койки, подходил к её койке. Она делала вид, что спала.
- Не притворяйтесь. Зачем глаза закрыли?
Открывала глаза. Синева смеха! Глаза смеялись, счастливо, захлёбно.
- Отдыхаю.
- Как себя чувствуем?
- Мы? - Она смеялась надо мной. - Мы с вами чувствуем себя хорошо. Прекрасно!
Я улыбался, хотя мне хотелось взвыть. На днях должна прийти машина из города. Всех выздоравливающих в город увезут. От нас. От меня. Навек. Навсегда.
Навсегда, что за глупое слово. Неужели бывает навсегда? В мире же нет ничего навсегда. Всё временно. И время само временно. Ничего вечного нет.
- Вот и прекрасно. Давайте я вас осмотрю. Не больно было снимать швы?
- Нет.
Она улыбалась. Душенька.
Я откидывал одеяло. Мял её живот. Она хотела ахать, может, и стонать, но не ахала и не стонала. Душенька! Дульсинея! Хабанера! Сегидилья! Русая Кармен! Ты знаешь, я люблю тебя!
- Я...
Не хватало здесь, возле койки мною прооперированной больной, спятить с ума.
Я пытался представить себе её тело, безобразно распаханное осколками, кровящие внутренности, пульсирующий кишечник, брыжейку, сальник. А видел, видел её душу.
И, кажется, даже целовал её. Душой.
К чёрту! Какая, к чёрту, у человека душа?! Я просто от этой войны умом тронулся! И у меня просто очень давно не было женщины! И я же не могу с ней переспать, с этой...
Я вытирал потной ладонью потное лицо. Выдёргивал из кармана маску и спешно напяливал, чтобы она не увидела моего позора, крупными буквами на лице написанного: Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ.
Жаль, я не ношу очки! А то бы и наглые глаза хоть немного стёклами были прикрыты.
Я выпрямлялся. Напускал на себя строгий вид.
- У вас аппетит есть?
- Есть. И ещё какой!
- Вас больше не тошнило, как после наркоза?
- Нет! И не рвало! Я бы съела быка!
Тореадор, смелее в бой. Тореадор. Тореадор.
- Мяса жареного у нас нет, это редкость. Если мясо привозят, мы его мелко режем и кладём в похлёбку. А чего бы поели? Скажите, может быть, мы...
- Сушёных фруктов! Чернослив... курягу... размочить только, чтобы мягкие...
- Отлично! У нас на кухне есть мешочек сухофруктов, мы из него варим больным компот. По праздникам. Считайте, у нас праздник! Я велю сварить компот! Для вас!
Синий, птичий смех грядущей весны.
- Зачем для меня? Для меня одной? Для всех!
- Хорошо. Для всех.
- А мне один стаканчик.
- Один. Стаканчик. Хорошо.
Больные, кто мог смотреть, на нас смотрели.
Они всё лучше нас понимали.

ФРЕСКА ВТОРАЯ. ЮЖНАЯ СТЕНА
АЛЕКСЕЙ
Леса, тайга. Человек это медведь. Он родом из тайги. Его чудом не подстрелили. Он ушёл, сминая лапами бурелом, страшно ревел, зализывал раны, зализывал прошлое. Вот ещё один затерянный в тайге пряничный городок призрачно восстал из слоёных снегов. Меня здесь не в тюрьму определили - Бог дал роздых от решёток и прочных замков: меня поселили в чернобрёвенный тёплый, щедро натопленный дом, там в каждой комнате, и в гостиной, и в столовой, и в кухне, и в каждой спаленке печка ютилась. В кухне - громадная русская печь, в таких печах раньше крестьяне мылись; в других комнатах - голландки и подтопки. И все хозяин исправно топил. Рано утром, ещё затемно, растапливал. Я блаженствовал в тепле. Чувствовал себя царём в тереме. Предложил хозяину: давайте я у вас Литургию буду служить? В гостиной! А впрочем, где хотите. Где скажете.
Хозяин, крепкий старик, плечи шире слеги, погладил смоляную кудрявую бороду: да ведь я старовер, мил человек. Раскольник я. По-старому крещусь, по-старому молюсь. Два перста священны, наибольший чуть согнут, смирение это пред Господом, а три, наименьшие, и одинокий, наисильнейший, вот они-то слагаются во истинную и неделимую Троицу. Вашими троеперстиями сами себя презренно, торопливо солите, аки осетра на зиму. А вашему Никону завсегда проклятья посылаем! Нет у Бога ни староверов, ни нововеров, ни иноверов, тихо сказал я. Креститесь как хотите. А только Литургия Иоанна Златоуста она и есть Литургия Иоанна Златоуста. И делу конец. Никто её не переписывал с четвёртого века, никто на кострах не сжигал. Хотя, может, кто-то и хотел. Да не смог. Молитесь со мной, рядом вставайте! Христос и Тот на Голгофе грешника простил. Если мы возлюбим друг друга, а не возненавидим, точно в Раю будем!
Так получил я разрешение служить. И совершал Литургию Иоанна Златоуста и Василия Великого и Всенощное бдение. Вместо диакона у нас была диаконисса, престарелая супруга хозяина, старше его на много лет; я думал сначала, это мать его.
Из снега, вьюги и тумана на пороге, в клубах пара, как конь, явился ко мне старик монах; он попросил рукоположить его во иеромонаха. Глядел на меня, глаза расширив.
- Что ты так смотришь, отче?
Монах прикрыл глаза морщинистыми тяжёлыми веками.
- Я вас во сне видел. Такого, как вы есть.
- Во сне? Да разве это диво? Нам всем снятся сны.
- Но я видел вас, вас.
Я вынужден был согласиться.
Литургию служил, за Литургией старика во иеромонахи рукоположил. Передаётся огонь веков. Мы никто не знаем, как и кому мы будем огонь передавать; но кому назначено его нести, тот несёт, из рук не выпускает. Сейчас тюрьма казалась мне сном. И, как во сне, творил я, следом за Литургией, тяжелейшую операцию врождённой катаракты трём мальчикам, слепой тройне, и они прозрели, и мать их бросалась передо мной на колени, ползла за мной на животе и целовала край моей рясы. Я клал руку ей на голову и плакал вместе с ней. Мальчики, после того, как я снял повязки, сидели на кровати и жмурились. Им больно было посмотреть на свет. Когда зрительный нерв привык к освещению, они открыли глаза. И все трое враз, хором, закричали.
Кричали безостановочно! От радости.
Потом умолкли.
Колени мои подогнулись, и я сел на койку в палате, поблизости от прозревших, и сидел молча, без сил. А мать мальчиков сидела передо мной на полу, как Мария, скрестив ноги, во время оно смирно сидела перед Христом, пока Марфа на кухне хлопотала, и всё подносила подол рясы моей к губам, и всё целовала, и рясой моей слёзы себе вытирала.
Ряса моя больше не пребывала измызганной: в том староверском чернобрёвенном, приземистом и мощном, как спящий в берлоге медведь, доме я впервые, за всё время долгого путешествия, её выстирал, старовер мне дал лохань и лазурное мыло, и я стирал рясу тщательно, старательнее любой бабы, так долго, что она под ладонями моими начала разлезаться в дыры, и тогда я остановился, выжал её и развесил во дворе, на морозе, и она замёрзла и встала колом, и сделалась твёрдой, как огромный вяленый таймень.
В том доме, того бородатого могутного старовера, мне пришло видение. Я уж привык к тому, что вижу то, чего видеть нельзя. Лег спать. Старовер стелил мне, по моей просьбе, не в комнате, а в сенцах. Там стоял ночной холод, и я укрывался, кроме одеяла, ещё и овечьим тулупом. Изобильная овечья шерсть хорошо согревала меня. Иногда я боялся ночи, иногда нет. Именно ночью приходили видения. Сначала я боролся с ними. Не хотел видеть; не хотел знать. Потом перестал восставать. Принял всё происходящее. Смирился.
Смирение и терпение. Вот что главное.
Так работает Дух, дитя мое. Дух в тебе, но он превыше тебя. Это ты пришит к Нему, Параклету Утешителю, прочными стежками, а не он к тебе. Помни это.
Закрыл я глаза, натянул овечью шкуру себе на голову. Стал дышать внутрь тулупа. Согревался. Потом башку выпростал. Дышал холодом. Наслаждение, когда сам весь в тепле, а дышишь лёгким морозцем. Иней затянул стёкла. Крохотные оконца синё, лазуритово переливались, по ним медленно бродили ледяные хвощи, зимние васильки и колокольчики. Я уже прочитал вечернее правило, но захотел ещё помолиться. Господи Исусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного... Господи Исусе Христе, Сыне и Слове Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Матере, преподобных и богоносных отец наших и всех святых, помилуй нас...
И только хотел сказать: аминь, - увидал.
Широкий, льдиной плывущий по невидимой реке, стол. Стол-ладья. Стол-корабль. Деревянная палуба чуть накренилась. За столом люди сидят. Много людей. Невозможно сосчитать. Ползут вдаль и вбок, расширяются края стола. Люди появляются из ничего, из плотной тьмы. Садятся за стол, стоят за спинами сидящих. Тех, кому повезло. Люди едят. Наливают из бутылей в разномастные сосуды и пьют. Кто сидит на полу, у ног пирующих, и играет на неведомых музыкальных инструментах; я вижу, как пальцы перебирают струны, я слышу непонятную, никогда мною не слыханную музыку. Стол завален едой и питьем, фрукты горят драгоценно, жареное мясо вспыхивает золотой корочкой, сок течёт на серебряное блюдо из разрезанных лимонов, апельсинов. А вот ломти ветчины. А вон огромная миска с ягодами, земляника, черника! Яйца навалены белой горой! Пироги плывут сдобными крупными рыбами. Осетр возлежит, бревном в полстола, острые костяные наросты, морда узкая, острая, и зелень из неё пучком торчит. Рубины икры, и витая царская ложка воткнута! Слитки масла, только с мороза, застылого! Себе, внутри видения, шепчу: может, это я просто жрать хочу, голоден я, вот и привидится всякое. Красное вино мерцает в бокалах. Вино зря сравнивают с кровью. Кровь непрозрачна. Прозрачна только слеза. Кровавая слеза. Человек сидит по центру стола, по правую руку его сидит красавица. Глаз не отвести. Русые толстые косы; одна за спину закинута, другая перекинута на грудь и распущена. Глазами косит вниз и вбок. Нежная улыбка. Молчит. У главного человека за праздничным столом тоже струятся по плечам длинные волосы. Он не глядит на женщину праворучь, глядит вперёд. Нет. Он глядит в себя. Внутрь.
И я понимаю: этот человек - не человек. Он - Время.
Он глядит внутрь себя, а потом веки его вздрагивают, и внезапно он начинает глядеть внутрь меня.
Мне от этого взгляда страшно. И в то же время счастье, нет ему предела, обнимает меня. Спаситель! Ты ли это! Сотрапезничаю ли я с Тобой, пусть даже так, во сне! Руки человека раскинуты, на столе лежат, брошены двумя кусками хлеба, струятся по столу смуглой водой, две смертные дрожащие реки. Бессмертные! Женщина рядом с ним медленно поднимает глаза, в меня двумя безумными птицами летит забытая синева. Синь, праздник! Живого можно убить, и глаза сомкнутся навсегда. До Страшного Суда. Руки Господа раскинуты по столу, Он предлагает нам, мне присоединиться к пиру. Поешь, смертный! Всё так красиво! Всё так ярко и вкусно! Жизнь, наслаждение! Радость! Видишь, в застолье не только ученики мои, но и народ, Мне неведомый, числом великий, его Я не знаю, но вижу, и он Меня не знает, забыл, но Я вижу здесь тебя, верный слуга Мой, и не робей, угостись! Еда людская - еда Божия! Я учил о хлебе и вине, о плоти и крови Моей, а гляди, какое изобилие, сколько здесь удивления, изумления, сколько незримого и несказуемого! Вкуси! Иной век! Я превратился во Время. Измеряй Мною течение общей реки, если сможешь, осмелишься измерить. И понимай одно: мы тут пируем, а там, куда я гляжу неотступно, идёт война.
Идёт война!
Зимняя. Летняя. Вечная.
Вижу: все жадно едят богатые яства, а Господь и женщина близ Него вкушают лишь хлеб и отпивают из хрустальных бокалов лишь красное вино. Женщина отламывает от лепешки тонкими пальцами маленькие куски, прежде чем съесть, держит на ладони, как живую птицу. Господь не глядит на неё. Он глядит вперёд. Он, не видя, находит на столе бутыль с вином, не глядя, в сосуд наливает. Я пытаюсь поймать Его взгляд. Вот опять он смотрит внутрь меня и сквозь меня. Навылет.
Его смерть ещё только будет? Она впереди? Или Он уже воскрес, и я вижу пир Второго Пришествия? Губы Его сомкнуты, глаза закрываются, и я слышу Его голос внутри себя: ЭТО НЕ ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ ЭТО БРАЧНАЯ ВЕЧЕРЯ ЭТО ПРАЗДНИК ВЕЛИКИЙ
Кричу Ему безмолвно: понял, Господи, Пасха это Твоя, Ты воскрес нынче!
Я ВОСКРЕС НАВСЕГДА Я ВЕЗДЕ И ВСЮДУ ЭТО БРАЧНАЯ ВЕЧЕРЯ
Женщина не глядит на Него. Она глядит на меня.
Зачем она глядит на меня?
ЭТО ПРАЗДНИК ТВОЙ ТВОЯ БРАЧНАЯ ВЕЧЕРЯ ТВОЯ ЭТО СВАДЬБА Я СЕГОДНЯ ТВОЙ ГОСТЬ НА ВЕЛИКОЙ СВАДЬБЕ ТВОЕЙ
Я в смятении. Моя? Зачем? С кем? С ней? Синеглазой? Синие глаза летят в меня, а стол вдруг всплывает из тьмы, надвигается, укрупняется, айсбергом синим, камчатным поднимается из глубин страдания, еле несёт на себе, на своем заботливом горбе, тяжелые россыпи невиданной, роскошной снеди, плывёт, белый ледяной кит, и не удерживает искусных блюд, валятся медные тарелки с Райскими мандаринами и Райскими яблоками, падает и в брызги разбивается драгоценный фарфор с темной свежатиной-дичью, жареными зайцами и куропатками, бешенствуя, валятся и весело катятся прочь дыни, сливы и турмалины вишен, и пироги, пироги, что так долго стряпали бедные бабы, засаживая их на противнях в печь и отирая ладонями со лба трудовой пот, ещё теплые, как бабье тело, пироги разлетаются сдобными лебедями по трапезной, а стены исчезают, и вместо них над столом, над сотрапезниками поднимается небо, оно всё выше и выше, оно уходит вдаль и вверх, всё вверх и вверх, оно не падает, оно растёт, как синий ствол, синяя нежная крона, вся в золотых звёздных искрах, и увлекает нас за собой, наши глаза и руки, наши исстрадавшиеся души, они тянутся за небом, мы тянемся, мы хотим там - жить!
Мы - здесь хотим жить!
Господи! Остави нам живот наш!
И это моя свадьба! Моя, Он сказал! С кем?! С кем?!
Где, Господи, невеста моя?!
И тогда Он поднял обе руки и обернул их ко мне ладонями.
И я смотрел, и на каждой ладони Его я видел лик невесты своей.
И я узнал её.
И я перевел глаза свои на лицо женщины, что сидела праворучь от Господа моего.
А она тихо улыбалась и все отщипывала, отламывала крохи от подгорелой лепешки, похожей на круглую печальную Луну.
Не Иоанн ли это, ученик Твой любимый, Господи? Не Магдалина ли это, любимая ученица Твоя? Не пришлая ли это нищая дева, что постучалась сюда, в трапезную, пришедши с улицы, желая заработать медный грош и предлагая себя трудницей после окончания могучего пира? Посуду перемыть... объедки на задворки выбросить... кошкам, собакам...
ГЛЯДИ КАКОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ НА НЕЙ НА НЕВЕСТЕ ТВОЕЙ
Я глядел один миг, а мне казалось, века, и запомнил. Камни. Простые камни. Дыры в них просверлены, и не веревку они нанизаны.
Камни. Белые камни. Дыры в них не человек просверлил. Нет. Ветер, море. Солёная вода.
Ветер. За столом поднялся ветер. Он налетел ниоткуда. Мял и крутил одежды. Рвал волосы. Бил людей по щекам. Скидывал с гладкой льдины стола всё, что там ещё оставалось, что возвышалось и сияло, маня, притягивая, соблазняя. Ветер резко сорвал со стола скатерть, уже там и сям заляпанную вином, и стол обнажился, стал голым, как тогда, когда мастер только что сработал его, и вышел он из рук сурового плотника, как он есть - неоструганный, нагой, свежий, шершавый, в живую ладонь втыкающий занозы, резко и свежо пахнущий вчера ещё живым деревом. Люди со страху попадали на пол. Закрыли затылки, уши, лица руками. Заползли под стол, в его спасительную тень. Возник и усиливался вой. Это ветер выл? Это люди выли? Ветер выл волком, а люди вторили ему. Люди, внутри страха, звучали убитой, забытой природой: их голоса потеряли сиюминутные слова, о, где же ты, Сыне и Слове Божий? Я воззрился на невесту мою. Я увидел: её одежды есть зеркало. Они отражают одежды Господа. Только всё перевёрнуто; во Вселенной всё так и летит, падает, а значит, воздымается, возлетает, нет, валится в пропасть, рождается, нет, умирает, умирает, нет, Господи, рождается в жизнь Иную, в Иномiрие, да будет тебе, страдалец, отныне утешение: Второе Пришествие грядёт, верь, но Старый Мiръ при этом уйдёт, умрёт, и небеса, вспомни огненное Иоанново пророчество, совьются в свиток.
Господь все ещё Царём сидел за столом в синем небесном хитоне и в красном плаще, а невеста моя, имени я не ведал её, сидела праворучь Его в алом кровавом хитоне и в синем плаще. Синева её плаща слепила мне глаза; вот ещё тогда, девочка моя, я понял, я узнал, что ослепну и перестану видеть Мiръ Божий. И тут же, маловерный, сказал себе: да нет, никогда я не ослепну! Господь зла не попустит! Он навсегда, насовсем оставит мне зрение мое, чтобы я и впредь оперировал, от верной смерти людей спасал! Господи! А может! Может! Если я так ясно вижу будущее, и своё, и других! Может быть! В виде ещё одного чуда Твоего! Ты! Сделаешь так! Что я! Именно я! Никогда! Не...
Я не успел додумать. С полу вскочил лежащий. Гладко выбритый. В белой врачебной маске. Он взбросил руку и протянул вперёд. Вытянул указательный палец. Перед лицом моей невесты. Он прокалывал пальцем туманный воздух, клубящийся вихрь. Я проследил за живой указкой. Палец человека в маске показывал на лик Господа моего. Палец, живой нож. Пальцем можно разрезать, проколоть, если скальпеля нет. Чудо? Да разве Господь не совершает чудеса каждый день, каждый миг? По вере вашей воздастся вам.
Я встал с лавки. Овечий тулуп, за ним одеяло сползли с меня и упали на выстывшие за ночь половицы. Я видел: колени моей невесты укрыты точно таким же овечьим тулупом. Значит ли это, что она встала из-за стола, шагнула вперед, наклонилась и подобрала с пола мой тулуп, и укутала себе замёрзшие на ветру ноги? Босые ноги, босые. Они жалко и умилённо торчали из-под мощной шкуры. Господь встал легко и быстро. Улыбнулся светло. Легко толкнул рукой стол, и он упал, перевернулся, покатился вниз по земным ступеням. А их обоих, Господа моего и невесту мою, обступало небо. Оно наливалось чистою синью. А глаза невесты моей наливались слезами. Она смотрела на меня неотступно, не мигая, и глаза её всё полнились слезами, и наконец слёзы выкатились и тихо потекли по щекам, по подбородку, по шее, затекали за ворот красного хитона, пропитанного кровью всех раненых, всех, кого я когда-либо на земле оперировал, и я чуть не закричал от великой боли, меня крепко обнявшей, и от великой радости, видеть их, любимых, созерцать, пока ещё лицезреть, пока ещё смеяться и плакать вместе с ними, пока ещё перевернутый стол, крича сломанными деревянными ногами и деревянным ртом, бедною льдиной уплывает вниз по реке, пока небо набрасывает им, любимым, на плечи свой синий ветхий хитон, свои овечьи, нежные, шерстяные, тёплые облака.
Я проснулся. Меня трясло от холода. Лежал голый. Потянулся, поднял с пола тулуп, одеяло, накрылся с головой. Дышал под одеялом и так согрелся.
Мне приснилось: я опять на войне. Да враг говорит не по-вражески, а по-русски. Не иноземец он, а славянин. Я понимаю, знаю: война наша не на жизнь, а на смерть, и я должен его убить. Стихи тут ходили по рукам, в списках: сколько раз увидишь врага, столько раз его и убей! Меня новые враги захватили в плен. Поставили в квадратном каменном колодце, наподобие того, где мы тоскливо гуляли в тюрьме, заплатка василькового неба моталась высоко над головой, и приказали: стой! И смотри.
Иди и смотри, вспомнил я Откровение св. Иоанна Богослова, писанное им на острове Патмос в Эгейском море. То я был, я, воистину, тогда я был Иоанном, Христа любимым учеником, и вороньим пером процарапывал на пергамене страшные письмена, да, взрезал скальпелем птичьего пера кромешный ужас Мiра, потрудись, хирург, работёнка не из легких. Я горазд был на рисование письмен, и мастак в лечобе людей, и тела живые разрезал направо и налево, и кромсал, и зашивал, на ста войнах побывал, и вот опять война, она, видать, в грешный Мiръ влюблена. Почему и мы, и враги на одном языке кричим? Мы - один народ? Мы - один народ!
Я стоял и смотрел. И думал. Да, мы один народ. Нас разделили. Грубо раскромсали. Раскроили особо острым скальпелем. Да не сшили. Некому было зашивать разрез. И скобы не накладывали, и бинтами не обматывали. Рана выворачивалась наружу. Земля орала. Люди блажили, стонали и ревели. Хрипели. Выгибались коромыслом, умирая. Умирали. А я стоял в каменном безглазом дворе, думал и ждал.
Вывели пленных. Пинками уложили на камни. Люди лежали на животах, изгибали шеи, пытаясь рассмотреть мучителей. Их пытали. Рубахи в крови. У иных глаза выколоты, кровь сургучными сгустками в глазницах запеклась. Подошёл мужик, рукава выше локтей закатаны. Палач. Пистолет в руке. Шёл и стрелял. Каждому в затылок. Я стоял один у стены, стена сложена из мрачных, грязных, странных синих кирпичей; призрачные синие кирпичи, каждый, светились изнутри светляками преисподней. Я стоял и смотрел. Не отводил глаз. Очень страшно. Сейчас меня. Вот только до последнего святого дойдёт - его убьёт - и ко мне повернётся.
Они все святые. Святые. Все. Кто так погиб, в страданиях, истязаемый. Я себя в святые не записываю. Нельзя о себе так думать. Я просто вижу и запоминаю. Память, вот что приносит мне муки. Память, пытка. Не отогнать, ни сжечь. Всё, что я увидел здесь, навек со мной. Даже если я умру. Я этот расстрел с собой в могилу унесу.
А - месть? А - отомстить?
За моих святых? За родных?
Война - это месть. Так людям понятнее. Война идёт потому, что мы защищаем родной народ и мстим чужому народу за поругание и гибель народа родного.
Но почему, почему мы говорим на одном языке?!
Проснуться, скорей проснуться, шептал я себе, вокруг очень холодно, я в тайге, я внутри зимы, я арестованный, я поселенец, прочь, война, на завтрак староверская семья ест овсяную кашу с постным маслом, и мне тарелку нальют, и я посолю кашу серой крупной солью и буду зачерпывать из оловянной миски гладко обточенной деревянной ложкой, и дуть на ложку, ох, горячая, и вспоминать страшный полночный сон.
- Ты! Оккупант! Сволочь! Сколько раз увидишь врага, столько раз его и убей!
Палач кричал на чистом русском языке.
Я глядел ему в лицо, он глядел в моё, и мы сверкали собою-зеркалами друг на друга, испепеляя друг друга отражённым огнём.
- Было бы в руках оружие, я бы тебя убил!
Это я крикнул, я. Или он?
Он оскалился и поднял руку с пистолетом.
- Вы! Все! Готовьтесь! Скоро вам будет сюрприз! Подарочек! Нежданчик! Аккурат в годовщину войны! Мы-то помним, когда она началась! И кто её начал! А вы, чую, забыли! Так мы вам напомним! Напомним! Огненный пирог! Будете жрать! Уплетать за обе щеки! До отвала нажрётесь!
- Ты дурень. Не понимаешь ничего. Войну уже не остановить. Мы победим. Это вы будете жрать и огонь, и землю.
- Мы должны вас победить, дряни! У нас другого выхода нет!
Рот пересох. Глотка смёрзлась. Мне нечем было кричать.
- Это мы вас поборем! Раздавим! Под сапогами нашими будете... корчиться...
Всё крепче сжимая рукоять пистолета, аж пальцы посинели, он подходил ко мне.
Или это я подходил к нему.
- Это я тебя сейчас раздавлю! Расстреляю! Уничтожу тебя! И тебя - не будет! Больше! Никогда!
Ствол уперся мне в лоб.
Я ничего не чувствовал. Надо было бояться дальше. А страх исчез.
- Снайпер с такого расстояния не попадет.
- Издеваешься?! Спиной повернись!
- Не повернусь.
У него небритое, синее лицо волнами ненависти вспучилось, взыграло, уродливо перекосилось.
- Развернись, ну!
Он не мог смотреть мне в глаза.
Хотя глазами мои глаза - искал.
Я это видел.
- Нет. Я хочу видеть.
- Что видеть, будь ты проклят!
- Всё.
- Что - всё?!
- Как ты меня расстреляешь. Но ты меня не расстреляешь.
- Что мелешь!
- Я знаю.
- Что ты знаешь, ублюдок!
- Я вижу.
- Что - видишь?!
Я смотрел вглубь его бешено расширяющихся, ледяно сужающихся зрачков. Зрачки бились внутри радужки, играли, раздувались и опадали. Превращались в чёрные иглы. Прокалывали меня насквозь. Опять взрывались непроглядной тьмой.
- Всё.
- Всё, всё... всё!..
Я глубоко вздохнул. Хотел сказать палачу: всё необратимо. И мы врага нисколько не боимся. И мы не допустим ни капитуляции, ни рабства, ни казни на виду у всего Мiра, ни наказания, ни блокады. Ничего этого не будет. Никогда. А будет наша победа. Только победа.
- Будет наша победа! Только победа! - крикнул он, и я близко видел его красную волчью пасть и красный дрожащий язык меж зубов.
- Разбей меня. Я твоё зеркало, - тихо сказал я.
Он судорожно ощупывал глазами моё лицо, мой рот, сказавший это.
- Да что ты... брешешь...
- Что слышал. Убей скорее! Гляди, - я показал рукой на мёртвых, лежавших ничком на камнях, - они уже тебе слова не скажут. И они уже тебя не победят.
Он ухмыльнулся. Я видел, он мелко дрожит.
- Но придут другие. Много других. Их много. У нас воюет вся страна. Вы называете нас тюрьмой. Но весь народ, все, кто на свободе и кто в тюрьме, идут на войну. С вами. С тобой. И завтра сюда придут и убьют тебя. И всех вас, кто мучит, пытает, казнит. Слышишь?
- Заткнись!
Он всё ещё стоял, надавливая стволом мне на голый лоб.
- Не веришь? Так и будет. Я вижу!
Он устал так стоять. Выругался, зашёл ко мне за спину и приставил пистолет к моему затылку.
- Сдохни!
Раздался щёлк. Я понял: осечка. Я это знал.
Я обернулся мгновенно. Выбил пистолет у него из руки. Мы боролись, повалились на каменные плиты, катались между трупами. Вбежали солдаты, навели на нас оружие. Выжидали удобный момент, чтобы можно было меня застрелить без вреда для их товарища.
Высоко в небесах завыло, засвистело. Снаряд упал прямо во двор, поодаль от нас, разорвался, я оглох, контузило; палач расцепил руки. Его подначальные солдаты все полегли. Кто погиб сразу, кто ещё стонал, полз по камням, подвывал зверем. Глухота медленно меня покидала. Я слышал взрывы: вблизи и вдалеке. Грохот: рушились дома. Пыль забила мне глотку. Не мог дышать. Отполз от мертвецов. Приказывал себе: проснись, ты уже всё, что надо, увидел.
Разлепил глаза. Вокруг меня мерцало, тлело всё то же самое. Синий двор. Светляки полоумных огней. Убитые лежат вокруг. Я стою. Всё настоящее. Сна нет. Сон во сне. Жизнь в жизни. Зеркало в зеркале. Смерть в смерти. Я не могу из неё выйти. Выхода нет. Надо предоставить Времени свободу. Пусть оно течёт само. Само себя вдаль несёт. Может, и меня на хребте вынесет. Я не знаю, что мне делать. Я не могу бороться с настоящим. Я даже не могу их всех оживить. Я не Господь. Я только врач. Хирург. И ни инструмента. Ни скальпеля. Ни корнцанга. Ни иглы. Мне горько. Слишком темно. Глубокая ночь. Мiровая ночь. И только свет, свет у тебя в руках. Светятся ладони. Я вижу, от них идёт постоянный, очень слабый, еле различимый свет. Вокруг холод, а от ладоней идёт тепло. Прислоню ладони к убитому. Буду так держать. Я понимаю, мои ладони не компресс и даже не грелка. Так, чужая живая плоть, прислоненная к мёртвому телу на жалкий миг. Тело меня не чувствует, не видит и не слышит. А душа?
Где ты, где ты, душа?
Душенька...
Глаза закрыл, и всплыли передо мной, две чудесные синие рыбы из глубин враждебного бурного океана, светлые небесные глаза. Очи. Широко стоят, как у коровы. Тихо и ровно горят. Две синие свечи. Опять она. Зачем ты на войне? Пришла меня утешать?
Душенька...
Под синим взором я начал ровнее дышать, сердце билось тихо, спокойно, от ладоней тепло потекло вверх, к локтям и плечам, скоро всё дрожащее тело оделось теплом, я закутался в моё тепло, как в баранью кудрявую шкуру, мне старовер подарил бараний полушубок, и я в сильные морозы мог по улицам свободно ходить, угретый, и больных спасать, больных тут, в таёжном городишке, было, как везде и всюду, навалом, мой хирургический стол дымился, то одно тело, то другое, то одна живая душа, то другая мечется, стонет и скорбит, и я ей помогаю, она то выходит из тела, то входит в него опять, не покидает, ещё хочет побыть, пожить в этом тёплом доме, у бешеной горячей печи сердца, у очага кроветворной печени, ещё неохота ей на волю, в сиротство, не бойся сиротства, говорит тебе Бог, оно дано тебе как награда, любая мука награда, что на земле, что за её порогом, а каких только операций я тут не делал, и по женским болезням, и свищи зашивал, и пневмоторакс, с чахоточными лёгкими сотворял опасные, на острие смерти, фокусы, и открытые переломы вправлял и сращивал, да разве мыслимо перечесть, любой хирург вам скажет: леплю телеса людские подчас заново, - а душа, люди, где же душа, где она кочует, где ночует, где гнездится, птица? Если бы знать ответ! Синие очи глядели, летели в меня с византийской иконы. А может, с Херувимской-Серафимской фрески, где тёмно-золотой, как густой цветочный мёд, фон, и Оранта поднимает руки ладонями ко мне, и глядит на меня круглыми громадными, величиною с чайное блюдце, синими глазами, и хитон Её кровавый, и плащ Её синий, и спасибо, благодарю Тебя, Царица Небесная, что не оставляешь меня без призора, молчишь и глядишь, приглядываешь за мной; и всё меньше земного моего времени заботу Твою отработать Тебе, и всё больше понимаю я, важнее любви к Живому и постоянного, каждодневного воскрешения угасающего, бесконечно умирающего Живого нет у человека, да и у Бога, дела на земле.
НИКОЛАЙ
Я не храбрый. Я не герой.
Я не смог бы в небесах, если бы лётчиком был, пойти на таран.
Так делают только безумцы. Юродивые.
Они себе говорят: моя жизнь ничто, жила бы страна, - идут на смерть.
Бегут прямо в её пасть.
А я знаю: не станет меня, и некому тут будет спасать от осколочных полостных, гипсовать сломанные позвоночники, да просто аппендиксы вовремя вырезать, не доводя больного до септического шока, когда один за другим, поражённые ядом гноя, отказывают все внутренние органы.
Я понимаю: не будет меня, пришлют другого хирурга. Свято место пусто не бывает. Но то, что могу делать я, делаю только я. И никто в мире.
Незаменимых людей нет! Чепуха какая. Есть, конечно. Я не пуп земли. Я это тоже понимаю. Но каждый человек, любящий своё дело, мастер. Вот и я мастер. Мастер плоти. Мастер тела. А кто там толкует про душу... да пусть толкует. Я согласен: имеет право. Душа, это вопрос веры. Верьте, верьте, да однажды проверьте. Выдумка или правда. Правду сразу видно. Она ощутима. В ней всё колется, обжигает, горит, кровит, дышит, замерзает и снова тает, и вспыхивает, и взрывается. Правда жива. А выдумка - выдумана. Она ещё немного, и ложь. Её не попробуешь на вкус, не выпьешь, не обнимешь. Не заплачешь, к ней лицо прижав. Выдумка, она как сон: посмотрел и забыл.
Я разве выдумал того человека? Он ранен был в бою, и лёг ко мне под нож, и я думал о нём: вот герой. Я оперировал героя. Я тут оперировал многих героев, и нет им числа. Оперировал чётко, быстро, аккуратно, технично, со знанием дела. Иногда глядел на порхание своих резиновых рук над разъятым телом будто со стороны, из-под потолка: эка летают, снуют взад-вперёд, полёт белых ласточек над красным солёным, йод и рыдания, горьким морем. Одна хирургическая сестра, не помню как звали, увидела кровавые синие, дрожащие потроха, и грянулась в обморок. Ей совали под нос нашатырь, никакой реакции. Шок. Я делал ей внутривенное, вводил магнезию, камфору. Задышала. Лицо кровью налилось. Веки разлепила, меня узнала и от меня отвернулась. Я услал её навсегда. Мне прислали потом эту, Олю, или как её, Дашу. Эта работает как часы. Иногда я думаю, что она механизм. Нет, стоп, она тоже умеет плакать. Ещё как! Рыдать и выть, и причитать. Письмо недавно получила, из дома. Видать, кто-то умер. Может, мать. Я под кожу не лезу. Не любопытствую.
Герой мой разрезанный под скальпелем лежит, платок на носу эфиром пропитан, сосуды в зажимах, в стальных бирюльках, и мне невдомёк, что завтра случится, я же не чтец Времени, не провидец. И Время не газета, чтобы его так запросто читать. Но если бы я прочитал! Я бы эту сволочь не только не прооперировал - я бы, клянусь, зарезал его самолично.
А я его, получается, спас.
Для того, чтобы он казнил меня.
Да, вот так всё просто. Вообще всё в жизни крайне просто. Это мы сами на жизнь парчовые тряпки накрутили, нарядили её в горностаевые мантии, в плисовые кафтаны, в рясы, в эти, как их, ризы. Ряса, риза, а в чём отличие? Но я-то, я-то уж отличу жизнь от смерти. Не думал вот, не гадал, а в ловушку горностай попал. На суде мне залепили: ты иностранный шпион, ты вернул к жизни и вылечил врагов народа. Народ! Где твои враги! И я, я первый твой враг, ведь я столько тебя, народу, спас, не сочтёшь, немерено. А ты, народ, ты что, ищешь убить меня? Да нет, ну что ты, ты добрый! Ты же всё понимаешь, народ! Ты же мне в ножки кланяться будешь, когда...
Когда что?
Я стоял в операционной, вдали ухали разрывы, когда ко мне, презирая стерильность и запрет, вошли эти люди. Трое. В военной форме. Я поглядел на них поверх маски. Молча указал им на дверь. Они громко подтопали ближе к столу, с их сапог кусками отваливалась дорожная грязь. Тот, кто подошёл первым, громко сказал, чеканя слоги: товарищ военврач, вы арестованы. Собирайте вещи, мы ждём. Сестра зажала рот рукой. Крик зажала. Тяжело дышала. Я слышал, как она сопит носом. Я спустил маску на подбородок и так же отчетливо сказал, глядя Первому прямо в рожу: ордер на арест! Второй, за ним, пошарил в нагрудном кармане и вынул сложенную вчетверо бумагу. Развернул. Тыкал мне в лицо. Читать умеете? Читайте! Больной на столе открыл глаза. Действие эфира кончалось. Он все слышал. Я посмотрел на него. По лицу его гулял ужас. Я спокойно сказал Второму: сядьте в коридоре и ждите. Я закончу операцию. Сапоги ваши грязны. Извольте выйти.
Я так, по-старинному, и выразился - извольте выйти, не знаю, почему я так сказал. Они, все трое, потопали прочь. Хлобыстнула дверь. Посыпалась штукатурка. У сестры дрожали руки, когда она подавала мне иглу и кетгут. Я шил угрюмо. Я не мог представить, что будет со мной. Ничего не мог себе вообразить. Ну ничегошеньки.
Память человеческая избирательна. Она ложится пластами, слоится, её минирует коварное Время, и вдруг нежная капризная память взрывается незабвенным потрясением, а назавтра оно забывается напрочь, и его уже никогда не было; не было, никогда, и всё тут. Привиделось. Причудилось. Ну, так бывает. Человек фантазёр, он тебе выдумает то, чего никогда и нигде не случалось, и выдаст бредовое сновидение за святую правду.
Я сначала помнил мои мытарства, хождение по судам и застенкам, я даже помнил мои побои, и как я, ударенный чужим кулаком наотмашь, с табурета падал; и голодовку помнил, вроде бы я её сначала объявлял, лежал на нарах и ничего не жрал, отказывался от еды, кричал: я хирург! я военный хирург! прошу отправить меня обратно на войну! - а мне в лицо смеялись и опять били меня по лицу, били крепко, с наслаждением. Человек, причиняя боль человеку, наслаждается. Обыкновенный садизм, а что делать. Его ещё никто не отменял. Это нарушение психики, да, и ещё какое. Но я не психиатр. Я хирург. Я лечу тело. Душу пусть лечит другой врач. Как можно вылечить сказку? Исцелить выдумку? Но ведь лечат. Исцеляют. И лекарств целую телегу, для души, фармацевты навыдумывали. Нет. Увольте. Оставьте меня. Нет никакой души. Я уже ничего не помню. Ваша душа ничего не помнит. Слабенькая она оказалась, ваша несчастная душа.
Я сначала всё помнил, я твердил себе: запоминай, всё потом всплывёт, всё потом пригодится, ты ничего не забудешь, и они все, мученики, ничего не забудут, мы всё запомним и потом всю правду расскажем. Кому? Кому я, и мы все, смогли бы её рассказать? И нужна ли будет наша правда новым людям? Приходят новые люди, нашей войны им не понять. Они хотели бы повернуть время вспять. Они придут в новых начищенных сапогах, в новых блестящих касках, с новым, через плечо ремень, оружием. Будут метко стрелять. Помчатся друг на друга в новых танках, полетят друг на друга в новых вёртких, ловких истребителях. А врачи? Что будут делать новые врачи? А новые врачи будут, из открытых во тьму и бред, разбитых окон госпиталей, слушать неистовые крики новых солдат: вперёд! Вперёд! Танков волчий ход. Зенитки ищут жертву в небесах. Люди ждут, когда из шахт медленно выползут и полетят на людей ракеты, под завязку набитые взрывным ядом. Убивать, милые, не хватит рук! Смерть будет сама к нам прилетать. Заждались. А вот она. И мы не поймаем её, она слишком быстро будет лететь. Не досчитаешь до трёх. Раз, два...
Три!
...я всё забыл.
А может, мне память отбили. Я не знаю. Теперь мне это трудно объяснить. Я кричал в карцере: я хирург! Я хирург! Я очень, очень умелый, первоклассный хирург! Я вытащу даже приговоренного к смерти из её черных лап! Я дарю жизнь! Если вы будете умирать, я спасу вас! Верьте мне! Верьте! Я правду говорю!
Я кричал, срывал голос, хрипел. Стены молчали.
За стенами, я знал, передвигались, ходили люди. Разговаривали друг с другом. Выходили из здания, опять входили в него. Работали. Били, допрашивали, били. Это была их работа. За неё они получали деньги. Я кричал: это ошибка! Это правда ошибка! Я врач! Мое дело спасать! Я могу спасти убийцу! Преступника! Я же не знаю, кто лежит передо мной на столе и умирает! Я вижу - умирает! Я - оперирую! Это - моё - дело! Слышите! Это... моё...
Стены молчали.
Я замолкал.
Я молчал вместе со стенами. С огромным холодным домом. Вместе с полом и потолком. С замком, он не лязгал, не скрежетал о свободе. Я закрывал глаза и постепенно всё забывал. Мне становилось хорошо, я замерзал, как в поле зимой, и мне хотелось петь, тихо так петь, неслышно, чтобы слышал песню только я, слышало снежное поле и ещё звёзды. Тихо мурлыкать, напевать. Напевал. Слышу - да, напевает. Кто? Я? Я, я, я? Неужели это я?
Вокруг алмазный снег. И небо всё в алмазах. И эта песня. Зачем она? Зачем я? Может, никакого меня нет? И я замёрз? И где-то одна, на воле, счастливая, гуляет меж наметённых за огромную ночь сугробов нежная, безумная память моя?
Я не слышал, как однажды ключ затарахтел в замке. Охранник растолкал меня. Я спал на каменном полу и сам превратился в камень. Руки и ноги у меня окоченели до твёрдости дерева. Я не мог их разогнуть. Не мог идти. Меня поволокли за руки. Пятками я прорезал пол длинного коридора, и с меня свалились башмаки.
Я не помню, босой я впрыгнул в поезд, или на меня кто-то сердобольный напялил обувку. Мне было всё равно. Да, кажется, я так и трясся в поезде босиком, а снаружи поля, города и деревни заметало, мело всё время, пока мы ехали. Ехали и спали. Ехали как спали. Когда спишь, есть неохота. Я слышал голоса: движемся на севера. На севера, повторял я, как песню, на севера. Я часто чувствовал себя собакой, и мне хотелось лечь под ноги людям. Люди рассматривали рваные шрамы у меня на груди, на запястьях и на спине, приподнимая рубаху и цокая языками, дивились, как жестоко меня били. Кто гладил меня по плечу, жалел. Кто ударял кулаком по столу, а потом скрючивался в бессильном рыдании. Так пьяные плачут, беззвучно и бешено, лицо кривя. Я сидел спокойно. Иногда задыхался. Народу в вагоне набилось много, мы сидели, плотно прижавшись боками, и спали сидя, как кильки в консервной банке. Все хотели есть, а мне есть не хотелось. Может, у меня отбили желудок, не знаю. Часто в центре живота возникала сильная боль. Я думал о боли: средостение, травма, ушиб. Или думал так: язва, голод, желудочный сок разъедает стенки желудка, скоро начнутся кровотечения. Вредно так много знать. Но я врач. Я не могу не знать. Мне надо знать о человеке всё. Это моё дело.
Моё. Дело.
Бездельничай теперь, хирург.
Я ещё помнил: я хирург.
Привезли, выгрузили. Холодно, да. Загнали в грузовики. Здесь не бомбили. Шла ли здесь война? Никто не знал. Повезли. Привезли на берег моря. Море серое, цветом в рыбий перламутр, переливается серебристой бедной чешуей, вздрагивает, набегает на берег, тихо шепчет. Прозрачное, слеза. Плачет. Тоскливое. Я наклонился, зачерпнул в горсть воды. Умылся. Солёное. Соль. Слёзы. Я умылся чужими слезами. Боль земли. Я тебя не вылечу никогда. Ты так и будешь болеть. И так же будешь плакать. Без меня. Когда меня не станет.
Повели. Долго расспрашивали, писали в толстые тетрадки. Не били. Хотя, может быть, и хотели. Распределили: тебе туда, тебе сюда. Приплыли серые рыбы-люди. Повели в сараи. Тебе в этот сарай, тебе в тот. Мы входили в сараи, они назывались бараки. Длинные бараки, пустые, как стойла для коней, загоны для коров, иного скота. Пола нет, земля, надо спать на земле. Пучками там и сям лежит колючая солома. И здесь не надышишь, не согреешь жалким дыханием морозный воздух: в щели дует ветер, щели забивает метель, уж лучше бы она замела всё, всё на свете, и вместо нашего барака возвышался бы громадный сугроб, и мы все лежали бы там, внутри, и спали бы вечным сном в белом гробу.
Я забыл, как мы переночевали первую ночь. Все сбились в один большой живой стог. Вздрагивали. Стонали, друг другу мешали спать. Вскрикивали. Кто-то плакал страшно, в голос. Я не помню, в сапогах я уже спал, в валенках или босой. А, вспомнил. Я спал в чужих женских носках. В женском вагоне умерла девушка, говорили, красивая, и мне люди передали её носки, самовязку, грубая колючая шерсть, чтобы я мог хоть немного укутать промороженные ноги.
Здесь, в жуткой ледяной ночи, среди прижавшихся друг к другу тел, мы уже были не люди с мыслями, радостями и слезами, но просто тела, одно живее, другое мертвее; надсадно кашляла женщина. Захлёбывалась кашлем. Сначала я подумал: бронхит застарелый, грамотно не лечённый. Потом она стала задыхаться в приступе, и я бормотал сквозь сон: астма, астма, введите адреналин под кожу. Утром, когда человечий стог распался на множество чуть шевелящихся, страшно молчащих людей, женщина опять закашлялась, зашлась в кашле, задыхалась, и я увидел её. С затылка. Из-под потрёпанной волчьей ушанки на плечи выбились и вольно рассыпались по плечам сенные, пшеничные, соломенные волосы. Это толстая русая коса развилась и вырвалась из тюрьмы на свободу.
Женщина ловила ртом воздух. Приподнялась на руках, ладонями упиралась в голую заиндевелую землю. Умирала от кашля. Я видел её согнутую, горбатую от предсмертного ужаса спину, плечи, укутанные изношенной, едва ли не собачьей, шубенкой. Слепо перешагивая через людей, я добрался до неё. Не видел её лица. А она кашляла. Не оборачивалась. Не видела меня.
Я наклонился и крепко схватил её за плечи. Попытался к себе повернуть.
- Я врач! Обернитесь! Посмотрите на меня! Сейчас я вам помогу!
Ушанка свалилась у неё с головы. Лежала рядом с ней мертвым волчонком.
Человек убивает Живое, чтобы одеть, обуть и накормить себя.
Она упиралась, цеплялась ногтями за живую мрачную землю в иглистых разводах утреннего инея, будто кто землю щедро слезами посолил, а слезыньки-то и застыли на лютом морском холоду; я рвал её к себе, хотел вырвать у смерти, не дать ей, не сейчас, не сегодня. Она разжала пальцы. Ледяная земля набилась ей под ногти. Я повернул её к себе, и она упала мне на руки - так падает на руки любящему любимая. Я подхватил её. Мужской голос рядом изругался коряво. Старухи рядом заохали. Далеко, на краю света, заревел телёнком ребёнок.
Синие глаза ударили в меня.
Я держал на руках жизнь мою. Любовь мою.
Она глядела на меня. Она не потеряла сознания. Кашель застыл на её губах. Мне показалось: её губы покрылись инеем и стали чёрные, цвета голодной земли. Синева из широко раскрытых глаз текла по щекам, ложилась под ресницы, венозным синим током билась под челюстью, на шее.
Я слышал тяжелые хрипы у неё в груди. Так хрипит изношенный, старый баян с дырявыми мехами. Свист и хрип есть, а звука нет.
И адреналина у меня нет. И шприца нет. И спирта нет. И ваты нет. И ничего нет.
А что у меня есть? Я есть.
- Ничего не говорите. Слушайтесь меня.
Её лицо синело все гуще. Удушье. Надо было торопиться.
Я расстегнул шубёнку у неё на груди. Холщовое платье. Где застёжки? Чёрт, на спине! Некогда искать эти чёртовы крючки! Порвать! Быстро! Я рвал тугую холстину, руки обрели чудовищную силу. Люди вокруг глядели на то, что я делаю, и не останавливали меня. Глядели на белое тело женщины. Нагое. Такое близкое. Тёплое? Холодное? После смерти тело превращается в неизвестную материю. Оно уже не живое, и ещё не мертвое. Оно между мирами.
Мои ладони превратились в наждак, в два комка белой сухой овечьей шерсти, в две колких вязаных вареги, в две щётки из волчьего жёсткого меха, и я стал ими тереть это белое молчащее, недвижное тело, тереть, мутузить, растирать, мять, колоть, и снова вминать, втирать в него мой неистребимый жар, мою волю, мою победу, и бормотал при этом: живи, только живи, только живи, дыши, согревайся, я согрею тебя, я разотру тебя до огня, дыши, дыши, живи, живи, дыши. Ды-ши. Ду-ша.
Душа.
Какая, к чёрту, душа. Тело, давай же, давай, быстро, оживай!
Нагая грудь, ещё вчера красивая, обвислая от голода, торчащие ключицы, решётка рёбер, впадина яремной ямки, круглые кости плеч, всё это плыло, сияло, поднималось, падало и сверкало под моими руками, а я тёр, тёр, будто дыры в сияющем теле хотел протереть, кожа постепенно краснела, разогревалась, женщина судорожно вдохнула холодный воздух и опять закашлялась, и я, в отчаянии, расстегнул мой тулуп и лёг на неё, и сильно, горячо прижал её моим отощалым телом к земле. К земле.
- Грейся... грейся... молчи...
Я сначала шептал бессвязицу, потом замолчал, она раскинула руки, и я положил мои тяжёлые руки поверх её бестелесных рук, холстина завернулась к локтям, запястья жалко торчали из мохнатых раструбов шубёнки, я взял в руки её заледенелые пальцы и сжал, так умирающий сжимает живую руку напоследок, на прощанье. Она чуть пошевелила пальцами, и я понял этот язык. Пальцами она сказала мне: спасибо.
Потом я выпустил из рук её руки и просунул мои ладони под её спину. Обнял крепко. Под моей грудью дышала женская грудь. Я вспомнил всех моих женщин, у меня не так-то уж и много их было.
- Грейся... грейся...
И тут она взбросила руки и обняла меня.
Так лежали мы на земляном полу барака, крепко обнявшись, и застыли, как выточенные из дерева, нет, высеченные из камня, как памятник самим себе, и женщина тепло дышала мне в лицо, она была изумлена, потрясена, она испугалась, она замерла, она улыбалась, она дрожала, она жила.
И тут дверь барака подалась. Нас никто не запирал на ночь, с наружной стороны не висело никакого замка, не торчала никакая щеколда. Медленно открылась дверь, сколоченная из ветхого горбыля, и вошёл человек.
И никто не посмотрел на него. Все смотрели на нас.
Все молчали.
Спинами, затылками мы видели: вошёл чужак, и кто он? Охранник? Узник? Палач?
Чужак не проходил дальше. Стоял у дверей.
Я не мог обернуться. Я грел телом и жизнью моей мою единственную жизнь.
Зато медленно, елозя затылком по заиндевелой земле, обернула голову она.
Я видел, как синие очи её распахнулись ещё шире.
Я почуял, как тихо, страшно она дрожит.
- Кто это...
Она молчала.
Я перекатился на спину и перекатил женщину из-под моей горячей всетелесной тяжести себе на живот. Она лежала у меня на животе, как огромная белая кошка. Найдёнка. Я её нашёл и больше никому не отдам. Никому.
Её голова бессильно лежала на моём плече. Её глаза глядели на того, кто стоял у двери. Не отрываясь, глядели. Не моргали. Рот приоткрылся, из него вырывались короткие, еле слышные хрипы.
Я проследил за её долгим, как жизнь, взглядом. Увидел.
В открытых в зиму и море дверях стоял новый заключённый. Мой бородатый врач, с ним вместе мы принимали пытку, пленённые врагом, и убежали из-под стражи.
Ну, здравствуй, моя война.
Вот ты и настигла меня.
Я узнал тебя.
Губы бородатого доктора дрогнули; я видел, он узнал меня.
А она? Почему её глаза тоже узнают, знают его?
Кто мы такие друг другу? Все трое?
Стоящий у двери разлепил губы.
Я услышал его тихий голос сквозь подземные хрипы моей больной.
- Ну, здравствуй, моя жизнь.
Кому это он говорил? Мне? Ей?
Я крепче прижал женщину к себе. Её грудь, беспощадно мною растёртая, жарко алела, на скулы взбежала краска. Да, это наша жизнь. Моя, её и его. От неё не отвертишься. И не надо ничего забывать. Ничего. Ни шага, ни вздоха, ни побоев, ни насилия, ни оскорблений, ни пыток. Мы не забудем. Мы! Не забудем! Мы! Победим! Врага!
...а что было дальше, я забыл.
АЛЕКСЕЙ
Я записывал в том таёжном городке в толстую тетрадку всех своих больных. Всех, кто являлся ко мне, прося первой либо последней помощи.
Близ городка власти закрыли и разорили женский монастырь. Три послушницы притекли ко мне из того монастыря. Я не мог без слёз слушать их страшные рассказы о том, как монастырь убивали. Как человека. Топорами, штыками, молотками всё били и громили в монастырских храмах. Святые иконы валялись на полу, на них наступали сапогами, и дерево ломалось под сапогом, и краски текли по святому лику, по золотому горнему фону слезами, кровью. Я, чем дольше жил на земле, тем чище и сильнее чувствовал мощь Святого. То, что свято, неподвластно смерти. Да ведь и любовь неподвластна.
А где ваши товарки, монахини где, тихо спросил я послушниц. Они, все три, перекрестились и так стояли, молчали, глаза опустив. У той, что ближе ко мне стояла, слёзы по лицу покатились, крупные. Ничего, я шептал послушницам, ничего, милые, перемелется всё, мука будет, не мука, а мука, настоящая, хлебы будем в печь сажать. Да вкушать. Да Господа за счастье благодарить. Счастье жить, да, но ведь и счастье пострадать за Христа! Послушницы кивали, молчали и теперь плакали уже все: тихо, неслышно. Так мvроточат иконы.
Я их, всех трёх, постриг в монахини. И благословил пребывать монахинями в мiру.
Тут приказ пришёл: меня сослать в сельцо Саблино, что на Севере далёко; дальше того сельца и нет ничего, только белая, голая тундра одна. И смерть. И тоска. И ледяной океан, Северный Ледовитый. В приказе стояло: сослать навечно. Я улыбнулся. Ничего вечного под Луною, дитя моё, ведь нет; всё, что именуют вечным, на деле оказывается мгновенным перед лицом Божиим.
В путь на Север мы потекли с тремя новоиспеченными монахинями. Девочки они ещё были, ну вот как ты, нет, конечно, чуть постарше тебя. Пока ехали, много всего святообрядного совершили: и грешников исповедовали, и покойников погребали по Пасхальному чину, и однажды в селе на берегу Ангары попросили меня обвенчать молодых, ну я и обвенчал. Радость такая, глядеть на счастливые лица новых мужа и жены на земле! Как там сложится их жизнь, один Господь знает; но перед ликом Господа Распятого все наши земные мучения и малые распятья - ничто. Праздник - с Ним, и горе - с ним. И детки, детки пусть у вас с Богом родятся, шептал я обвенчанным, осеняя их широким крестом, сам весь в слезах счастья, и они плакали и целовали мне руки.
И шли да шли вперёд, всё вперёд и вперёд, и плыли по холодной изумрудной Ангаре в смоляных долблёнках; на безумных порогах, проходя их в узких наших лодчонках, громко, на всю реку, молились, и Бог миловал нас и не оставил нас; и причалили к берегу каменистому, подзолистому, гущина тайги нас поразила, тайга стояла зелёной стеною, и вышел навстречу нам олень, и стоял перед нами смело, не убегал. Вдали виднелись крыши. Мы привязали долблёнки к рыбацким кольям на берегу и прибрели в село. Здесь мне пришлось делать операцию катаракты белому-снежному, похожему на белую полярную сову старику. Он уже почти ослеп. Я решил вернуть ему зрение. Старик лег на узкую лиственничную лавку, я достал из мешка железный контейнер с глазными хирургическими инструментами. Монахини привязали старику руки-ноги к лавке. Я действовал быстро, так быстро, что даже задохнулся. Вытащил мутный хрусталик. Старик скрежетал зубами. Я наложил ему повязку на глаз и прошептал: во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа, и ныне, и присно, и во веки веков, аминь. Он поправил меня: во веки веком. Он был старовер, как многие старики в Сибири; и не только старики. Обе веры в тайге уживались, как уживаются звери: волк с лисицей, овца с козою.
И во мне наши веры мирно уживались; иной раз мне казалось, я вышел в наш день из дней Иоанна Грозного, из пустозёрских, во земляном срубе, ночей Аввакума.
Арахна, надменная пряха, пряла и пряла нескончаемую снежную нить. Я уставал следить за пряжей метели, уставал засыпать под вой вьюги. И всё же я благословлял труды Вселенской паучихи, ткачихи Арахны, ибо, среди прочих жизней, пряла она мою жизнь, и ткала всеобщий ковёр. Пряха, труды и дни твои! Женщина! Где моя жена, ответь? Умерла ли она? А может, она жива? Где дети мои? Я любил их. Может, они все заболели и умерли в страшную эпидемию, когда в огне революции пожирали людей отчаянные, голодные и жадные хищники - тиф, инфлуэнца, холера, оспа, чума? Пряха, Арахна, послушница Времени, я женюсь на тебе. Да нет, горделивая ткачиха, наслаждайся своим монотонным ремеслом, я пошутил. У меня есть Душа моя. Я не оставлю её никогда.
Когда мы собрались в навечный путь на Север, нам выделили верховых лошадей. Монахини, дико хохоча, еле забрались в сёдла. Старик, с повязкой через лоб, как одноглазый разбойник, вынес нам в подарок двенадцать собольих шкурок: монахиням по три шкурки, и мне три. Я отказался: зачем мне соболя?.. и монахини получили по четыре. Драгоценная рухлядь, смеялись мы, царские меха.
Ехали мы, пешком шли, лошадей под уздцы вели, потом опять на них взбирались, потеплело, налетел гнус, от укусов мошки мы погибали, мошка обсядет лицо, мы оботрём ладонями лоб и щёки, а ладони все в крови. Лошади, нещадно покусанные, падали на землю и валялись по траве, и дико, тоскливо ржали. Жаловались.
Опять на лодке по Ангаре плыли. К берегу пристанем, общими усилиями лодку выволочем из воды, уткнём носом в камни, а сами в виду воды среди камней встанем и отслужим Божественную Литургию. Никогда не забуду, как пели мои монахини под широким холодным небом! Я нарек их, когда постригал: одну Евпраксия, другую Евлалия, третью Евфросинья.
Плыли до впадения Ангары в Енисей, по Енисею на барже. По берегам возникали из густого тумана тунгусские селенья; тунгусы стояли на берегу, глядели, как мы плывём; я видел, у многих трахома, выворачиваются огненными знаками на опалённых солнцем лицах ярко-красные веки. Они нам кричали: Туруханск близёхонько!
Туруханск, и мы сошли на берег, и тут тоже стояли люди, люди, много людей, и вдруг все они опустились передо мной на колени. И все, все до одного, сложили руки лодочкой: благословения просили. Я всех, каждого в той толпе на берегу, обошёл и благословил. Люди плакали. Охрана терпеливо ждала, пока я всех благословлял. Ни слова охранники не изронили.
И я видел, как оттащили от меня моих монахинь, как повели их прочь от меня, и они всё оглядывались на меня, и слёзы катились у них по щекам, но и они ни словца не проронили. Так, молча, их и увели. А меня, после общего благословения и общей, на берегу, молитвы посадили в телегу, стегнули лошадь и повезли, и привезли в больницу.
Я понял: народу я тут нужен и как иерей, и как хирург. Как хирург, может быть, нужнее, чем как священник. Хотя вот кто душу спасёт? Тело, в нём душа прячется. Приходит смерть, душа вылетает вон из тела. Куда идёт? На мытарства, а может, сразу в Небесный Иерусалим поднимается, несомая златокрылыми Ангелами?
Время раскатывалось тонким тестом на столе, под невидимой тяжкой скалкой, посыпалось, чтобы не приставало к рукам, глазам и сердцу, тонкой звёздной мукой. Из Времени надо было испечь блины, хлебы, оладьи, лепёшки, а я смотрел на его раскатанное по столу моей судьбы тесто, и растерянно думал: ну я-то ведь не повар, какой из меня повар, стряпать не могу, могу только лечить и молиться.
И я лечил и молился, о Времени не думая.
Привозили брюхатых тунгусок и русских баб на сносях, не способных разродиться - я делал кесарево сечение, вынимал из кровавой утробы свеженького, не натрудившегося в родах младенца, всего гладкого, блестящего, как красная смуглая рыбка, в масленой родильной смазке, дико орущего, глазки-щёлочки, пуповина вьётся сизой, лиловой нитью, мать плачет от радости, уже не от боли, младенчик рыбою бьётся у меня в руках; я показываю его матери, верчу перед ней, чтобы рассмотрела она чадо своё со всех сторон, у неё глаза превращаются в Богородицыны очи чудотворной иконы Чимеевской. Какой красивый! Мальчик? Мальчик, мальчик, бормочу я, да, прекрасный.
Я делал глазные операции, ободрённый успехом удаления хрусталика древнему слепому деду; обрабатывал и зашивал рваные раны, вправлял переломы, творил резекцию челюсти и резекцию язвенного желудка, всё делал, что надо было делать, когда человека постигает большая беда. Я даже самоубийц, в последний момент вытащенных из петли, лечил; они успевали повредить себе трахею, а кто-то и шейные позвонки, и кому-то на всю оставшуюся жизнь требовалась иммобилизация и фиксирующий шею твердый воротник, наподобие шины. Иной человек жизни не сдюживает, и ему кажется лучшим и счастливейшим путем - расстаться с жизнью; и так то, что дал человеку Бог, он отнимает у себя сам; и это несчастье запоминает, и потом, минуту улучив, опять повторяет. Так бывает.
Я пытался вызнать у охраны, где мои монахини. Охрана молчала. Я прекратил расспросы. Помолился за их души светлые. Если вас уж нет на свете, пускай вы будете, родные, дорогие, в светлом, пресветлом Царствии Божием, в Саду Эдемском, под Покровом Богородицы. Так молился.
Я лицом к лицу стоял с людьми, кто ненавидел Бога. Бог тем людям был их личный враг. Я видел, как сверкали злобой их глаза, когда они говорили о Боге. Уничижали Господа гадкой руганью. И я не мог залепить уши мои воском, заткнуть ватой, чтобы не слышать поношений. Словом можно ударить наотмашь, изувечить; убить. При мне Бога убивали, снова и снова. Распятый снова подвергался Распятию, и Крест возвышался вечен, и души людские, как покалеченные, слепые, выколотые глаза, незрячи пребывали. Иногда злые люди, охранявшие меня, позволяли мне отслужить обедню в заброшенном монастыре на берегу Енисея. Я спрашивал мою охрану: а в Саблино-то когда поедем? Охранники молчали. Я осенял их крестным знамением.
Они отшатывались от крестящей их моей руки, как от змеи.
Один раз охранник ударил меня, когда я его благословлял. Я низко поклонился ему, до земли.
Видел: он хотел ударить меня ещё раз. Но сдержался.
В осиротелый монастырь меня возили в особых санях: в кошеве, укрытой попоной, сплошь расшитой розанами и маками. Эту кошёвку и расшитую цветами попону подарили мне туруханские крестьяне. На снегу такая самоцветная кошева гляделась ярким Царским поездом. Я смеялся: ну точно я Царь! А шёпотом бормотал, крестяся: да нет, жалкий я и нищий, один из малых сих, а Царь у нас у всех один, Небесный.
Я до того осмелился, что стал проповедовать в монастырском Троицком соборе. В нем была разрушена, вся в зияниях дыр, южная стена. Ветер гулял по храму. Немногочисленная паства, все крестьяне, русские, эвенки, тунгусы и тофалары, медленно подходили к Причастию. Диакона ко мне не приставили. Какие в тундре диаконы? Я справлялся с причащением один. Потир дрожал в моих руках. Я волновался. Люди причащались Святых Даров, иной раз и Преждеосвященных, а пока медленно, как во сне, подходили к золочёному потиру в моих руках, две девочки маленькие, ну вроде тебя, дитя, тонкими голосами пели "Иже Херувимы", это я их научил.
О чем я проповедовал? Как? Я говорил о Духе Святом. О душе. О сердце. О Господе. И о том, что есть тело человека. О тело человека, говорил я, его нам не понять! Мы его кормим, поим, холим, обихаживаем, одеваем в тёплые зверьи шкуры зимой и в ситцевые невесомые наряды летом, чуть захворает оно, спешим его излечить, мы боимся его страданий, недуги причиняют нам боль не только телесную, но и душевную, и часто обе боли мы вынести не можем; но тело человека, чего оно носитель? Оно умирает, и оно уходит в землю во гробе. Перестает биться сердце, вместилище любви. Прекращает каждодневную работу мозг, прибежище мысли. Не шевелятся руки, не идут ноги; лежит тело человека, спокойно, навеки в домовине вытянувшись, и помину нет ему. Истлевает! Плоть изгнивает и обнажает кости. Страшный скелет возлежит под землёй. Настанет время, и кости оденутся плотью, и восстанут тела из могил; но то свершится на Страшном Суде, а когда он грянет, не знает никто. И я не знаю. Один Бог знает. Но Он нам о том не скажет.
И что? Лелейте тело, ублажайте и услаждайте его! Всё равно оно умрёт. Уйдёт в свой черед. А вы? Спрашиваете вы меня: останемся ли мы? О какой такой душе говоришь ты тут нам, слуга Господень? Где она живёт, та душа? Откуда в тело прилетает? Куда улетает, когда тело уходит в землю сырую?
И отвечал им я: душа это самое важное, самое живое и бессмертное во всем Мiре Господнем. Душа, это ваше упование. Ваша надежда! На жизнь будущую, на тысячелетнее Царство Христа Бога, что наступит на земле, и тысяча лет пройдет как один солнечный день, и обнимутся все люди напоследок, и станут одной душою, как Бог, Альфою и Омегой, Началом и Концом всего.
Я видел: глядели на меня енисейские крестьяне, русские и нерусские, большими глазами глядели и маленькими, узкими, как мальки на мелководье, и не понимали, что я им тут такое повествую. А я все равно говорил, говорил, говорил.
И, приходя в больницу, где лежали те, кого я оперировал вчера, утром, днем и ночью, я о том же говорил; и подходил к их койкам, и глядел им в глаза, и поправлял повязки, и вытирал ладонью со лба пот, и вытирал со щёк им слёзы, и благословлял их.
Власти обозлились на меня за проповеди. Однажды охранник, как с цепи сорвался, заорал на меня: собирайся, поп, на севера попрёшься! Час тебе на сборы! Я спросил: в Саблино едем? Охранник выплюнул мне в лицо: да, в Саблино! На Северный Ледовитый! Вот там ужо замёрзнешь, поп! Окоченеешь! И никто тебя не отпоёт! Разве белые медведи!
Собрался я быстро. В котомку засунул и больничную толстую тетрадку мою. Я давно уже записывал в ней не только симптоматику в динамике и температуру моих больных, но и мои мысли о том, о сём. О Боге и человеке. О душе, сердце, теле и великом Духе Святом.
Крестьяне прослышали, что меня увозят. Приволокли мне в дорогу огромное, сшитое из медвежьей шкуры одеяло. Я восседал в кошеве, а меня крестьяне укрывали медвежьим одеялом и плакали. Они меня крестили, кто двуперстием, кто троеперстием, всяко-разно, а я их. Мы крестами будто целовали и обнимали друг друга, как в Пасху Господню.
Мороз ударил, и к ночи звёзды превратились в ледяные осколки и густо сыпались с небес в расстеленные белые покрывала необъятной тундры. Я трясся в кошеве, из ноздрей лошади валил густой пар. За мной в крытой повозке, запряжённой двумя конями, ехала вооруженная охрана. Я, безоружный, укрытый медвежьей шкурой, задрогший вусмерть; и они, в кибитке, там надышано, тепло, и винтовки у них, и наганы, и ножи, как же в тундре без холодного оружия, а если надо хищника ножом пырнуть. Повозки с берега скатились прямо на зальделый Енисей, и покатили прямо на Север, куда и стремилась мощная река, бока лошадей раздувались, они тоже замерзали, их спасал усердный бег, бег вдаль, по льду, по звёздам, по коврам и белым соболям, и серебряным песцам беспредельных снегов, и один Бог ведал, когда мы в то Саблино прибудем, и прибудем ли, уж очень сильный мороз ударил, такой, что дышать нельзя, мороз-убивец, ох, задохнёмся, околеем, и я начал молиться Господу, чтобы помог, поддержал, укрепил меня, слабого, маловерного.
На пригорке виднелся сгоревший поселок. Чёрные избы, пепелища. Никого. Нет, вон к нам медленно, увязая в снегу мохнатыми пимами, эвенк ковыляет. Ворота его избы распахнуты. Изба цела. Единственная. Во дворе толкутся отощалые олени. Мы подъехали к воротам и крикнули эвенку: забирай лошадей, дай нам оленей! Он понял. Мы распрягли усталых лошадей и впрягли оленей в повозки. Не дотянут олешки, зло выдохнул охранник и сплюнул в снег, уже больно слабы, доходяги. Это я не дотяну, прохрипел я, согреться бы, хоть немного, закоченел весь. Охранники, сквернословя, несли меня в избу оленевода на руках. Внесли и бросили на пол. Я шмякнулся об пол, как мешок с камнями, и сознание потерял. Очнулся оттого, что эвенк поил меня горячим молоком странного вкуса и приговаривал: глотай, глотай, оленуха млеко, замороз, в погребица зимка хороницца.
Настало утро, мы отогрелись, напились оленьего молока и пустились в путь.
Вот оно, полярное Саблино. Последнее, перед Чёрной Гибелью ночного неба, место на земле, где живёт человек.
Ещё человек, не зверь.
Ещё живёт.
Ещё глядит на небеса, а в них копошатся, ползают звёзды, погибают и вспыхивают, не сосчитать; великое паникадило, вечный медленный, заклятый Круг, круговращенье Мiровъ, колесо веры, коловрат памяти, веретено надежды, хоровод любви.
В селе Саблино я насчитал семь изб. Семь, думал я, улыбаясь, счастливое, святое число. Меня поселили в холоднющей избе; не изба, а ледник; вместо вторых рам в окнах торчали плоские блестящие льдины. Горка снега лежала на полу около двери. Мужик привозил мне на салазках дрова; баба стряпала и стирала. Мужик сколотил мне для спанья нары, я накрыл их дарёной медвежьей шкурой, а мужик расщедрился и приволок мне ещё оленью шкуру, укрываться. В избе имелась печка-буржуйка, я насую в неё дровишек на ночь, они прогорят, и тепло мне. Иногда проснусь, а огонь в печке пыхает, я разлеплю глаза, на пламя гляжу, а оно яркое, мне со сна так сетчатку и обожжёт, злее молнии. Утром встану, а в избе мороз, и вода в ведре затянута толстою коркой льда. Жизнь! Ты ведь тоже лёд! Сплошной лёд! И не протаять тебя, не растопить бедным, огненным сердцем! А всё равно бьётся оно в груди, жжёт, ледяную смерть прожигает! Наш удел. Душе моя, душе, восстани! что спиши!
Сердце пылает, а ноги в валенках стынут. Кого тут лечить? Кому молиться? Они сказали, на всю жизнь я сослан сюда. На всю! А что такое вся жизнь? Может, это сегодня, завтра, а послезавтра у тебя, человече, уже не будет! Я мылся ледяною водой из застылого ведра, разбивая кружкой лёд; я зачерпывал из медного чайника кипяток и обливался кипятком, и кожа моя не чуяла ожога. В ночи раздавался дикий треск: это трескался лед поперек Енисея, а там, чуть поодаль, за выгибом снежной хребтины, виднелось море. Зазубрины льда, забереги, круглая шуга, белое крошево, а дальше вода, вода и чернота, вода и зловещая зелень, вода и мрачно-красное, резкой полосою крови, небо, переходящее опять в навечный траур: закат кровит, а полночь обвязывает смоляным крепом. Душа! Не спи! Гляди! Запоминай!
Да для кого запоминать-то? Может, с памятью навек проститься?
И с Временем тоже?
Баба, что готовила мне скудную пищу, исчезла. Охранник-призрак пропадал и появлялся. Я спросил его, где моя кухарка. Он нехотя ответил: её загрызли волки, помчалась, дура, в другой станок, в Лихое, там дочь у ней, а волки напали, лошадь загрызли, и её самое. Сам себе стряпай, повар Гордей! Первое моё блюдо была уха из трески. Треску я, чтобы звери не сожрали, хранил, завёрнутой в вощеную бумагу, на окне, около моих ледяных стекол. Я забыл уху посолить, и сыпал соль прямо в тарелку, когда ел, а хлеб мой закончился, и не знал я, когда привезут мне жёсткий ржаной кирпич, прихлебывал уху и бормотал, треску вкушая: Господь двумя рыбами уйму народу накормил, и пятью хлебами, вот оно, чудо, а у меня тут чудо простое, чудо, Господи, что я живу, ещё живу. И ел уху, молясь и крестясь, и так всю из котла выхлебал, и сыт пребывал.
И так научился я сам себе еду готовить.
И мне посчастливилось не только хоронить людей в вечной мерзлоте, но и роды принимать, и крестить.
В сельце Саблино я крестил новорожденного ребенка.
Из Лихого в Саблино прибыла беременная дочь моей погибшей поварихи и вознамерилась тут родить. Брюхатая не знала, что мать её померла страшной смертью; от слёз-рыданий у неё начались роды, и меня позвали их принимать. Я наклонялся над роженицей, сгибал ей ноги в коленях, кричал: тужься! тужься! Она тужилась, как могла. Не вопила. Терпеливая. Только пот тёк по лицу рекой, и вся она истекала, подплывала потом и кровью, серебряными околоплодными водами, лежала на полу на старом тряпье, вокруг ахали две старухи, да Господи Боже, какие из них повитухи, так, мешали мне, я соображал: нет, кесарево нельзя, да и молодая она, сама родит, прощупал ей живот, предлежание у плода было неправильное, тазовое, он шел вперёд ножками, а не головкою, и я мог совершить поворот плода, мог, меня же учили, да что же такое с плодом стряслось, может, он обвит пуповиною, и сейчас там, в утробе, синеет и задыхается, а ему надо родиться! надо! надо!
Я положил правую руку на низ живота роженицы, а левой стал нащупывать, через брюшную стенку, головку плода. Толкал. Толкал. Баба охала, стонала. Схватила меня за руки. Я руки её стряхнул и тихо, внятно сказал ей: я делаю так, что ты сама сможешь родить. Иначе разрежу тебе брюхо ножом. Она коротко визгнула и утихомирилась. Постанывала слегка. Когда я повернул головку как надо, роды пошли как по маслу! Ребенок выскочил из чрева как из пушки! Мать и я - мы даже понять ничего не успели! Ну, думаю, опытная мамаша. Я промолвил: это не первый у вас? Родильница, с мокрым счастливым лицом, только и повторяла одно слово: первенцик! первенцик! я-то мнила, буду цельну неделюску муцицца!
Я вымыл младенца в корыте, старухи нанесли вскипяченной тёплой воды, я глядел на мальчика и думал: ах, мальчонка, может, тебе доведется жить в Мiре, где не будет никаких войн, тюрем, пыток, издевательств, где волки тебя не загрызут, и во льдах ты не утонешь, и на костре тебя не сожгут, развлекаясь твоими смертными муками.
Не было при мне моей многостиранной рясы. Не было спасительного требника. Не совершал я никогда обряд крещения новорожденного младенца. Что делать? Они все, старухи и хозяин, стояли рядом и ждали, и жадно, восторженно и требовательно глядели на меня, то как на Бога, то как на прислугу; они прекрасно знали, что я священник, и ждали от меня того, что я должен быть сделать.
- Полотенце мне дайте!
Старуха росточком пониже метнулась на кухню, чуть не упала и доски не клюнула носом, несёт полотенце самотканое, я беру полотенце у неё из коричневых, медовых, горько-корявых рук, а руки её древние, коряги живые, дрожат, она понимает: это уже не полотенце, и я понимаю, высоко полотенце поднимаю и возглашаю:
- Да наречешься ты на сей миг епитрахиль!
Вешаю епитрахиль на спинку стула.
Простираю руки к корыту, где миг назад купал ребенка, и восклицаю:
- Да наречешься ты на сей миг святая купель!
Низкий потолок избы не позволял мне, высокому, выпрямиться во весь рост. Я сгорбился, стоял согнувшись. По половицам раздался стук, будто шагала женщина на каблуках. Это в комнату вошел из хлева телёнок, цокая копытцами, подошел к купели и, окунув туда морду, немного попил из нее тёплой воды.
Старухи повалились на колени. Я смутно думал: ну вот, у нас здесь всё будет как в Святом Семействе, как в яслях в Вифлееме, вот и телёнок в избу взошёл, а там, глядишь, и мать-корова придёт, а за нею коза, а за нею овца, и пастухи явятся, приведут собак с волчиными мордами, и поклонятся Тому, Кто наконец пришёл на свет, и вот, я Ему тоже поклонюсь; а кто же такой сам человек, разве не создан он по образу и подобию Божию, разве в человеке Бог не пребывает, в каждом, во всякую минуту жизни его, и что же мне делать в новоявленных яслях, Господи? Какие молитвы читать, какие мелодии во славу новой жизни петь?
И головою в холодную воду я - прыгнул!
Как в Ледовитый океан - со скалы, унизанной тысячью галдящих птиц!
И стал я громко, торжественно петь и огненно читать!
И я сам, сам те пламенные молитвы на ходу сочинял, и Господь меня простил за это, и не только простил, а в сём новом, северном Вифлееме, в сердцевине лютых полярных морозов, в скрещении кровавых закатных, посмертных ножей, среди расстеленных по выстывшей землице белых парчовых платов, неистово, яростно сверкающих под низким молочным, сливочным Солнцем и под солью-россыпью юродивых звёзд, Господь меня - да, меня! жалкого слугу Своего! разнесчастного, битого-забытого иерея Своего! каждодневного пахаря чернозёмного-вселенского, безграничного поля Своего! - поддержал, ободрил, обласкал, с небес сильною рукой перекрестил! Так, без слова единого, Он сказал мне: делай, что должен делать, и буду Я тебе помощь!
Не было у меня снежных парчовых одежд, не было белых нарукавниц; не было свечей длинных, вечно горящих, не было кадильницы, чтобы покадить щедро и густо вокруг купели; а была лишь купель, вот она, еще вчера она была жестяным корытом, и был младенец, красный как вино, лежал на полу на рваной простынке, сучил ножонками и орал, и обрезанную пуповину ему уж обмотали ветошью старухи; и обошел я вокруг купели, поднимая руку, будто бы кадил, и крестились старухи, стоя на коленях, и хозяин, с бородою седой, длинной, чистый старец Симеон, на колени в дверном проеме встал, и низко, в пол, поклонился я им всем, и родильнице нижайше поклонился.
И за диакона глаголил:
- Благослови, Владыко!
И, сам за себя, радостно возгласил:
- Благословено Царство Отца и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков, аминь!
И снова за диакона возглашал ектенью:
- Мiромъ Господу помолимся... О свышнем мире и спасении душ наших, Господу помолимся... О мире всего Мiра, благостоянии святых Божиих церквей и соединении всех, Господу помолимся... О святем храме сем и с верою, благоговением и страхом Божиим входящих в онь, Господу помолимся... О Великом Господине и отце нашем, Святейшем Патриархе... Патриархе...
Слёзы сами полились.
Так и лились на рот, на губы поющие, на сияющие слова. На прошлое и будущее.
- О Богохранимей стране нашей, властех и воинстве ея, Господу помолимся... О еже освятитися воде ей, силою... силою и действием... и... и Святым Духом... и наитием Святаго Духа... Господу помолимся... О еже достойну быти нетленнаго Царствия в ней крещаемому, Господу помолимся... О еже сохранити ему одежду Крещения, и обручение Духа нескверно и непорочно, в день страшный Христа Бога нашего, Господу помолимся... О еже быти ему воде сей банею пакибытия, оставлению грехов и одежди нетления, Господу помолимся!.. Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию... Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу нашу Богородицу и Приснодеву Марию со всеми святыми помянувше, сами себе, и друг друга, и весь живот наш Христу Бгу предадим... Тебе, Господи!..
Ектенью я ещё помнил. Все диаконы мои, что мне сослужили, глаголали её исправно и без запинки. А вот мою, тайную молитву, что я над крещаемым шёпотом должен был читать, я тихо пел из сердца моего, понимая: забыл, требника нет, молиться надо, и что есть молитва, как не славословие изнутри души? Песня любящего, кровью омытого сердца, что бьётся и верит: никогда не умру.
- Боже, милостив буди ко мне, грешному! Боже, смилуйся над нами всеми... Ты все тайны наши один ведаешь. Ничто от Тебя не укроется. Ты нас на ладони держишь. Мы все Твои птахи, Твои крохи. Все мы обнажены перед очами Твоими. И если что сотворим мы ужасного и грешного, Ты все равно будешь ожидать от нас, безумных, покаяния... а мы-то ведь каяться не умеем никто... Омой, Господи, чистыми Твоими слезами наши скверну телесную и скверну душевную! Ты чист, Ты свят. Подари нам совершенную веру и самую небесную свободу! Мы рабы греха, а Ты человеколюбец. Ниспошли нам великую силу Твою для сражения со злом. Вот человек родился на свет; подари ему, Господи, истину Твою! Пусть пребудет он и душа его, и сердце его в лоне Твоей святой, соборной и Апостольской Церкви... Господи... услышь... спаси и сохрани...
Я помнил: теперь надо громко возглашать молитву, во весь голос.
Старухи всё ниже клонили головы и всё чаще крестились. Хозяин безмолвно глядел на меня. Он видел меня не в нищей истрепанной одежонке, а в лучезарной ризе.
Восторг светился в его глазах и искрами перебегал на людей, утварь, черные староверские иконы по стенам мрачного сруба, а из тьмы образов наплывало и вспыхивало забытое золото небесной тайнописью.
Рожденный на свет мальчик внезапно замер, перестал повизгивать поросёночком и кряхтеть, умолк, прислушивался к тишине, к шёпоту. А когда я стал молиться громко, на всю избу - вздрогнул всем красным тельцем и повернул ко мне лысую головёнку.
- Чудны дела Твои, Господи! Велик Ты, Господь наш, и славен на всю землю и все небеса! Пою все Твои чудеса, что Ты совершил среди людей, и те, что ещё совершишь, о Втором Своем Пришествии! Ты держишь в руке Твоей всякую земную тварь. Всеми четырьмя стихиями Ты повелеваешь! Огонь, земля, вода, воздух... воздух есть Ты Сам, и Тобою мы дышим! Пред Тобою трепещут все люди и звери, Тебе сияет Солнце, Тебе мерцает Луна... Тебя обступают звёзды, к Тебе стремится свет, Тебе раскрываются бездны, тебе немолчно журчат источники... Кожею телячьей ты развернул над землёю родное небо! Утвердил Ты родную землю на водах! Обнял ты море великое песком и камнями! Служат Тебе Ангелы... и Архангелы... многоочитые Херувимы и шестикрылые Серафимы... Господи! Неподвластен Ты языку человеческому. Безначальный Ты и несказанный. Явился Ты на землю нашу во образе человека, и, как раб, как крестьянин простой, по пыльным дорогам ходил... и ученики Твои смиренно шли за Тобой... И зрел Ты, как диавол мучит род человеческий, истязает его, и захотел Ты человека спасти! И спас! Ты... спас нас... всех...
Младенец глядел на меня глазами круглыми, тёмными, бездонными, так глядел, будто всё понимал.
- Исповедуем благодать Твою, Господи, проповедуем милость Твою! Девственную утробу Матери Твоей Пресвятой Богородицы освятил Ты рождеством Твоим. Ты на земле явился, и жизнь Твою на земле прожил среди нас, человеков. В реке Иордан крестился Ты, вошел в воду, и Отец Твой с небес ниспослал Тебе Святаго Духа в виде голубя. Явись и ныне, Господь наш! И освяти сию крещальную воду наитием Святаго Духа Твоего! И дай той воде благодать избавления, Иордана благословение, сотвори источник нетления, дар освящения, грехов разрешение, недугов исцеление... демонов всех погуби, Ангельскую крепость возведи... Да исчезнет зло и все враги Твои от произнесения одного дивного, славного имени Твоего!
Я перекрестил воду в купели, трижды окунувши в неё пальцы.
Слова Таинства воссияли в памяти. Я считал их с небес. Эти - вспомнил точно.
- Да сокрушатся под знамением образа Креста Твоего вся сопротивныя силы...
Дальше будто волна на меня накатила. Сквозь водяную толщу я еле различал буквицы, они тут же начинали звучать. Это было диво дивное - я видел словеса, и я их сразу слышал, и они таяли у меня на губах, и под строгим, без дна, взором младенца я смущался, вспоминая и забывая, терялся, дрожал, боялся, а в страхе душа все равно ликовала, новый человек родился, и я, я крещаю его, Господи!
- Ты даровал нам, Господи, свыше рождение водою и Духом...
Елей, дальше ведь елей... а нет, нет у меня святого масла... вообрази, вообрази...
- Быти, быти тому помазанию нетления... оружию правды... обновлению души и тела... всякого диавольского действа отгнанию... во славу Твою, Отче, и Единородного Твоего Сына, и Пресвятого, благого и животворящего Твоего Духа...
Старуха, что поближе ко мне на коленях стояла, встала, кряхтя и задыхаясь, взяла на руки младенчика и поднесла ко мне. Я окунул пальцы в воду и помазал ребенку лоб и грудь.
- Помазуется раб Божий... как назвали?.. пока никак?.. пусть будет Алексий, человек Божий... раб Божий Алексий, елеем радования, во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа, аминь.
Мазал уши.
- Во слышание веры...
Мазал руки.
- Руки Твои, Господи, сотворили меня и создали меня.
Мазал ноги. Младенчик скрючил ноги и захныкал.
- Ходить теперь ему по стопам заповедей Твоих.
Я спросил старуху:
- В какой стороне восток?
Старуха, зажав беззубый рот рукой, другой рукой махнула; там чернели ночные окна непроглядной, довременной сажей.
Я пропел торжественно, глядя на восток:
- Крещается раб Божий Алексий, во имя Отца, аминь. И Сына, аминь. И Святаго Духа, аминь. А теперь что? А теперь тридцать первый Давидов псалом. Помнишь, не помнишь - пой! Пой, что помнишь! Ты сам себе требник. Ты Господень поводырь, ты Его сюда привёл, в ледяную избу на краю света! А может, это ты слепец, а Он твой поводырь, и влёкся ты за Ним, на свет и смех Его, на нежно звучащее в ночи слово Его! И так пришли вы оба к людям, во чьей семье пополнение; и откуда тебе знать, как сложился жизнь мальчонки Алексея, на какой войне он сгибнет или за какой грех его к стенке поставят и расстреляют; Время не знает никто; но иногда, иногда Время расступается перед тобой, бедный человек, как Чермное море расступилось перед воинством Моисеевым, и сомкнулось вновь перед войском фараоновым; и можно в прозрачной, слёзно-соленой воде разглядеть всё, сужденное на веку. Тебе или кому другому. Другой, он твоя родня. Вы все близко. Вы все едины.
- Беззаконие мое познах и греха моего не покрых... Ты еси прибежище мое от скорби... Веселитеся о Господе, и радуйтеся, праведнии...
Другая старуха встала с колен на удивление легко, как девица. Сдернула с табурета сложенную простыню, встряхнула, развернула. Подала мне. Я закутал ребенка в простынку. Он опять заплакал, громко, требовательно; потом согрелся, умолк. Мать лежала на полу, я время от времени поглядывал на ее красное, мокрое лицо. Она безмолвно улыбалась и вытирала лицо ладонью.
- Облачается раб Божий Алексий... в ризу правды... вот имя Отца, и Сына, и Святаго Духа, аминь...
И некому со мной, одиноким, было петь последний тропарь, и сам я его спел, один, светло и сурово, может, и мимо нот, а может, и верно.
- Ризу мне подаждь светлу! Одеяйся светом, яко ризою! Многомилостиве Христе Боже наш!
Я положил младенца матери на грудь и воздел руки. Сам, весь, превратился в одну хвалебную песнь Господу. Старухи подхватили за мной немудрёный мотив тропаря, дребезжащими голосёнками грянули:
- Яко ризою!.. Многомилостиве... Христе Боже! Наш!
После Таинства Крещения меня старухи угостили блинами из серой муки. Я давно не едал ничего более вкусного. Когда съел последний на моей миске блин, старуха, похожая на тощую девочку, вот на тебя, дитятко, чем-то похожая, длинно, долго поглядела на меня и заплакала.
Среди ночи меня под руки, как Царя, отвели в мою избу. Я задирал голову и глядел на звёзды, пока мы медленно шли, перебирались через наметённые за вечер сугробы. Звёзды походили на маленьких серебряных птичек. Они беззвучно щебетали. Там, немыслимо высоко, в запредельной дали. Никогда мы там, человеки, не будем. Никогда не поглядим на звёзды вблизи. Что есть звезда? Сестра нашего Солнца. Так же пылает, так же тебя жжёт, и сожжёт, если близко подлететь.
Завернул сильнейший мороз. Если и жили в Саблине птицы, они все умерли. Все валяются в снегу окоченелыми комочками. А человек идёт. Ещё бредет. Ещё и на свет рождает человека. Нет предела жизни, кроме смерти одной. Смерть свята. Она Матерь. Она полуночная скорбная Богородица: уводит нас за руку от Мiра людей в небесный Мiръ. Дул ветер, обжигал нам лица: хозяину, он шел праворучь меня, легконогой старухе леворучь, закутанной во тьму платков с кистями, и мне. Я понимал: сейчас отморожу щеки. Вырвал у хозяина из-под цепкой рукавицы руку и закрылся рукавом.
- Што?! Морозяка заел?!
- Да ветер! - выкрикнул я из-за руки.
- Сивер дуеть! Злой!
Мы уже подходили к моей избе.
- А не страшно тут тебе, батюшко?!
Хозяин орал как на пожаре.
Сквозь вой ветра мало что было слыхать.
- Нет! А кого тут бояться!
- Ну! Есть ково! Волков! Ай белах медьведёв! С моря прийдуть!
Я весело махнул рукой.
Вошел в избу. Запер дверь на задвижку. Выдохнул. Пар заклубился, я стоял в клубах густого сизого пара, как лошадь среди метелицы. Чего ради мне бояться? Из озорства, а может, из упрямства я вернулся к двери и открыл её изнутри.
Лёг спать в одежде. Не мог согреться. Надвинул треух на лицо. Дышал в него. Молитву читал. Винно-красное личико младенца, его сперва узко-раскосые, потом вдруг широко раскрытые, иконно-круглые глаза так и стояли передо мной. Плыли во мраке, маячили вспышками радости, делали таинственные круги, возвращались. И запах, запах молока в ноздрях, молозива, коровий, сладкий, бабий запах. Возвращение. Вернуться. Передо мной, как на иконе, встали из тьмы люди, а быть может, уже святые. Моя жена и двое моих детей. Я понял: их нет на свете. Убили? Захворали и умерли? Никто не знал, и я не знал. Один Бог знал. Я ушёл от них на войну. Где моя война? Где моя семья? Где я теперь?
Мне показалось: дверь скрипнула. И шаги почудились в сенях, осторожные, мягкие. В валенках движется тать, а может, в пимах. Я сбросил с лица треух и приподнялся на локтях, слушал. Тихо, тихо двигалось по сеням Живое, жизнь на то и создана, чтобы двигаться, шевелиться, лететь, идти, ползти. И ни ножа у меня под сырою холодной подушкой, ни топора под нарами. Чем буду сражаться?
А нужно ли сражаться?
Я сидел на кровати и таращился во мрак, беременный безумием. Тихо, говорил я себе, тихо, не шуми, ты тут есть и в то же время тебя нет. Застыл, глыба льда. Глубоко, далеко под слоями льда стучало сердце. Стучала жизнь, просила выхода. Выхода не было. Сейчас откроется дверь, и что я скажу, когда увижу?
Кого? Что увижу?
Дверь из сеней в комнату подалась. Я сидел ледяною фигурой. Тихо, очень медленно в избу вошла женщина. Шуба, тряпки, платки, шарфы. Она сбросила рукавицы. Медленно разматывала платки, бросала на пол. Хрипло дышала. Из-под платка в лунном свете, сочащемся из бельмастого окна, сверкнули русые косы. Женщина низко опустила лицо. Что она увидела на грязном полу? Мои следы? Зверьи, птичьи письмена?
- Зачем ты здесь?
Молчит.
- Кто тебя привез сюда, на край земли?
Молчит.
И я, я ведь знаю, кто она. Но сам себе про это молчу.
Нельзя про это говорить.
Никогда. Никому.
Надо с ней говорить. Она ответит. Пусть хоть выдохом, хоть смехом. Хоть заплачет.
- Ты пришла... чтобы...
Я догадался.
- Мне сказать... о моей...
Нельзя договаривать. Нельзя человеку знать часа своего. Никто не знает.
Она вскинула голову и повернула ко мне лицо. Полной Луной забелело оно в холодной, замогильной темноте избы.
- Я очень сильно болею. Страшно болею. Никто не лечит. Нечем лечить. Я далеко на Севере. Потерпи немного. Тебя привезут ко мне. Мы увидимся. На горе себе увидимся. Нам бы...
Опять молчит.
А я слушаю её молчание.
Господи! Только пусть не уходит! Никуда! И никогда!
Слушаю, молчу и дрожу.
- Лучше... не встречаться. Беда будет... и сказать не могу, какая... беда, беда, все мы в беде... мы из неё не выберемся... Я бы хотела... хотела... чтобы ты был героем... героем... но ты не герой... нет... но я так... так тебя... нет, нет, не слушай меня, радость есть, есть... есть радость, большая радость... её только задавили, задушили... ты слышал... ты всё запомнил, всё... прости меня. Прости... если сможешь!..
Я хотел сказать ей: сядь, Душа моя, вон табурет, устала ты, - и не мог.
И она замолчала.
Отвернулась. Ждала. Чего? Слова моего?
Кончились слова. Зачем Душе слова? Она же без слов. Дышит.
Медленно, как и вошла в избу, шагнула к двери, вышла в сенцы.
Я услышал, как отворилась и захлопнулась дверь в ночь, мороз и звёзды.
Когда она ушла, я насовал дровишек в буржуйку, растопил её и вскипятил в медном чайнике воды. Чайником снегу набрал, вот тебе и вода. Чайник засвистел. Я налил горячей воды в таз и поставил таз на табурет. Вода. Нынче не Крещение, а в Крещение вся на свете вода святая. Стоп! А может, нынче-то и есть Крещение? Господи, что это со мной... я счет дням потерял... и отрывной календарь мой, вон он, на стене, на гвозде висит... я забыл, когда листы отрывал... стой, стой, да правда, по новому стилю... Крещение, воистину...
Мороз пошёл по спине. Я будто весь инеем покрылся, а руки стали легче крыльев. Святая вода. Умыться? Напиться? Нельзя! Кипяток! Брось, уже остывает. Я зачерпнул в пригоршню горячей воды и чуть коснулся её губами. Она утекла сквозь пальцы. Утекло Время. Снег, святой снег. Во весь Север - снег. Небесная вода. Метёт метель, курится пурга. Святая метель. Святая пурга. Все страдание растает и потечёт по земле ручьями. Слезами радости. А теперь посмотри-ка в воду, загляни глубоко.
Я встал над тазом, склонился и приблизил лицо к дрожащей воде. Лунные отблески языком небесной свечи гуляли по воде, она вздрагивала, как спина живого прозрачного зверя. Я глядел сквозь Время, оно затаилось передо мной безъязыким зверем. Что я хотел увидеть? Святая вода, всё увидеть хочу! Всю Вселенную! Все звёзды, все Мiры! Но ты, ты дай мне ответ, что там с нами будет! Через года, через века! Молюсь за всех грядущих! Молитвой пронизаю Время! Освящу! Освещу!
Будто меня подкосили, упал я на колени. Близко к воде придвинул лицо. Жарко стало, в пот меня бросило. Отёр лицо руками. Тяжело дышал. От горячей воды поднимался пар и целовал мне лицо.
Я увидел, как со дна старого таза поднимается крылатое существо. Стальные крылья, стальной клюв. Металлический хвост распущен по ветру. Летит. На стальной птице сидит верхом женщина, у нее ярко-красная кожа, нагая грудь выкрашена золотом. Она высоко подняла руки. Пролетает мимо меня. Далеко внизу, под гремящим железным брюхом страшной птицы, из-под земли поднимается чудовищный город. Прозрачные шары домов и дворцов, железные иглы, насквозь прокалывающие рваные нефтяные тучи. Город растет, он живой, и ни одного человека за ледяными надменными сферами, ни одного огня в узких, с зазубринами, убийственных шпилях. Женщина верхом на страшной птице пролетела, и уже никогда не вернется.
Вернусь ли я в это Время, чтобы её увидеть?
Пахло полынью. Здесь тундра, а не степь. Этот аромат - сон. Его наслала святая вода. Сегодня Господь крестился в Иордане. Священник в столице, что меня рукоположил, нашептал мне: Иордан мутно-зелёный, сквозь его воду не увидишь ни прошлого, ни будущего. Так, илистая речонка, водятся уклейки и вьюны, вётлы купают листья в потоке. Я прищурился, наклонился ещё ниже, почти приник щекой к остывающей воде. Она дрожала, как женская кожа, когда её касается ладонь любящего.
- Скажи мне...
Вода дрожала и молчала.
Город исчез. Из воды на меня глядела моя Душа.
Я глядел на неё, в неё.
Она раскрыла губы и сказала слово, но под водою оно не слышно мне было.
Я пробовал прочитать по губам.
У меня получилось: завтра дорога, завтра, завтра, собирайся, мужайся, возьми тёплые вещи, чтобы не замерзнуть, ничего не бойся, поплывёшь по морю, по морю, океану. Завтра. Завтра.
Милое дитятко мое, утомилась ты слушать? Денно да нощно всё говорю, говорю, говорю. А ты всё молчишь. Речь моя - зренье моё. Говорю и вижу всё въявь, вновь. Человек всегда ждёт приказа. Вот приказ прогремит, и человек должен выполнить его. А если не выполнит? Вот армия, и воин присягает: веруй в Бога, сражайся за власть, защищай Родину. Разве это плохо? Святее этого нет ничего в Мiре. Кроме любви. Но сражение за любовь и есть выражение любви; мы все об этом догадываемся, но молчим трусливо. Кого боимся обидеть? Кому не потрафить?
Дунь и плюнь на диавола, человече: он стоит за твоею спиной. Не бойся его. Ты сильнее. Будь с Богом. Это просто. И это труднее всего в Мiре, давно изолгавшемся, оболгавшем не только людей, Время и Бога, но и себя.
Я многое повидал-услыхал в тюрьмах моих. Узник боролся со злом, а ему совали кулаки в нос: ты носитель зла! Человек защищал детей от гибели, а ему вопили в лицо: ты насильник детей, убьём тебя, задушим! Мужик закрыл жену свою своим телом от ножа убийцы, а его лупили в камере в кровь, приговаривая: женоубийца, женоубийца, все равно прикончим тебя, подлюка! А ночью избитый приползал к моим нарам, по полу за ним тянулись кровавые дороги, прислонялся горячим лбом к моей руке и шёпотом просил: исповедуй, батюшка, умираю. И я, закрыв глаза, слушал его исповедь, и о том, как он жену от верной смерти заслонял, и как убийца исчез, дико хохоча, и как плакал над трупом, и как кричали соседи, утром найдя его рыдающим над бездыханным телом. Веришь ли ты мне, батюшка? Бог верит и всё видит! Простишь ли мне, батюшка? Бог простит! Я открывал глаза и прислонял нательный крест к его губам, а вместо епитрахили накрывал главу несчастного краем рваной грязной простыни. И святая епитрахиль это была.
Всё пресуществлялось. Всё преображалось.
Я жил внутри Преображения Господня каждый день, каждый миг.
И благодарил Господа за милость.
Приказ, я ждал приказа. Есть власть, и есть человек, её слуга. Я пребывал слугою Господа, и я смирялся перед властью страны моей: ведь я сам возносил молитвы за здравие владык наших в каждой Ектенье. Приказ раздался с ясного многозвёздного неба. Меня срочно вызвали в Туруханск. Я ехал в телеге, лошадь еле плелась. Ехал в нартах, на собаках: десять могучих собачин в нарты запрягли, впереди сидел каюр с деревянной длинной палкой, позади я, в тулупе необъятном, меховою горой. Собаки сперва бежали дружно и весело, потом вдруг стали, зарычали, сцепились лапами, зубами; передрались. Я сидел и глядел, как псы дерутся. Вот так и люди грызутся; и кто нас разнимет навеки, какой каюр?
Господи, зачем Ты положил горем нашим, на все времена, ненависть и войну?
Ночевали мы во всяких избах, и в зажиточных, и в нищих. И в нищих избенках люди были добрее и теплее, а в богатых срубах - надменнее и жаднее; хорошо, каюр взял с собой в дорогу кожаный мешок с провизией, и время от времени, пока мы ехали, вытаскивал из мешка разную еду и мне, не глядя, через плечо совал: то вареное яйцо, то кусок солонины, то вяленую кумжу. На морозе я не мог угрызть мясо и рыбу: они превращались в камень. Я дрожал от голода и смеялся над собой.
Прибыли. Сгрузили меня с нарт на машину, и градоначальник повез меня в больницу. Чертыхался. Пол-больницы народу умерло от неизвестной инфекции. В городе тоже люди начали помирать. Меня призвали определить болезнь и спасти оставшихся. Господи, молился я, дай сил и вразумления! Вошел в палату, поверх маски оглядел больных. Подошел к одному, откинул одеяло. Рубаху задрал. Так и есть. Красно-розовые пятна по животу. Сыпь. Больной положил руки на лоб и сморщился.
- Голова... раскалывацца... дохтур...
Я укрыл его тощим верблюжьим одеялом и возвысил голос.
- Всё белье в прожарку! Дезинфекция! Дезинсекция! Всей больницы! Уничтожить вшей! Где хотите раздобыть лимонов! Ударные дозы витамина цэ! У кого осложнения на сердце - камфора внутримышечно! Влажная уборка!
- Война ить идет... а нам солдатиков привезли, а у них вши... мы-то думали, изничтожили... в стирку портки да гимнастерки... а тут вон...
Нянечка топталась возле меня, лепетала, слезами заливаясь.
Война. Где-то шла война. Далеко от моего ссыльного Севера. Ан нет, и сюда добралась. И стала косить людей.
- Дохтур... ково паралик разбил... кто ослепши, не видит уж ни шиша...
Я шёл по палате, как вихрь, откидывал и набрасывал на людей одеяла. У всех сыпь. Все стонут.
- Врачи где?!
- Ах, с нами крестная сила... Господи, помози... перемёрли почти все дохтура-то... одне нянюшки осталися...
- Хоть один врач?!
В палату медленно вошёл человек в длиннющем белом халате. Полы халата били его по пяткам. Я подошел и быстро, нахально расстегнул на его груди пуговицы халата, рванул воротник рубашки. Сыпь.
- Почему вы, инфицированный, не ляжете на лечение?!
Доктор покривил рот. Так он пытался улыбнуться.
- Кто же бы их всех... лечил...
Показал на всех глазами. Рукой не было сил показать. Руки у него так и висели, веревками вдоль тела. Он качнулся, как пьяный, я подхватил его, довел до койки и усадил. Сам раздел его, до нижнего белья. Снял с ног его обувь. Закинул ему ноги на матрац.
Подумал и стащил с него сорочку и кальсоны. Он не сопротивлялся.
Я обернулся к нянечке. Швырнул на пол бельё врача.
- Стирка! Дезинсекция! Руками не прикасайтесь! Щётка, совок, ведро!
Нянечка ушла, причитая, уткой переваливаясь с боку на бок.
Больные в палате молчали.
Я понял, почему меня вызвали из Саблина.
Все врачи туруханской больницы умерли от сыпного тифа.
Я боролся с тифом в Туруханске, а время шло. Ход его неумолим. Нам надо это понять и принять; а мы всё восстаем, кричим и плачем, время теряя. Не теряй Времени, дитя; обними его, прижми к сердцу, только сердце способно Время вместить, всё сразу, целиком, навсегда.
Во Времени раздался приказ, предсказанный мне моею Душой. Мне приказ тот сначала по бумаге прочитали, потом устно изъяснили, потом на меня наорали, что тяну время: не медли! сутки тебе на сборы!.. - и я подумал в который раз: почему человеку, что снаряжается в дальний путь, так мало времени отпущено на то, чтобы понять себя, других живых, всех мёртвых и бьющееся сердце свое. Вещи, что такое вещи? Всевозможные ложки, кружки, кисеты, ящики, коробки, тряпки, кастрюли, мешки, узлы и торбы - что это? Человечий скарб кладется в ёмкости, укладывается аккуратно, если время есть в запасе, или швыряется в котомки не глядя, если нет времени. Нет времени! Его и правда нет! Его можно взглядом пронизать. На себя, как мясо на острый вертел, насадить. Ты вращаешься, Мiръ горит под тобой, и ты горишь, а Время твоё на великом огне поджаривается и становится твоею едой. Рыбой твоей, хлебом твоим, питьём твоим, и пьёшь ты Время жадно, хочешь выпить до дна, чтобы больше никогда тебя не мучила жажда. А дна нет. Всё нет и нет. Глубок сосуд, не выпить, не вычерпать. Бездонен. А ты от горя безумен. Радости желаешь! Праздника! Вот он, праздник, тебе: смерть вокруг.
Смерть людей. Смерть твоя.
Кругом смерть. Всюду смерть.
Так зачем ты спасаешь от смерти людей? Разве не благо она? Разве не прекращает страдать человек, обнимаемый ею крепко и цепко на краю бытия, уводимый ею?
Я собирался быстро, я уже умел быстро собираться в дорогу. Заплечный мешок, кружка, ложка, ножик, и в путь. Ножницы - нужны. Скальпель - нужен. Шприц, игла - да. Крест нательный - на мне. Идёт война. Нет у меня оружия. Моё оружие - Бог. Самое мощное. Самое победное. Навылет. Умри и возродись. Я тоже сражаюсь. Моя правда? Нет. Божия правда. За Ним иду. Его проповедую. Им излечиваю! Им спасаюсь.
- Ну как, батюшка врач, готов к труду и обороне?! Эк, шибко как вещички-то сложил! Хвалю! Давай в авто шуруй! Опять на севера помчим!
Я застыл с дорожным узлом за плечами.
- Как на севера? А я думал...
- Думай, да башку не сломай! Приказано в Дудинку тебя доставить!
Я закрыл глаза и представил себе карту, и извивы рек по ней, и синий узор Енисея, и устье его широченное, и в памяти моей всплыло это название, порт Дудинка, да, точно, смешное такое имечко, детское. Дует дитя в дуду. Песню играет.
- А там что... в больнице работать?
Я знал, что веселый молодой, в лисьей ушанке, охранник ответит.
- Не-е-е-ет! На корабль погрузят! На ледокол! Ну так нынче и все ледоколы в стране воюют! И поплывёшь, горемычный! По морюшку-окияну! На запад! На пересылку! А там уж начальство решит, куда тебя заткнуть, и надолго ли! А может, и на всю жизнюшку!
Я плотно закрыл за собою дверь, и мы оба потопали по хрусткому снежку к машине. Ярилось Солнце. Заливало нас ледяным жёлтым молоком. Краснощёкий охранник, смеясь, с лязгом распахнул дверцу.
- Садись, доктор! Как царя повезу! Тепло в таратайке у меня! Еду-то прихватил? А то у меня с собой и чекушка есть! Оно, конечно, в дороге ни-ни, а на привале - можно! Да и закусь есть! Корюшка копченая! Ум отъешь!
Я втиснулся в кабину. Закрыл глаза. Увидел в незрячей мгле икону Господа Христа. Спас Нерукотворный. Господь широко, строго, необъятно, всем широким холодным окоёмом глядел на меня. А зрачки его, в сердцевине широко подо лбом расставленных глаз, горели ночным пламенем. Скорбный рот дрогнул. Через миг еле заметно, чуть улыбнулся. Улыбкой Он меня благословил и укрепил.
Проехали много ли, мало ли, не помню. Остановились среди снегов. Охранник не заглушил мотор, он так и тарахтел на морозе. Парень деловито ощупал на бедре кобуру, вынул из торбы чекушку и завернутую в промасленную бумагу корюшку, отпил из бутылки, крякнул и обернулся ко мне, смирно сидящему сзади.
- Держи! Твое здоровьишко, доктор! Не болей!
Я подержал в руках чекушку, погрел.
Глотнул.
Взял из рук охранника кусок копчёной жирной корюшки. Ел.
Ел и плакал. Слёзы капали на рыбу, поливали её.
Стар я и печален стал, что ли, так спокойно и презрительно думал я о себе.
Водка огнём разлилась по телу, и я ощутил, что промёрз. Согревался.
Так, в пару крупных глотков, мы и допили охранникову чекушку. Доели корюшку. Охранник выдохнул водкой и тихо, прижмурясь, как кот, засмеялся.
- Я тебя до первого станка довезу. А дальше не поеду. Дальше - на собаках! Хорошо ты укутан? Не околеешь?
Я не мог говорить, кивнул, и он мой кивок в зеркале увидал. И опять смеялся.
- Живучий ты, доктор! Дай Бог тебе здоровья!
Сказал и прикусил губу; я в зеркале видел.
Про Бога ему нельзя было вспоминать. Бога власти давно запретили.
Зачем же власти держали меня при себе? Почему сразу не расстреляли?
Кто я такой был для них, сильнейших? Может быть, тоже сильнейший?
А равный равного ведь не убивает, так?
Что ты врёшь всё, сказал я молча сам себе, что сочиняешь, равный, неравный, захотят - и убьют, и делу конец.
Пронеслось пространство, и укатилось Время. С ним машины, собаки, лошади, телеги, олени. Привезли меня в Дудинку. Прямиком в порт. В длинном, как рыба, доме на берегу, у самой кромки зальделой воды, накормили, напоили. Я ел и пил как во сне. Мне снилась моя жизнь. Я хотел совершить в ней подвиг. Хотел геройства. Хотел умереть в криках и знамёнах, с боем и славой. Хотел на войну. А вместо войны меня держали взаперти. Слава Господу, я тут, в подзвёздной тиши, под изумрудными веерами и красными кружевами полнощного Сиянья, делал свое дело: лечил людей.
Мне кинули: сиди и жди, теперь уже скоро. Пришвартовался ледокол, меня к нему повели, спустили с борта трап. Я поднимался по трапу на корабль, мой мешок бил меня по спине. Навстречу мне двинулся моряк. Бушлат расстёгнут, бескозырка сдвинута на затылок. Уши на морозе красными лампами горят. Я понял: не капитан, простой матрос. Он протянул мне руку, и я пожал её.
- Мы заключённых везём, с Чукотки и Новой Земли, на пересылку. Вот вас захватили, и ещё четверых, тут. Вы не в трюме поплывёте, в каюте, с этими четырьмя. Жратвы особой нет. Запасы для команды. Разносолов не держим. Нам приказано доставить вас на остров Анзер. Плыть долго. Не виноват, ежели оголодаете. В трюме народ помирает, мы в море выбрасываем, рыбам. И даже в мешок не зашиваем, мешков нет. Есть орудия и снаряды. И то хорошо. Всё понятно?
- Всё.
- Ну и лады.
На палубе никого, кроме нас. Морячок махнул рукой: мол, иди вон туда. Я пошагал.
Вошёл в тесное железное брюхо корабля, увидел отворённую дверь и шагнул туда.
На железных койках, привинченных громадными болтами к стенам каюты, сидели люди. Четверо. Они воззрились на меня мрачно, тягуче, липко. Сухопарый мужик с серебряной фиксой во рту, в закатанных до колен штанах показал мне на рядно, неряшливо расстеленное у стены.
- Вот здесь спать бушь.
Мужик в волчьей шубе до пят ласково пояснил:
- Все четыре койки заняты. Не обессудь.
Я молча перекрестился и сбросил с себя тулуп. Потом снял белый халат. Узники увидали мою бывалую рясу.
- Ух ты! Да ведь Бога-то никаково нет!
Я молчал.
Потом выпростал из-под рубахи нательный крест и навесил его поверх рясы. Ладонью к сердцу прижал и так ладонь держал, будто крест Господень есть малая птичка, и только я руку отпущу, взлетит и улетит, и поминай как звали.
Медный крест, крупный, грубо сработанный, под ногами Распятого череп Адама, зелёная накипь Времени на потертой красной меди проступает, иззелена-сизая, ледяная, вот она, смертная пытка, и Он её претерпел, перенёс, за нас за всех, да воскреснет Бог и разыдутся враги Его, и да бежат от лица Его вси ненавидящии Его, яко исчезает дым, да исчезнут... яко тает воск от лица огня...
Я не замечал, дитя мое, что я уже читал Давидов псалом вслух, а все люди, четверо, сидят и слушают, и думают, каждый о своём, и глядят на меня исподлобья, гадают, враг я или друг, священник я истинный или маскарадное то одеянье, я подсадная утка, а может, я английский шпион, а может, я тевтонский прихвостень. Кто я? Зачем я здесь?
Я закончил молитву, взял в пальцы крест и поцеловал его.
И каждого в каюте осенил крестным знамением.
Трое мужчин робко перекрестились. Мужик в волчьей шубе пожал плечами.
- А што же твой Честный Животворящай Крест, твой Бог нас не спас? А на мученья поволок? Где Он, твой Бог? Где спит-почиват?
Я молчал.
- Што молчишь? Нечево сказать?
Я молчал.
- Ну давай, што тушушься! Ты жа поп! Балакай проповедь твою!
И тогда, девочка моя, я глубоко, до дна лёгких, вздохнул и выдохнул:
- Все людские страдания - Божии испытания. Они посланы нам, чтобы мы их приняли, их переносили, за них благодарили и их преодолели.
Узники молчали.
А что было говорить.
Мы плыли.
Плавание.
Мы рыбы.
Люди, они рыбы. Они плывут, носами разрезая воздух.
Мы плывём во Времени, и мы уже длинные, железные небесные рыбы, и мы стальные глубоководные рыбы, несём в брюхе смерть и других людей, так железо отныне беременно людьми.
Люди населяют корабли. Люди завидуют рыбам. Люди хотят дышать водой и этому не могут научиться. Люди не могут плыть там, где плывут тяжёлые небесные птицы, растопырив железные крылья, а могут только набиться в животы серебряных небесных птиц и там задыхаться от нехватки воздуха, от страха разбиться.
Мы плыли. Корабль качало то с боку на бок, то с носа на корму. Бортовая качка, килевая качка. Я плохо переносил морскую болезнь. Утешал себя: я привыкну, привыкну.
Мы плыли. Что мы ели? Я не хотел есть. Я ничего не хотел.
Почему моя жизнь принадлежала другим людям? Они мне приказывали, и я плыл. Приплыву, мне прикажут сойти на берег. Мне прикажут умереть, и я умру. Почему я их слушаюсь? Я должен восстать.
Если я восстану, меня убьют.
Ну и пусть убьют!
Но я хочу жить.
Зачем тебе такая жизнь?
Я лежал на полу, около меня садился на корточки мужик в волчьей шубе, закуривал папиросу, предварительно смяв её пальцами и зубами, и просил:
- Расскажи, поп, о Боге.
Я рассказывал.
Говорил очень мало. Скупо. Не мог. Тошнило.
Я видел - люди в каюте мною развлекались.
- Его распяли.
- Ево правда распяли? Хах, ето больно!
- Потом Он воскрес.
- Чёрт, воскрес! Етово быть не может! Ищо нихто не воскресал.
- И верно, - подавал голос лежащий на верхней правой койке мужик, сверкая в ухмылке серебряной фиксой, - помёр так помёр, што ето за враньё, брехня.
- Воскрес.
- Врёшь ты всё!
- Воскрес.
- Ха, ха!
- Воскрес! На третий день!
- Ха, ха, ха!
Мужик со шрамом через всю рожу, лежащий на нижней левой койке, бормотал невнятно, как пьяный:
- Ты, ты... совесь-то имей, небылицы в лицах... што чешешь языком... язык твой без костей...
Я умолкал. Отворачивал лицо к стене каюты. Кусал губы.
Килевая качка. Мы то взъезжали на гребень волны, то валились вниз стремительно, так катятся салазки с высокой снеговой горы - прямо во тьму, во смерть. И разбиваются.
- Ну, чо, чо ты замолк. - Это с верхней левой койки бурчал одноглазый мужик; глаз ему выкололи ножом в драке; и я тогда не знал, что пройдет великое Время, и я тоже глаза лишусь, ничего я не знал, кроме того, что мы плывём. - Валяй, сочиняй! Скукота тут, с ума спятим. А ты про Бога валяй, романист. Антиресно веть. Ну, воскрес, и што? Што дальше-то приключилось?
- Пришли жёны... мvроносицы... ко гробу Его... а там на камне Ангел сидит.
- Ишь! - Это четвёртый наш мужик, с нижней правой койки, зубы как расчёска, восклицал, будто икал. - Ишь! Аньдел! А ты, врун, вот скажи, ты хоть разок Аньдела видал?! А! Молчок. Не видал! То-то! Што молчок, зубы на крючок?!
- И говорит Ангел жёнам: нет Его во гробе. Воскрес!
- Вот заладила сорока Якова. Воскрес, воскрес! А видел-то ево хто?!
- Ученики.
- Ишь! Он ищо и учителем работал! А жалованье ему хто платил?! Али, хошь сказать, трудился даром?!
- Ну, ты, сказитель, сказку-то дальше вали, не спи. Мы тебе кильки за сказку дадим! У Федьки в сапоге есь, солёна. Охрана оделила.
- Апостол Фома не верил. Он к Фоме пришел и пробитые руки протянул. И сказал: вложи персты свои в раны Мои.
- Ха! Ха, ха! Это и я так-то могу! Израню себе ладони скобой! Кровища потекёт! И буду теми ручонками Фомке тому в рожу тыкать! Да рази таким-то фокусам поверишь!
- Фома поверил. А Господь сказал...
Я умолкал, дитя, и плакал.
Глядел в железный потолок каюты. Горячие слезы текли по холодным щекам.
- Што нюнишься?!
- Болтай языком! А то кильки не получишь!
- Сказал: блаженны не видевшие и уверовавшие.
- Штой-то больно мудрёно балакашь!
- Да нет, Михайло, ну што ты ево заклевал. Он жа поп. Он жа и должон про веру.
- Верь, не верь, всё одно помирать.
- С верой вроде бы легше считаецца.
- А ты почём знашь? Помирал рази уже?
- Хто из нас не помирал. Все помирали.
- Я вот не помирал.
- Да хошь бы один вернулся оттедова! Да разъяснил нам всем, дуракам, што там есть.
- Ничево там нету.
- А ты почём знашь?
- Почём, почём, в морду кирпичом.
- Глянь-ка, поп ревёт!
- Как младенец. Малодушнай.
- Ну, давай, поп, пореви! Оплачь судьбину! А мы подрыхнем. Спать охота. Укачиват.
- Да, колыхат знатно. Все кишки наружу!
- А хто знат, сколь ищо плыть?
- Нихто не знат. Плыви, и всё.
- А потом сдохнем, и выкинут за борт.
- У нас поп есь, отпоёт.
- А может, он наперво сдохнет.
- А мы не попы, отпевать не умем.
Так плыли мы и плыли, во брюхе великанской железной рыбы, подобно Ионе во чреве кита, и я хотел увидеть, что нас ждёт, и закрывал глаза, и молился, и тщился рассмотреть фигуры и знаменья, восстающие со дна глазного, со дна неведомых времён, - и не мог; дребезжание ледокола, холод железного пола, когда из-под спины вбок, как змея, теряющая шкуру, уползала грязная рогожа, заслоняли чаемый Мiръ Невидимый; и я молился только об одном: Господи, дай ты мне силы ещё на земле ли, на море, посредине пучины бездонной, пожить, и да, Господи, вот из этой железной кружки, путевой подружки, угостят, ведь не звери, ведь люди, горячего, дымного, страшного, вечного чаю ещё попить.
Что там колыхалось, в том море? Что я помню? Чего не помню, дитя мое, и зачем я рассказываю тебе про неслучившиеся подвиги мои? Все неслучившееся неслучайно. А то, что случилось, - задумано Богом вдвойне и втройне: ты становишься перед Его великим, необъятным зеркалом, ты теряешься в его просторе, в его Вселенском размахе, ищешь себя глазами, где же это я, в каком уголку Мiра Божиего отразился, ведь это только диавол не отбрасывает тени и не имеет отражения, а всякая тварь имеет; и вот, море то северное, великанское, тот, усеянный плахами плывущих гигантских льдин, Северный Океан, тот солёный Северный Космос, его же довелось мне пройти-измерить судьбою, пройдя из конца в конец, - эта сумасшедшая вода, что качала, качала нас в колыбели, и мы сами не знали, родились мы, умерли уже или не родились еще, довременная качка, с боку на бок, с носа на корму и обратно, изводила нас и убаюкивала нас, и мы, четверо мужиков и я грешный, грешно мечтали о подводном царстве, мечтали утонуть и перестать страдать; открывать настежь мёртвые глаза там, где медленно, важно плавают яркие полосатые рыбы, где лежат на дне ржавые, обросшие водорослями и ракушками скелеты некогда красивых живых кораблей, думать без мыслей, слушать без ушей, плакать без слёз, радоваться без радости. Спросишь: а разве такое возможно? А кто поручится, что там, куда мы все уйдём, останутся при нас все наши чувства? И все пять привычных, и страшное шестое, то, что заставляет нас глядеть в колодцы Времени и видеть там Невидимое, и слышать Неслышимое, и смертно любить Бессмертное?
Как рассказать тебе о смерти? Ты такая маленькая, такая юная. Ты не поймёшь даже самого этого слова. Посмеёшься. Плечами пожмёшь. Мы всё время думаем о ней, но вслух её имени не произносим. Мы пережили в Северном Океане морской бой и переплыли смерть. Я молился, и, возможно, случилось чудо. Наш ледокол, сторожевик, и номер военный белилами боцман намалевал у него на борту, чудом отстрелялся от вражеского тяжёлого крейсера. Ледокол пострадал, да, а на крейсере палили в нас, да всё мимо; Господь отводил от нас вражеские торпеды. Раненые, с пробоиной, мы ушли вдаль, да и крейсер повернул прочь, мы наблюдали. Битва вспыхнула и оборвалась, как во сне. Я молился за героев, а пробоина пришлась выше ватерлинии. Матросы откачали воду из трюма насосом; людей, кто в трюме плыл, спасли, но иные захлебнулись, их вышвырнули в море. Капитан велел утяжелить ледокол по здоровому борту. Я спустился в трюм. Лучше бы я не спускался туда. Я привык к виду людских страданий, а таких искажённых болью лиц я не видел ни в одном госпитале, ни в одном своём лазарете.
Деточка моя, я проповедовал им. Иногда слово это бинт, останавливающий буйную кровь, это блаженная марля, пропитанная нежным пахучим маслом. Я говорил и сам себя не слышал. Понимал: надо просто говорить, говорит, и легче станет. Пробоину заткнули старым брезентом; вот так и я, собой затыкал бреши и сквозные раны в людской плоти и людских душах.
Бой забылся и не забылся. Память - зеркало; в ней плывет плывет и гаснет, уплывает, мерцая, а потом зеркало поворачивают чужие незримые, сильные руки, и как вспыхнет в дальнем углу тьмы упрямый, торжествующий свет! Я состоял из мрака и света, и, говоря Божие слово, я понимал всю малость мою и весь грех мой. Беда человека в том, что трудно, а бывает и невозможно подняться ему по золотой лестнице Иакова от тьмы - к могучим Божиим лучам. Человек смеётся над собой, смеётся над Богом, не верить легче, чем верить! Вера есть труд! А душа, что ж, она так устаёт, она так часто хочет отдыхать. Вечного отдыха хочет.
Закрыть глаза... и не проснуться... зеркало - разбить...
Душенька...
И был день.
Пришвартовались. Серая вода, цвета тюленьей кожи, плескалась возле громадных камней. Камни гляделись великаньими черепами. Кладбище великанов, острый запах йода. Далеко, в сизом мареве, парил крылатый призрак монастыря. Сошли на берег по крутому трапу. Я качался от слабости. Капитан присвистнул, меня узрев: эка ты исхудал, мил человек! Я услышал его возглас словно изнутри зеркала. Я был бесплотным зеркалом, отражавшим Север, монастырь, причал, кнехты, Мiръ, жизнь, невольников, обитателей трюма, моих спутников, немытых-нечёсаных, и мой зеркальный острый, кинжальный зрак врача безошибочно определял, кто чем болен, и ставил диагнозы: у этого желтуха, у этого стенокардия, у того цинга. Я не мог скальпелем вырезать страдание.
Я ничего уже не мог; прежде чем нас погнали в барак, нас обыскали, и у меня из дорожного мешка изъяли мой контейнер с хирургическими инструментами и верным шприцем.
Теперь я не мог никого спасти при помощи железа и стекла.
Я мог только молиться за страдальцев.
Пока мы шли в наше новое жилище, я читал моим мужикам, с кем я переплыл целую жизнь, духовные стихи.
Не надейся ты на щедрость
На людскую, на чужую:
Может, с голоду помрёшь ты,
Околеешь под забором.
Не надейся ты, несчастный,
К смерти злой приговорённый,
Что помилуют, отпустят,
Обласкают и прославят!
А надейся ты на Бога,
Лишь на Бога ты надейся;
Всей душой поверь ты Богу,
Возлюби Его всем сердцем.
Это Он тебя согреет,
Это Он тебя спасает;
Он тебе протянет руку,
Уведёт в обитель счастья.
Там ни боли, ни страданья,
Там Господни лишь объятья:
Упади ты на колени,
Поцелуй стопы святые,
И тебе Он улыбнётся,
И к тебе чуть прикоснётся -
Станешь Ангелом крылатым
Перед Господом Распятым.
Не знаю, откуда брались во мне эти слова, но я их бормотал, и легче становилось и мне, и тем, кто их слышал. С моря налетал сильный ледяной ветер и валил с ног. Мы добрели до серого сарая, моих спутников повели дальше, куда, я не узнал никогда, а меня одного оставили стоять напротив двери.
- Што стал! Открывай! Да входи!
Я осторожно толкнул дверь. Она подалась под моей ладонью.
Я переступил порог и остановился.
Я увидел.
На груди у того, с кем я побывал во вражьем плену, лежала моя Душа.
Она лежала на его груди, подобно приблудной кошке.
С ужасом она глядела на меня.
А доктор, мой собрат, фамилию его я запомнил, имя тоже помнил отлично, обернул ко мне лицо и тоже меня увидел, и узнал.
Я видел, что узнал.
Мы, все трое, узнали друг друга.
- Ну, здравствуй, моя жизнь.
Это я сказал.
Это я сказал? Или он сказал?
А может, это она прошептала? Душа моя?
НИКОЛАЙ
Я не благородных кровей. Я не рыцарь. Я не давал обетов и никогда не клялся ни в чём. О, нет, конечно, клялся. Клятва Гиппократа! Клянусь Аполлоном-врачом, Асклепием, Гигиеей и Панацеей и всеми богами и богинями, беря их в свидетели, исполнять честно, сообразно моим силам и моему разумению, следующую присягу и письменное обязательство: считать научившего меня врачебному искусству наравне с моими родителями, делиться с ним своими достатками и в случае надобности помогать ему в его нуждах; его потомство считать своими братьями, и это искусство, если они захотят его изучать, преподавать им безвозмездно и без всякого договора; наставления, устные уроки и все остальное в учении сообщать своим сыновьям, сыновьям своего учителя и ученикам, связанным обязательством и клятвой по закону медицинскому, но никому другому.
Но никому, слышите, другому. Моя Душа больна. Тяжело больна. Смертельно. Не отрицаю. А толку отрицать? Я же вижу. Лечение! Давай, не давай никчёмные клятвы, всё равно она умрёт. Если она умрёт, умру и я. Ах, какие сантименты! Глядите-ка, люди! Дивись, честной народ! Любовный хороводят хоровод! И где? В неволе!
Тьфу, неволя. Вся жизнь неволя. Мы никогда себе не принадлежим. И правда, зачем себе принадлежать? Жизнь слишком мала, чтобы постоянно услаждать желудок и вкусовые сосочки, сладко есть-пить, а потом оглянуться вокруг и застыть от ужаса: а что же я сделал в жизни, кроме того, что жрал, ел-пил и спал?
Врач, он неусыпно делает святое дело. Святое? Да самое обычное. Отводит от больного голыми руками смерть. Ну, не голыми, в резиновых перчатках. Душа моя, я не могу вколоть адреналин тебе под кожу! Я узнаю, есть ли тут, в этом гадюшнике, лазарет. Должен быть! А если эпидемия! А если чума! Куда чумных будут девать!
Делов-то. Расстреливать и сжигать. На громадных кострах. Там, за Голгофо-Распятским скитом. На морском берегу.
А вот он, вот. Тащится. Собрат! Кой бес его сюда принёс! За надобой какой!
Не думал, не гадал. Встал передо мной, как лист перед травой.
Душа моя, как ты себя чувствуешь? Хорошо ли спала? Руки твои холодные. Дай дыханьем погрею.
Она, сидя на грязном ящике из-под картошки, протягивала мне руки. Я мял их и дышал на них.
Сидел перед ней на корточках и смотрел на неё снизу вверх.
Этот, доктор Алексей, святой батюшка, язви его, подходил, как на ладье подплывал. Медленно и важно. Ряса по земле волоклась.
Кому и на кой в Аду эти ряженые.
- Доброе утро! Бог помощь во всём! Как спалось?
- Живы, как видите.
Улыбался юродиво.
- А я, знаете, коллега, кое-что сделать сегодня решил.
- Да что вы говорите? Рад за вас!
Душа моя глядела вглубь меня, и синева ее радужек наливалась тёмным гневом.
- Зачем вы так с ним...
Кашляла. Задыхалась.
Астма. Тяжелейшая форма.
Я бы мог. А что! Пересечь ветви блуждающего нерва в области правого лёгкого. Опасно, да. Но эффект! Он может быть. Удалить лёгочные узлы блуждающего нерва и в левом лёгком, а почему бы и нет. Симметрично. Дикие спазмы у неё точно исчезнут. И эмфизема её не погубит. А так она однажды задохнётся, и... Что "и"? И я - за ней?
А можно сделать... да, вполне... резекцию внутренней ветви верхнего гортанного нерва. А у меня тут ни оптики под рукой, а мне увеличение надо большое, желательны Цейссовские стеклышки, ни микроинструментария. Проклятье!
- Я решил попроситься врачом в здешний лазарет.
Я грубо бросил руки Души моей прочь, как если бы это были два надоевших котёнка.
Встал, разогнул занемелую спину и невежливо уставился на собрата.
Бородища у него за эти годы выросла: целый лес. И поседела, это понятно.
Куда мы денем Время? Загоним под лавку? Сожжём на костре?
- Хорошая мысль. - Я изо всех сил старался быть вежливым, воспитанным. - Всегда будете при жирном куске. По крайней мере с голоду не помрёте. Как...
Я обвёл насельников барака бешеным взглядом. Не захотел добавить: как мы все.
Он и так понял.
Очки с круглыми совиными стёклами дрогнули на его большом носу. Борода тоже задрожала. Он сдёрнул очки и растерянно, судорожно стал протирать их складкой рясы. Опять нацепил на нос.
- А вы? Вы-то почему не хотите лазарету предложить свои услуги? Ведь люди же тут. Живые.
- Мы с вами тоже живые.
- Именно поэтому мы должны...
- Мы ничего никому не должны. Помолитесь вашему богу, если вы правда верите в него.
Его глаза, из-за круглых детских стёкол, бегали, шарили по моему лицу, пытались доискаться во мне того праведного, что сквозило, дышало за грубостью и глумлением.
- Зачем вы так...
Душа моя тихо поднялась с ящика из-под картошки и тихо прошла мимо нас.
Её захлёбный, дикий кашель я услышал уже далеко от барака.
И он - тоже услышал.
- Она больна. - Он шагнул ко мне ближе. - Тяжело больна. Её ни в какой лазарет не положат. Оставят умирать так. Как всех. Как нас самих. Если мы с вами будем там... и будем исполнять наш долг... и будем трудиться... как раньше в мiру трудились, как на войне трудились... мы её спасём. Поймите это! Спасём. Вы... давали ведь клятву Гиппократа...
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. Я не дам никому просимого у меня смертельного средства и не покажу пути для подобного замысла; точно так же я не вручу никакой женщине абортивного пессария. Чисто и непорочно буду я проводить свою жизнь и свое искусство. Я ни в коем случае не буду делать сечения у страдающих каменной болезнью, предоставив это людям, занимающимся этим делом. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого намеренного, неправедного и пагубного, особенно от любовных дел с женщинами и мужчинами, свободными и рабами.
- Свободными и рабами...
- Что, что?! Вы о чём...
- Я буду далёк от любовных дел с женщинами и мужчинами, свободными и рабами!
Я заорал так, что сам чуть не оглох.
Доктор отшатнулся.
- Господи помоги...
- Пусть Он лучше вам поможет!
Он положил руку мне на плечо.
Я хотел вцепиться ему в бороду, но удержался.
- Да. Мне. Я пойду к начальству. Я... попробую...
- Вас расстреляют, дурак вы!
- Что бы при лечении, а также и без лечения, я ни увидел или ни услышал касательно жизни людской из того, что не следует когда-либо разглашать, я умолчу о том, считая подобные вещи тайной. Мне, нерушимо выполняющему клятву, да будет дано счастье в жизни и в искусстве и слава у всех людей на вечные времена, преступающему же и дающему ложную клятву да будет обратное этому!
Я сначала не понял, что он произносит последние слова клятвы Гиппократа.
- Славы захотели?!
Он снял руку с моего плеча, и огонь вырвался из-за круглых велосипедных стёкол его очков и ожёг мне лицо и внутренности. Я даже обрадовался: я ещё не разучился чувствовать.
- Как вы можете. Я иерей. Слава для меня - гордыня. Один из семи смертных грехов.
Там, далеко, у самого берега моря, в виду ледяных волн и оглушительно визжащих чаек, задыхалась Душа моя.
Зачем перечислять наши общие невзгоды и лишения? Они слишком мелки и слишком позорны и слишком обыденны, чтобы их вертеть в памяти, как бабьи перстни и серьги в иссохших пальцах, и жадно любоваться ими. Бараки тут были и совместные, бабы и мужики вперемешку, и раздельные, как старинные гимназии. Мы ютились в совместном. Бабёнки сновали взад-вперёд, после отбоя валились наземь, как снопы, и мужской пол ночами кряхтел от вожделения и к бабёнкам под бочок упрямыми брёвнами подкатывался. Обнимашки, целовашки. До последнего иной раз доходило. Зрители роптали, матерились, а я молчал. Не преступление это, а обычная природа человеческая! Что в ней такого, в природе. Жук любит, кит любит, волк любит, клоп солдатик любит. Все любят. И человек любит. То, что он любовью назвал совокупление, тоже не злодейство никакое. Соединение тел неизбежно. Не только для продолжения рода. Внутри слияния прячется наслаждение. Вот по-церковному как раз наслаждение, радость от соития и есть грех наибольший, а когда мужик и баба сочетаются для зачатия - нет, не грех. Утилитарность, нужность их придуманным Богом приветствуются! И они называют это чистотой. А всё остальное - грязью. Я согласен вываляться в грязи, только бы быть свободным от этих придумок, от этих гремящих цепей. Правду на плакатах размашисто пишут: РЕЛИГИЯ - ЯД, БЕРЕГИ РЕБЯТ!
Я сначала редко беседовал с моим доктором в рясе. Отворачивался от него. Я видел, он меня ревнует к Душе моей. А она загибалась. Точнее сказать, погибала. Ещё точнее - умирала, стремительно и бесповоротно. Бесповоротно всё! Это мы давно знаем. Доктор сам ко мне прибивался солёным прибоем. Белопенная борода, глаза цвета холодного моря. Он дышал лютой зимней водой, от него пахло водой, солью, рыбами, смолой. Почему смолой? Он тихо признался мне, что втихаря от охраны ладит лодку.
- Как вам это удаётся, коллега?
- Я выхлопотал себе ненаблюдаемый досуг.
- Разве такое возможно?
- Я, - он улыбался сквозь белые нити бороды и усов, - я теперь работаю в лазарете.
- А! Исполнили свою мечту! То-то я гляжу, вы раньше всех встаёте, до переклички, и поминай как звали. И что, много больных?
- А вы как думаете, в таких немыслимых условиях? Коек мало, а больных тьма. На полу кладём.
- На полу... Чем тогда барак отличается от лазарета?
- Вы правы, коллега. Ничем. Нет, впрочем, отличается. Лекарствами.
- И операции делаете?
- Делаю.
- Хотите сказать, инструменты есть?
- Начальник лазарета привёз с материка. Целый чемодан. Не хотите присоединиться? Мне помогать? Я с ног валюсь к вечеру.
Я для виду помолчал и тихо сказал:
- Хочу.
Да, я страшно ревновал его к Душе моей. Душеньку гоняли на тяжёлые работы, женщин отряжали связывать напиленные в ближнем лесу брёвна в плоты; после заката Солнца она не приходила в барак - приползала, и её синие глаза заслонялись лунными белыми веками, цвета роковой приказной бумаги, цвета близкого снега. Снег и лёд царили тут всё время. Время, время. Доктор то и дело подходил к моей Душе, она, если лежала на спине, смущённо переворачивалась на живот, поднимала сутулой горкой плечи, утыкала лицо и рот в сложенные лодочкой ладони и кашляла так, что люди в бараке начинали роптать: вышвырните вон эту ведьму! Кто-то крикнул однажды визгливо: вот ужо попрошу часового тебя пристрелить! Доктор в два шага достиг визгуна и произнёс отчётливо и веско: а я просить никого не буду, сам тебя зарежу. Чем, завизжал ледащий мужичонка, похожий на блохастого потрёпанного кота, ну чем? Скальпелем, холодно бросил доктор и опять пошагал к Душе моей, я хирург.
Хирург, хирург, он хирург, хирург... поднялся шёпот и ропот, волнами по всему выстывшему медвежьему бараку, он хирург, у него нож, у него иглы и ножницы, он тебя в два счёта раскромсает, у него всё что хочешь в кармане! Замолкли. Больше никто не вопил, когда Душа моя сотрясалась в изнуряющем кашле.
Доктор привёл меня в лазарет. Начальник лазарета окинул меня всего, быстро и подозрительно, острыми крохотными свинячьими глазками. Оценил. Прощупал. До костей. Рентген, подумал я брезгливо. Кивнул круглой кеглей-башкой, и три подбородка колыхнулись колючим студнем.
- Всё умеете?
- Всё, хоть и, - я мгновенно стрельнул глазами на доктора, - не Господь Бог.
- Хвастаете!
- Ну, в деле вы меня всегда увидите. Хоть каждый день. Тяжёлые есть?
- Да ведь одни тяжёлые. Ещё и с Большой земли привозят. Везут, везут. На материке, что ли, госпиталей не хватает.
- Война. И когда закончится?
Доктор подал голос.
- Никогда.
Я обернулся к нему. Так царь глядит на жалкого смерда.
- Так-таки никогда? А что же тогда было до войны?
- Другая война. Просто она шла там, где мы не жили никогда. И не воевали там никогда.
Начальник пошёл по коридору, мы за ним. Он сапогом, чтобы рукою не хвататься за дверную ручку, открыл дверь в палату. И мы вошли.
Старое монастырское здание. Комнаты под сводами. Раньше тут по стенам рассыпались цветные росписи, туда-сюда ползли фигуры, богомазы наводили красоту. А теперь всё было гладко, до пустоты, выбелено; да известь потускнела, погрязнела, по ней полосами шли потёки, будто в палатах то и дело шёл дождь.
Хорошо бы хоть краем глаза глянуть на ту, прежнюю жизнь. Люди что тогда, что сейчас одни и те же. Одинаковы. Все мы из одного теста слеплены. Неважно, когда тебя мать выродила: тысячу лет назад или вчера. Ты человек, и это главное.
На койках валялись люди, люди, люди. Они все смотрели на нас. Искали глазами наши глаза. Они глазами искали надежду. Хоть малюсенькую. Как человек жаждет жить!
В палате, битком набитой людьми, больные лежали на кроватях, раскладушках, на старых сундуках, на составленных рядком табуретах и на полу, поднялся нестройный шум.
- Новый доктор...
- Дохтур, дохтур!.. А вот вы взрезаете ли грыжу! У меня, помимо огнестрельного, грыжа, знаете ли... умучила...
- Доктор... спасите... задыхаюсь... голоса нет...
Я подходил к койке. Женщина клала птичью лапку костлявой руки на забинтованное горло. Наружу, из-под повязки, выходил резиновый дренаж.
Рак гортани. Я уж тут ничего не поделаю.
Да. Я точно не Господь Бог.
Начальник лазарета обвёл нищее царство больных толстой рукою, жестом властным и победным.
- Выздоравливают, выписываем. Безнадёжные... безнадёжных...
- Отвозим на катере далеко в море и выбрасываем за борт, - докончил я за него.
Больные слышали. Кто-то на далёкой койке тихо заплакал.
- Ну вот, на войне не плакали, а здесь ревут.
Важно было притвориться сердитым.
Если ты сердишься, значит, ты силён.
Я быстро обошёл палату. Около тех, кто на полу лежал, я садился на корточки и так слушал пульс, смотрел состояние слизистой - веки, язык, и проверял рефлексы.
- Тебя, тебя, тебя - сегодня на операцию!
Пальцем тыкал людям в грудь, как в школе указкой - в таблицу.
- А это не больно?!
- Жить вообще больно. И опасно.
Доктор бороду потеребил. Снял очки и прикрыл ладонью глаза. Так стоял.
Я бросил ему:
- Ваш - с грыжей, вон те, с гнойным огнестрельным и со свищом двенадцатиперстной, мои. Лады? Пошли переодеваться. У вас тут мыло есть, перчатки, халаты на завязках?
Начальник мотал головой, тройной подбородок трясся испуганно.
Душеньку я приглашал в лазарет. После операций я любил выпить, нет, не спирт: чашку крепкого, крепчайшего чифиру, и выкурить папиросу, да, одну, но так сладко её искурить, чтобы уж больше на весь вечер и всю ночь курева не захотеть. Я любил там сидеть, в полутёмном лазарете, смотреть на плывущее в полумраке лицо Душеньки, иногда спрашивать её о чём-то тяжком, ненужном, нежном или горьком, да всё равно.
Зачем вопросы? И так всё ясно. Молчание красноречиво. Оно необъяснимо. Слова ему мешают. И, однако, без слов не обойдёшься. Слова вроде бы мусор, но какая площадь без мусора? Его взад-вперёд носит ветер. Носят мои безумные мысли. Я только делаю вид, что я нормален. На деле я безумец, и поделом мне.
Сижу, потягиваю чифирчик, как креплёное винцо. Душенька сидит напротив, испуганно глядит, запахнувшись в тулуп. Потом чуть даёт слабину. Вздыхает вольно и глубоко. А слишком глубоко вздохнувши, кашляет. Она кашляет тяжело и запойно, и я понимаю, сейчас кашель перерастет в приступ, и мне нечем будет его снимать. Я протягиваю ей чашку с горячим чифиром.
- Выпей. Полегчает.
Она послушно, задыхаясь, глотает.
Переводит дух.
Я внимательно смотрю на неё.
Я люблю её.
А виду не подаю.
Да она знает всё и так. Давно.
- Спасибо.
Протягивает чашку мне. Я беру и отхлёбываю. Мне хорошо пить чифир из чашки, из которой пила она. Касаюсь края чашки губами там, где касалась она.
- Расскажи мне, как попала на войну.
Душенька пожимает плечами под тулупом. Она выпила чифиру и теперь как пьяная.
- Я ведь медсестра, Николай Петрович.
- Можно без Петровича.
- Войну объявили. Ведь медперсонал сразу в армию. Наш госпиталь, почти весь, на Запад услали. Заводы перешли на выпуск оружия. До нас самолёты врага долетали. Бомбили. Мы танки, зенитки, пушки выпускаем, на фронт отправляем, а они тут же попадают под обстрел. Эшелоны бомбили кошмар как. Город-то затемнят, а рельсы нет. Всё видать. Каждый поезд. Войска отступают. Враг прёт вперёд. Раненых тьма. Лазареты заваливают ранеными... люди... ну... как брёвна, сгружают. С телег. С грузовиков. С вагонов. Медикаменты то есть, то нет. Мы лазарет наш разместили, будете смеяться, в вагоне.
Я подливал в чашку кипятку. Дрожал.
- Почему ж буду смеяться. Не смеюсь я. Слушаю тебя.
Она вздыхала прерывисто, так вздыхают дети после плача.
- Койки, утварь всякую, бельё там... Николай... Петрович... оставили в госпитале в городе. Мы без ничего. А раненых море. И вагон стоит, ночами оперируем, окна светятся, с воздуха лётчикам видать. Бомбят! У нас сколько там поубивали народу. Раненых... сестёр... врачей тоже. Врачей жалко, ужас. Бомбёжка, мы из вагона выбегаем и бежим в поле. А лётчик, вражина, летит за нами. В нас целится. А на реке что творится! Река-то у нас большая. Широкая. Беженцы на баржах, на плотах... на катерах... техника... люди, люди, войска, людей тьма-тьмущая... И, знаете, никакого радио. Сводки не слушаем, что да как на фронте. Только догадываемся. Потом из вагона нас... ну, можно так сказать, вынули... и... и...
Она замолкла потому, что я коснулся рукой её холодных пальцев, сжимающих круглую, в форме уха, ручку чашки.
- Говори. Не молчи.
- Я не молчу. И переправили... в бывшую школу. В октябре уже морозы ударили. Отопления нет. Раненых всё везут и везут, и прямо на пол кладём, на тряпки, на солому... на шинели. А еда? Есть-то из чего? Не из чего. Нету посуды никакой. Ложки только у солдат в вещмешках, да один котелок. Один на всех! На весь лазарет. Машина приехала. Вёл её важный начальник... красивый такой.
- Красивый?
- Ну, может, нет... представительный. Он нам в той машине вату привёз и ткань, шить матрацы. Мы матрацы шили, ватой набивали. В одном котелке, в пять присестов, жратву на весь лазарет варили. Потом доски на той же машине ребята привезли. Мужики изготовляли из тех досок раскладушки... А раненые лежат, мечутся, бормочут, орут, бредят. Умирают! И я как будто... с каждым... вместе... умираю...
Между нами странным приречным туманом, маревом колыхался сумеречный воздух.
- Ты только сейчас не умирай.
Я осторожно вкладывал горячую чашку ей в пальцы. Она обхватывала чашку руками и беспомощно, сиротски улыбалась. Синие глаза горели синими свечами.
- Кладём больных на раскладушки... а раскладушки шаткие... корявые... непрочные ножки... подламываются, раненые падают, чертыхаются, стонут, кричат. Падали... и прямо на полу - умирали... и мы их на мороз выносили, на холод, чтобы... ну... сами понимаете...
- Понимаю.
- А вороны налетят... и глаза мёртвым выклёвывают... ну, сами понимаете, птицы, зима, голодные... хлеба нет, зерна нет, насекомых нет... ничего нет...
В тёмном коричневом окне, далеко, в направлении моря, горел тусклый свет. То ли забытый маяк, то ли снега под звёздным небом туманно отсвечивали, то ли Сияние медленно танцевало, то ли в небесах мерцала керосиновая лампа, и кто подкрутил фитиль, неизвестно.
- А тебе самой хлеба хотелось...
- Да... ещё как... есть хотелось всё время... и холодно, всё время холодно, мы пытались натопить печку от души, чтобы весь школьный дом прогреть, да куда там. Здание большое. Как дворец. Не протопишь. Так и мёрзли. Руки под мышки сунешь... а потом в ладони дышишь, дышишь... не надышишься... Солдатики научились, пока на койках без дела валяются, изготовлять всякую всячину полезную. Кто чайник смастерит. Кто миску из жестяной банки. Кто соорудит чашку из коробки стальной, квадратную чашку, ну да наплевать, ручка есть ухватиться, пить можно. Один раненый даже светильник сделал. И горел! Представьте! Горел!
- Представляю.
Я ставил на стол пустую чашку, и сердце билось как у больной собаки. Пульс сто пятьдесят, как пить дать.
Душенька, склонив голову, глядела на меня нежно и напуганно, её наклонённое набок лицо сильно напоминало икону в старом храме на морском берегу, меня доктор Алексей туда завёл однажды, дверь была замкнута всунутым в щеколду громадным чугунным гвоздём времён Стеньки Разина.
- Ну вот... о чём ещё сказать-то... да вы и так догадываетесь...
- Нет. Да. Догадываюсь. У всех у нас всё похоже.
- Раненых лечили... как могли... хирурги, вроде вас, операции делали.
- И ты - операционной сестрой?
- Да. Я много чего умею... при операции.
- Ух ты, это здорово. Я тебя на операцию возьму.
Она косила вбок синевою огромных, речных, озёрных глаз.
- Можете... я при вас боюсь осрамиться.
- Ничего не бойся.
- Выздоравливали ребята... и опять на фронт... а куда же ещё... А потом на фронт штрафников стали посылать. Из тюрем, заключённых. У нас воевало много разбойников... убийц. Им убивать было не привыкать... Они, знаете, не только врага убивали... они - и наших убивали... своих, родных... разворовали в лазарете всё, что могли, утащили матрацы, подушки...
- А это ещё зачем?
- На спирт менять, на водку менять... пить-то им надо, пить душа просит... У нас сестёр, кто недосмотрит, а кража произойдёт, под суд отдавали: недоглядели! Суд, и всё! И осуждали... и срок давали... бандит украдёт, а сестре - срок припаяют... вот так...
Я клал ладонь ей на руку. Чуял: она потихоньку согревалась.
- Душенька, жизнь, она несправедлива. Правды - мало.
- Зато, знаете, они, бандиты эти, как отлично воевали... сражались, как звери... сколько врага положили, не счесть... Героя им многим давали... Они города освобождали... люди в городах, в сёлах, наши войдут, а в первых рядах - наши бандиты, родные, лазаретные, их обнимали, им руки, плечи целовали... Нас опять в поезд погрузили: передислокация! Однажды мы, сёстры, захотели сварить каши бойцам. Набрать воды надо было далеко, на вокзал пролезть под эшелонами. Мы котелки и кастрюли подхватили, поползли под поездами, как гусеницы... Воды набрали в колонке привокзальной. Возвращаемся, такой же цирк бесплатный. Ах!.. а эшелон наш умотал. Вот горюшко! А мы смеёмся. Кашу на костре, на улице, сварили. Крупа-то была у сестры Ольги в рюкзачке. Всем голодным раздавали! Все нас ой как благодарили! А мы уж и смеёмся, и плачем, и кашу ту сами из котелка хлебаем, пустыми консервными банками, губы раним... А тут попутная дрезина шурует. Ну, мы в неё попрыгали да кричим: скорей, скорей, догоним эшелон!
- И догнали?
- Да, Николай... Петрович... Николай... догнали...
Она уже не пила чай, приоткрыв рот, тяжело дыша, во все глаза, будто я был зверь диковинный, смотрела на меня.
Я сам не знал, что делаю. Наклонился и припал губами к её рукам.
И она рук не отняла.
- Не молчи...
Она говорила, будто в этом говорении, в бесконечном течении сбивчивой тихой, задыхающейся речи и заключалось всё счастье, весь смысл того земного времени, что мы с ней вместе здесь и сейчас проживали.
- Да, да...
- А дальше...
- А дальше... ох, тяжело всё это... вспоминать... да вроде всё в прошлом... время... оно затянет всё. Все раны. Враги сначала наших подмяли... в бывшие казармы бросили. Колючей проволокой в десять рядов обмотали. А потом наши наступали, отбили. И наши в лазарете, и врага туда затолкали, в эти же казармы. Враги там сидят-лежат. А раненых среди них - ух, куча! И на нас, на сестёр, их навалили. Говорят нам: то пленные, мы расстрелять их не можем, а перемрут, тоже непорядок, лечить надо. Лечить?! Врага?! Вражину лютого?! Зверину?! Да провались всё на свете! Не будем! Орём, отказываемся. Мы и так как рабы в рудниках. Дежурим, уколы делаем, перетаскиваем из операционной в палаты... стираем, варим, кормим... грузим в машины, в вагоны... продукты с вокзала привозим на себе, на горбу... и опять уколы, судна-утки, кровь, обработка, перевязки, охрана, всё-всё-всё... всё это мы, сёстры... А тут ещё пленных на нашу шею! Ну уж нет! А нам орут: да! Будете! Лечить! И ухаживать! И спасать! И всё такое! Мы орём в ответ: врага?! Да ни за какие коврижки! А нам орут: это приказ! Вот на войне... такое слово есть... приказ...
Я отнял губы от её тёплых рук. Глядел ей в лицо.
- Не молчи.
- Я не молчу. Вот про операции тяжеленные помню. Врезалось мне это в память на всю жизнь. Осколки у солдата удаляли. А тут бомбёжка. Ну и что, что у нас на казарменной крыше Красный Крест. Это врага не волнует. Вы же сами знаете. Пулемёты затарахтели. А мы оперируем не в казарме, а в палатке. Лазарет расширился, раненых девать некуда, и часть лазарета в палатки-времянки тогда засунули. Бомбят, а хирург у нас был такой, смелый, вроде вас, Николай... и... ну, продолжает операцию... Если прервётся, всё, раненому каюк... И все мы, сёстры, у стола стоим... Никто не уходит... никто. И вдруг бабах!.. рядом с палаткой. Взрыв. Уши у меня заложило. Оглохла. Ничего не слышу. Потом услышала вой. И гул. Гудение жуткое. Самолёт на бреющем, видать, шёл... Мы все, врач и сёстры, целы... а больной на столе мёртвый лежит. В него, беднягу, осколок попал... да прямо в грудь... и перебил аорту... кровь так хлестала, я думала, нас затопит... лежал на столе в красной луже... А хирург наш говорит: счастливец, умер, не ведая, что умирает, ведь он под наркозом... ничего не почувствовал... это же чудо, как вы думаете, как?.. Чудо?.. Чудо?..
- Это не чудо, а ужас.
Я не мог говорить.
И ужас, и чудо были слишком рядом. Я дышал ими.
- Да ведь и ужаса мы навидались... ещё какого... Опять нас в казармы утолкали. Наркоз у нас кончался. Делали операции под местной анестезией. Раненый всё видит, слышит. В зубы ему суём иной раз ложку, иной раз палку. Всё равно орали. Ложка со звоном падала на пол... а больной блажит так, что оглохнешь не хуже, чем от контузии... Впадали в болевой шок, а из него, вы знаете, трудно так просто вывести. И вот я руку в карман халата сую... а там у меня фляга... а во фляге спирт... собрала... я же не пила мои сто грамм... собирала... ко рту больному подношу. Он спирту хлебнёт и на минутку затихнет...
- А чем вы их кормили?.. Раненых?..
- Ой, чёрт знает чем, Николай... мёрзлой картошкой... Петрович... в полях выкапывали... неубранную...
- А за тобой молодые бойцы ухаживали?.. Ну, заигрывали с тобою...
- Ох... бывало... и такое...
- А целовалась с кем?
- Ой... нет...
- Врёшь... красавица такая... да не целовалась... А жаловались на тебя? Или ты такая сестра... ну... дисциплинированная?..
- Я?.. да... Я послушная... Хотя я посажена один раз даже в карцер была... в подвал казарменный... за нарушение... я возле койки одного бойца сидела... и ему письмо читала... нет, не от девушки его... от матери... и он плакал... и я его за руку взяла... и наклонилась к нему...
- Вот так?..
Я опять взял её за руки и наклонился к ней. Она не отодвинулась. Только глаза её больше стали.
- Да... А тут начальник лазарета идёт. Ну и закричал: в карцер! Нарушение дисциплины! Шашни с бойцами! Отставить! Хоть смейся, хоть плачь... Я заплакала... в карцер пошла... а боец кричал мне вслед: мамка моя жива, мамка жива!.. А слёзы у меня льются... льются... а никому ничего не объяснишь... бесполезно... А вы знаете, у нас иногда бывало, раненые дрались между собою... ну, что-то не поделят, или кто-то кого-то обидит, или кто-то кому-то больно сделает... вот так дрались солдаты однажды, страшно... и я между ними вклинилась... наперерез... хватаю их за руки... а они друг друга тузят нещадно... просто, знаете, убивают... ну мне, конечно, тоже досталось... и мне накостыляли... крепко... это я только потом сообразила, и убить могли... запросто...
- Могли... И убили бы... Но теперь с тобой такого не произойдёт. Никогда.
- Никогда... да... Я тогда была вся в синяках, в ссадинах... как после боя... А то один офицер в сестричку нашу втрескался. В Лизу. Проходу не давал. А потом вроде услали его куда. Он отъехал... мы сами видели, в грузовик в кузов прыгал... и вернулся. Ночью. В дверь ломился. Мы держали... вчетвером... а он выругался... да в дверь выстрелил. И ушёл. Мы слышали. А Лизка на пол упала. Пуля ей прямо в лоб попала.
- А ведь могла и тебе... в лоб...
- Да... могла...
- А ты жива...
- Да... А ещё мы там, в лазарете... на танцы ходили... зал там был такой, в казарме, белые колонны, сцена, раньше собрания, видать, там проходили, и у нас один боец на гармошке играл, на хромке, а другой на губной гармошке, у врага похитил... трофей... И мы танцевали... сёстры...
- С ранеными?..
- И с ними... и с врачами... и, смешно так, понимаю, шерочка с машерочкой...
- И что?..
- И то... В поезд нас погрузили... переселяться... опять переезд... Вот поехали... ну и приехали... Налёт... бомбили... остальное вы знаете, Николай...
- Да здесь-то ты как...
- Да очень просто... проще некуда... меня, помните, в город увезли... на выздоровление... потом опять враги вошли... лазарет наш под свои нужды приспособили... раненых перестреляли... врачей кого перебили, кого в живых оставили, их офицеров и солдат лечить... наши не хотели врага оперировать, один наш хирург зарезался скальпелем, себе по шее полоснул... по сонной артерии... сестричек по себе разобрали... кого замучили... кого застрелили... я сбежала... по подвалам пряталась... а тут наши входят... меня близ лазарета поймали... всё, предатель, под врагом побывала, значит, всё, не своя, а ихняя... ну, в эшелон тюремный, да на севера её, меня, значит, наказать... в карцер северный, вроде как на всю жизнь уже...
- Ты что... жизнь - большая...
Всё быстрее плыло ко мне её лицо, всё ближе оно, всё крупнее, лодка белая, небеса над ней.
И тут дверь в операционную как стукнет! Нянечка вошла. Со шваброй мокрой. Мыть полы.
- Ись, ись, дохтура отдыхають! А я тревозю. Дык когды нациссяти палаты? Ить вить времяцка-ти нетути.
Я вздохнул, очухался. От Душеньки отодвинулся.
- Так времени и правда нет. Нет времени.
Душа моя сидела не шелохнувшись.
Руки её, на колени брошенные, лежали недвижно, просвечивали, как восковые.
Мы все больше говорили друг с другом. Совместные операции нам развязали языки.
Мы спорили. Даже когда я видел: он прав, я до хрипоты спорил с ним, утверждая мою мысль.
Я показывал, доказывал, приказывал. Он смотрел мне в рот и, кажется, соглашался со мной. Может, он просто был вежлив. Воспитан. А может, признавал мою правоту.
Я видел: он у меня учился.
Всё же война меня многому научила. И я в иных аспектах хирургии чувствовал себя сильнее. И даже наглее. Нахальнее. Да я и был наглец. А он - он был Божий человек.
Иной раз мы схватывались вовсе не на почве хирургии. А так, спорили о жизни. Сражались, орали, хватали друг друга за грудки, трясли. Чуть пощёчины друг другу не давали. Хотя были к мордобитию близки. Я никогда не думал, что мой божественный доктор может так разъяряться. И было бы от чего! Идейные стычки! О жизни, видишь ли, два военных врача на досуге беседуют! Так беседуют, что хоть всех святых выноси!
Этак-то страстно, сумасшедше мы пикировались и в операционной. Над раскромсанным, разъятым телом больного.
Лежит на столе распаханное человечье тело. Вспаханное поле. Разрезаны мышцы, пережаты сосуды, рассечена брюшина, разведены по обе стороны смерти сухожилия и нервные окончания. Человек устроен очень просто. Я устройство человека знаю наизусть. И у всех оно одно и то же. Нет человека без вегетативной нервной системы, и нет человека без хрящей и костей, и нет человека без сердца.
За окном надувала березовые почки туманной зеленью холодная весна. Круглым древним зеркалом отражала землю и воду холодная Луна. С моря дул резкий сильный ветер, гнул деревья и кусты.
- Вот она, весна! Весна и война! Идёт, идёт ваша война! Ваша - всегдашняя! Ну что, довольны! Вот, да, режьте, режьте! Взрезайте! Любуйтесь! И, что самое интересное, вы тут будете копаться, ковыряться, хоть целый век все телеса расковыривать, а души - не найдёте! Нет её! Нет! Нет! Нигде! - Я погружал руки в развороченный живот. - Живот, он же жизнь! Так, кажется, по-вашему, по-церковному?! Ну? Где она? Где душа?! А?! Я вас спрашиваю! Что молчите! Или, может, она в конкретном месте прячется?! Под брыжейкой?! В поджелудочной железе?! В селезёнке? Ну? Где?!
Я зло, с грохотом бросал скальпель и зажимы на укрытый стеклом подсобный хирургический стол. Окровавленные железки скользили по стеклу и скатывались на пол. Операционная сестра подбегала и живо подхватывала инструменты с пола: кипятить.
Доктор подходил ко мне. Я вцеплялся глазами ему в лицо. Он не выглядел ни растерянным, ни обескураженным. Он стоял передо мной безоружный, а я видел, чувствовал его вооружённым до зубов; и чем? Его дурацкой, необъяснимой верой. Всего лишь верой! Да забодал он уже меня этой верой, бык мирской!
Он протягивал над раскромсанным больным на столе руки. Ладонями вниз. Я мог поклясться, что из его ладоней на больного, пребывающего в наркотическом сне, льются потоки светящегося, солнечного тепла. Я, на расстоянии, осязал это тепло. Изумлялся. Ужасался. Но ничего не говорил.
- Нет души, говорите?
- Нет! Её не-е-е-ет!
Я кричал, как обречённый. Так кричат на плахе казнимые. Так кричат самоубийцы, прыгая вниз со страшной высоты.
- Так вот неправда ваша. Она есть. - Он начинал дрожать. - Есть, есть... есть...
Я бы мог поклясться: на моих глазах рана затягивалась.
Бред. Фокус. Шарлатанство. Небыль. Быть такого не может. Нигде, ни с кем и никогда.
Я переставал видеть и слышать. Стоял, как деревянный болван. Потом очухивался. Глядел на аккуратно зашитый разрез. Доктор уже стаскивал перчатки, уже тщательно, долго мыл руки под неистово гремящим оловянным рукомойником.
АЛЕКСЕЙ
Дитятко моё. Ты слушала, слушала меня, да и уснула. Я ведь вижу твоё будущее, пока ты спишь. Я всё равно продолжу говорить, можно? Я ведь вижу не только то, что станется с тобой, но и всех твоих детей, твоих внуков, всех твоих потомков, они уходят, сначала узкой цепью, очередью смиренных причастников, потом народ растет, увеличивается, валит толпа, катится вдаль многоногим и многоруким шаром, вот я уже вижу, как потомство твоё, дитя, катит и рассеивается по всей круглой несчастной земле, всюду возжигаются огни, костры, люди горят, вопят, бегут от огня, люди обнимаются и крестят друг друга - на прощанье, на любовь, на возвращенье. Вернуться домой! Это самое большое счастье. Знаешь, я вот тут лежу на железной койке, на дне железной утлой лодки, слепой, а я счастлив, безмерно счастлив: я ведь вернулся домой. И мой дом - ты. Ты слышишь? Спишь... Спи. Ты мой народ, моя последняя молитва.
Ты родоначальница целого человечества, а тебе кажется, ты тут, в тюремном лазарете, у серого ледяного моря, жалкая маленькая санитарочка. Так устроен человек. Он обманывается, заблуждается и ничего не знает. И правильно. Бог спасает его от ужаса всецелого знания; всё ведает только Бог, но не человек. Человек - слепец. Он идет, щупая пальцами воздух. Он бредёт на голос, на крик, на стон; на свет. Я слеп, но я чую свет кожей, вижу его нутром. Сердцем вижу.
Итак, я предсказываю тебе стать царицей огромного рода человеческого; женщина, когда рождает, плачет и кричит, страдает и выгибается коромыслом, и не думает она, кого родит, и не ведает, кем станет дитя её и кого оно в свой черёд выродит на свет Божий; и как размножатся наследники её; и кого произведут на свет в суждённый срок наследники наследников её; она просто рождает ребёнка, и наблюдать это могут не все смертные, и перед повитухами, перед акушерами я встаю на колени, ведь они достойны сидеть у престола Бога. Когда они уйдут на небеса, там-то они и воссядут. У Божиего трона. И обочь трона Его будут пребывать, когда Он станет судить людей Страшным Судом.
Спи, а я буду говорить. Мне важно не прерываться. Я укрою тебя концом вытертого одеяла. Чья шерсть, верблюжья, овечья? А может, волчья? Звери помогают нам выжить. А мы, мы разве помогаем им? Мы только берем от них, что можем взять, а потом убиваем их. Доколе человек будет убивать зверя, дотоле он будет убивать собрата. Таков закон.
Есть люди, они вырываются из когтей и зубов закона. Закон тоже зверь. Он сомкнет зубы на твоей глотке, и ты истечёшь кровью. Не докажешь правоты. Перед законом ты всегда виновен. И это одно из положений закона.
Тебе, через череду лет, ещё только предстоит зачать и родить, а Душенька там, на берегу холодного туманного моря, уже родила. Вчера? Завтра? Нынче? Всегда. Я завёл странную дружбу с туманом: он обратился в зеркало. Я приходил на берег моря, гулял там, дышал солью, дышал тоской. Далеко, странной радугой, где были только цвета смерти, ядовито-зеленый и дико-красный, гас призрак Мiра, исчезал горизонт. Простор, это всё, что оставалось у нас, узников. И знаешь, я вот слепой, но я лучше вижу Мiръ. Зрячим я видел его краски, его небеса, пульсирующие потроха людей, песок, вбирающий кровь, а слепым я вижу всё, что Мiръ скрывал от меня, таил. Я вижу сундуки его сокровищ. Его секреты. Его подземные огни. Его семенные канальцы, его матку, куда, неистово сражаясь, рвутся проникнуть спермии. Какая чудовищная война идёт между ними! Они бьются не на жизнь, а на смерть. Победит один. Когда я, юным врачом, узнал об этом чуде, я, пришед домой, не ел, не пил, сел к ночному окну на ветхий табурет, согнулся скорбно, как у изголовья покойника, и горько плакал. Им всем, всем другим спермиям, кто не победит, не поборет одного, суждено погибнуть! Никто и не вспомнит о них. Закон жизни. Закон смерти.
Я стоял перед зеркалом Мiра на морском берегу, и зеркало отражало меня. И не только. Оно смещало струение света, скошенные потоки серебряных лучей били в подвздошье отлива. Песчаное дно обнажалось и отражало закатное небо. Я видел будущее, но я не различал настоящее, а надо было наблюдать, надо было всё запоминать. А я просто любовался. Задыхался от счастья. Белая глина ползла, плыла под ногами. Я ложился на нее животом, она сначала обжигала, потом холодная зеркальная поверхность несла меня на прозрачной спине, и льдина превращалась в белого кита, и я, человек, внезапно застывал круглой безъязыкой планетой. Я не мог говорить. Я становился отражением, хотел кричать в ужасе, да вместо живой глотки у меня внутри лилась и застывала амальгама. Кто делал меня зеркалом? Уж не я ли сам? А кто раскрывал навстречу мне объятия? Смысл жизни исчезал, и кто-то Иной, Непонятный мог совершить за меня мою тяжкую, кровавую работу. Я зачинал, и я принимал роды. Кто я был такой при этом? Хирург или страдалец? Возлюбленный или тюремщик?
Град и лёд устилали простынь берега. Далеко в небесах всходило молочное, масленое белое Солнце, и вокруг него медленно кружил орёл, и кричала и стонала рядом женщина - то ли в любви, то ли жестоко пытаемая, избиваемая, то ли умирающая. А может, она кричала в родах. Смерть и жизнь так похожи. Я рассмотрел это в гигантском морском зеркале, по нему били хвостом, глядясь в него, киты и спруты.
Нам тут никто не обещал свободы. Мы все смирились с тем, что теперь будем жить так: ни обняться, ни поцеловаться, ни помолиться. Нет, молились тайком. Во всех бараках. Беззвучно. Лёгким птичьим шёпотом, клёкотом. Криками чаек. Белыми бурунами на бараньих завитках безумных волн.
Зеркала, они перемещались и гасли, поворачивались, ловя отраженья, кривя стеклянные рты: то ли улыбались, то ли плакали. Я ловил зрачками их потустороннюю дрожь. Идя по берегу, я знал Душеньку. Вспыхивал зеркальный скос, и она выходила ко мне: из волны, из-за песчаной гряды. Песок расчерчен расчёской отлива, а сейчас начнётся прилив, и, Господи, ты ли это, Душа моя!
Она, вдавливая босые ноги в песок, подходила. Это просто солёное зеркало незримые великанские руки подносили ко мне очень близко, так страшно близко, что я мог переступить стеклянный порог, уступ необоримой тьмы. Лучи, отражаясь, скрещивались, и мы оба стояли, распятые на кресте Света. Душенька, ты видит, повсюду Крест Господень? Вижу, улыбается она, ещё как вижу! Чем ты видишь это? Очами? Сердцем вижу, счастье моё.
Зеркала бились, сшибались, таяли, вплывали друг в друга, невесомо, тайно, сверкающе. Мы становились единственными в Мiре зеркалами, и вместо кожи нас покрывало одно на двоих отраженье, и вместо объятия Свет гулял по нашим рукам и спинам, по нашей голой коже и голым сердцам, и мы оба думали одну и ту же мысль: как прекрасно быть обнажёнными перед световою бездной, и уже никто не узнает, отражаемся мы в ней или падаем в неё, и есть ли конец этому Вселенскому падению, вот так бы падать веки вечные, и чтобы невесомость никогда не кончалась, и чтобы губы отражали губы, глаза отражали глаза, а волосы и пальцы, солнечно светясь, улетали в небеса птицами, а рёбра, неистовая грудная клетка, чтобы разбилась, выпустив на волю сошедшее с ума от счастья сердце.
Таково было моё послушание, пребыть отражением; таково было моей Души назначение, озарить меня извне и изнутри. Быть Светом человек не может вечно. Но, дитя моё, если человек испытал это в жизни, не в посмертии, он этого никогда не забудет.
Свет есть зеркало Бога.
Свет есть Его хирургический инструмент.
Светом Бог взрезает нас, и Светом он исповедует нас, и Светом причащает.
И тонкой нежной ниткой Света зашивает разверстые раны наши.
...я мог не знать. Мог не увидеть. Мог даже не догадаться. Догадка была слишком страшна. Я отталкивал её от себя, она катилась из-под ног круглой, позолоченной рыболовной блесной. Нас всех ловят. Нас манят, прикармливают, и мы покорно трусим к кормушке, и мы верим, мы доверяем. Вот я иду берегом моря, и вот за камнем, рядом, вопли, борьба. Уж не сам ли это я с незримым вражиной борюсь? Одолеваю его, или поддаюсь ему? А может, человек, в страсти и злобе, в лютом вожделении, ломает, как юную берёзу, другого человека? Женщины, мужчины. У всякого свое распятие. Мужчина распинает женщину на мокром песке. Женский голос, он зовёт на помощь. Помогите! Я бросаюсь вперёд. А ноги мои не бегут. Они стали чугунными. Приварились к земле. Я сам стал тяжёлым, как земля. Я стал Временем. И остановился.
И слушаю отчаянный прибой.
Сегодня ветер. Там, за валуном, люди, они катаются по песку и стонут, и кричат, и пытаются одолеть друг друга. Я слышу: мужчина затыкает рот женщине, наверное, сначала локтем, потом кулаком, потом лоскутом её разорванной рубахи. Она хрипит. Он рычит. Они два зверя, уже не люди. Кто она? Я не знаю. Я догадался, но я не хочу это видеть. Что с ними происходит за тяжёлым могильным камнем? Никакой Ангел камень тот не отвалит. Никто здесь не воскреснет. Воскресает лишь любовь.
Никто не вернётся домой. Возвращение домой есть любовь.
Где ты, где ты, любовь?
...а может, девочка моя, кроме солнечных, есть в Мiре и чёрные зеркала. Почему бы им не быть. Запросто. Они отражают Ад. Если ты видел Рай, Ад ты всегда узнаешь в лицо.
У Души моей нынче начались роды.
Когда и как забрюхатела она? Как тяжёлая ходила? Незаметен был рост плода. Военврач Николай зло смеялся, пожимал плечами. Под отрепьями, охвостьями шкур, старой рогожей, в них закутывалась женщина, не был виден отчаянно растущий, тестом на опаре, живот. Живот, жизнь! Как часто, Господи, я погружал руки в человечье брюхо, скользкие кишки струились, текли и вспыхивали под пальцами, скользила по окровавленной плоти резина перчаток, скользил безумный зрачок, прокалывая, веря, видя, нащупывая, не изучая, нет, - благословляя. Нет хирурга без благословения. Что же, ты сделаешь ей кесарево сечение, если что? А что? Сама родит! Как родит? Где родит?
И главное, кого родит?
Кого. Чьего. Зачем. Невдомёк. Душа, разве она может быть беременной. Она смеётся: я всегда беременна, всегда. Душа всегда тяжела, всегда носит во чреве своём новый Мiръ. Врач Николай скалился: да она всем, всегда, всю дорогу, под всеми кустами, под каждым кустом! Ноги растопырит, танцуй не хочу! А ты с ней цацкаешься, умоленный, батюшка полоумный! Ты ей ещё нимб из картона вырежь и сусальным золотцем обклей! И вместо ушанки, вместо ушанки! На лоб насунь! И пусть так ходит по бараку! И на работу! Плоты вязать! Чернавка! Царица! Святая!
Роды и зачатие. Роды и плод. Роды и ребёнок. Родовспоможение, я всё это умею. Я всему этому учёный, и почему так вышло, что живот у Души моей наливался, тяжелел день ото дня, а я всё легче становился, всё невесомее, я превращался в ветку полыни, в ягель, в сухой лист морошки, в эту оранжевую, кровавую ягоду, что так легко раздавливалась под языком, так горько гас несбывшийся поцелуй на губах, а ведь женщина, когда носит ребенка, на девять месяцев избавляется от несения кровей, и как быть, если ты хочешь поцеловать твою любовь везде, где можно и где нельзя, а она порезала себе губы осокой, и с губы струится вниз по подбородку, медленно, горько, томно, и падает кровь, летит капля крови, ты слизываешь её на лету, ты шепчешь: скоро, скоро!
А она шепчет тебе нежно: я хочу замедлить Время, остановить, я хочу носить моего ребёнка вечно, всю жизнь, я не хочу его рожать, выпускать в такое страдание, в этот широкий, без берегов, ужас, в эту бурю, ей же конца-краю не видать, моё дитя, не успев вдохнуть холодный воздух, едва явившись, тут же умрёт. Ты, ты такой всемогущий! Ты так много знаешь и умеешь! Сделай так, чтобы моё дитя век жило во мне!
А я шепчу ей, потрясённый : нет, это же чудовищно, хранить в себе жизнь свою, это всё равно что похоронить её, похоронить себя, любое явление должно быть явлено, любое существо живёт внутри Времени! О моя Душа! Как же ты безумна! Ты же сходишь с ума, Душа моя! Зачем тебе таить в себе продолжение твоё и моё! Ты родишь, когда придёт срок! Ты раздвоишься, разделишься! Тебя разрубит надвое Тот, Кто сияет над тобой, над нами надо всеми! Попробуй с Ним поспорить! Кто же выступает против Бога! Иаков боролся с Богом, и что получилось?
Душенька...
Кто отец дитяти твоего? Молчи, не говори. Мне все равно. Это навсегда будет моё дитя. Ты Душа моя, и всё твоё - моё, и ты об этом знаешь лучше меня самого.
Я брал её, брюхатую, уже на сносях, за руку и уводил на берег моря. Там на плоском громадном валуне я раскладывал перед нею наш скудный ужин: горбушку ржаного, три корюшки, испечённых в золе костра, туесок морошки, кувшин колодезной ледяной воды. Вода такая, зубы ломило. Я благословлю все яства, она, улыбаясь, глядит, как движется в воздухе моя рука. Потом шагнёт ко мне, хватает мою руку и целует её. А потом начинает задыхаться. Бледнеть.
И я шепчу умалишённо: потерпи, Душа моя, потерпи, приступ сейчас пройдёт, всему на свете отмерено время, и страданию тоже.
Врач Николай следил за нами. У него подо лбом горели слишком внимательные глаза. Иногда в них возникало зло, и тогда мне хотелось закрыть ему их ладонями. А может, не ладонями, он воспринял бы это как грубость, как насилие; а, к примеру, мятыми старыми газетами. Мы давно не видели тут, в бараках, ни газет, ни книг, ходя в воздухе лодками плавали странные слухи о том, что рядом есть, а может, была и умерла библиотека; что рядом есть, а может, был и погиб театр; такие вещи, как библиотека, театр, стадион, магазин, были из другой жизни других человеков; людей, не похожих на нас, хотя такие же у них были глаза и руки, как у нас, такие же ноги, такие же спины, такие же плачущие лица. Мы забыли, когда смеялись. Врач Николай иногда смеялся. Его смех походил на лай или рыдание. Я вздрагивал, заслышав этот смех; я не мог ему вторить.
Душа моя задыхалась и кашляла, живот ее рос, вырастал, становился гигантским, будто она носила во чреве огромного кита. Мысли меня посещали страшные: она не родит, она умрёт. Потом я спохватывался, соображал: кесарево сечение, да, конечно, я сделаю ей кесарево, и делу конец! Однажды мы ужинали на берегу, перед нами на валуне лежал хлеб и мерцала вода в железной кружке; морошки я не успел собрать, и рыбы не наловил. Душа моя глубоко вздыхала. Я слышал ее тяжкий вдох и хриплый выдох. Совсем немного времени оставалось у нас, чтобы поесть; я знал, сейчас она начнёт задыхаться, и я буду спасать её, массируя ей ладони и голые грязные пятки, я помнил странные, запрещённые лекции моих профессоров, когда учился в столице на врача, о том, что на руках и ступнях человека таятся волшебные точки, связанные с вереницей внутренних органов. Ещё я знал, что такой неизбывный кашель вызывает неправильное положение блуждающего нерва; я предполагал рассечь его, но разве беременную, да на сносях, можно оперировать? Ребёнок в утробе может так испугаться, что умрёт прямо там, во тьме околоплодных вод, не родившись. Мiра никогда не увидит. Я такого горя не мог допустить.
У нас будет только радость.
- Меня не пригласите к трапезе вашей?
Мы оба вздрогнули от резкого голоса, разрезавшего вечернюю сизую пелену.
Душа моя отвернулась, глаза её глядели на серый перламутровый песок, расчерченный извилистыми полосами отлива.
Я стоял над валуном, будто совершал Литургию.
А что, если и правда совершить тут Литургию?
Господи Боже мой! Как же мне это раньше в голову не приходило!
А НАДО, ЧТОБЫ В СЕРДЦЕ ПРИШЛО.
- Приглашаю! Откушайте!
Врач Николай сделал один, второй, третий крупный, грозный шаг к валуну.
На корточки перед камнем присел.
Долго на хлеб глядел.
- Мало у вас хлеба. Обездолю я вас.
- Ничего. С Божией помощью. Я вам сейчас помогу. Всех оделю.
Врач Николай сидел передо мной и косо, исподлобья, глядел на меня снизу вверх.
А будто сверху вниз.
Так зло, жёстко, жестоко.
Я чуть было не воскликнул: за что!.
- За что... - губы сами прошептали.
Он не расслышал. И слава Богу.
Он смотрел на мою Душу.
Ей в глаза.
Я наклонился, взял в руки хлеб и разломил его. Больший кусок протянул Душеньке. Чуть меньший подал Николаю. Маленький оставил себе. В ладони тихо поднёс ко рту и тихо ел из ладони, брал хлеб губами, как младенец берёт материн сосец беззубыми дёснами, и жевал, жевал, жевал медленно, чтобы хлеб дал сок, чтобы им насладиться, почувствовать не только его вкус, но его тайну, его предвкусие и его посмертие, послевкусием ощутить меж зубов, под языком его смерть, проглотить её с благодарностью, ибо его, хлеба, смерть даёт тебе жизнь. Я жевал и жевал, а Николай, отвернувши лицо от Душеньки, смотрел на меня и смотрел.
Он смотрел, как я ем.
Я с трудом проглотил кусок и замер. Застыл.
Протянул хлеб в ладони моей Николаю.
- Ешьте. Я больше не хочу. Наелся.
Николай протянул руку, чтобы взять хлеб из моей руки, и криво усмехнулся.
Отвёл руку. Спрятал за спину.
- Я вам не верю.
Душа моя шумно вздохнула. Сидя перед большим камнем на камне маленьком, уложив на коленях живот, так, вот так, она будет держать на коленях младенца, закрыла глаза. Её лицо стало похоже на круглощёкую Луну. И верно, Луна медленно, страшно всходила за краем моря, освещая колеблющейся дорогой призрачной позолоты серую паутинную морскую рябь. Поднимался ветер, и на ветру мёрзли наши лица и нагие сердца.
- Ваше право.
Я глупо стоял с недоеденным куском хлеба в руках.
- Накормите лучше её. Их сейчас двое. Плод тоже хочет есть. Ещё больше, чем она.
Она сидела с закрытыми глазами, Луна её лица плыла между нами, как между двумя грозовыми тучами.
Она захотела встать, не могла, живот перевешивал, протянула мне руку: помогите! - и я протянул ей руку, продолжая держать хлеб; я потянул её, тяжёлую, вверх, она, кряхтя, еле вставала, больно в руку мне вцепилась, рачьей клешнёй, я всё тянул её вверх, всё вверх и вверх, и не мог поднять, и выронил из другой руки хлеб, он упал на сырой песок, и рванулась, мигом подлетела чайка, бросилась вниз и подхватила хлеб, будто рыбу из моря, ловко и хищно, зло и умело, и поднялась вверх, в небеса, с хлебом в когтях, и я провожал птицу взглядом, и брюхатая Душа моя встала на диво легко и плавно, будто незримой нитью была привязана к летящей в закатном небе чайке. Мы оба провожали взглядом летящую с добычей в когтях птицу, и птица закричала, радостно завопила, завизжала, пронзительно запищала, как чайки обычно пищат.
- Хлебушек ваш тю-тю.
- Николай Петрович. - Я охрип на ветру. - Вы знаете что. Я вас попрошу. Вы завтра в лазарете попросите, пожалуйста, у начальника двойную пайку.
- Чем я это объясню, как вы считаете?
Охрип и он. Возможно, мы оба заболели. Дитя моё, я уж забыл. Помню, хрипели оба, и он и я, а Душа моя глядела вдаль, в белое сонное забвенье моря, закрытыми глазами.
- Правду скажите. Скажите: моя жена беременна, ей нужно подкрепиться. И попросите освободить её от работ на морском берегу. Ей тяжело наклоняться. Она вяжет брёвна, стоя на коленях на сыром холодном песке. Она застудит себе суставы. На всю жизнь.
Он хрипло расхохотался. Лающий хохот, то ли кашель, то ли хрип, то ли невнятная ругань. Он хохотал, будто проклинал.
- А вы сами, вы, вы-вы-вы!.. разве не можете о том же самом, и теми же словами, начальнику сказать?! Кому она жена? Мне?! Да вы спятили! Да вы... Да вы сами её возьмите да спросите, кому она жена!
Я провожал взглядом чайку. Она потерялась в сером просторе. Алый мазок близкой смерти Солнца пролёг между небом и морем. Змеиная зелень моря отразила красноту, и там, где кровь заплескалась в воде, возникли тяжёлые, мрачные волны.
- Что в рот воды набрали?!
Я молчал.
Господи Боже мой, помоги, Господи, спаси и сохрани, и этого человека, и меня от него, отведи от него диавола, и от меня, от меня диавола отведи, ибо перестаю я владеть собой, я хочу ударить его, а ведь мне надо его простить, мы никто не умеем прощать, мы страшны, когда мы Тебя забываем, Боже, ибо Ты единственный нас спасаешь от ввержения в Геенну огненную. Помоги мне смолчать! Помоги мне молиться! Я буду так стоять, не двинусь, не начну драку, не начну бой, я буду молиться Тебе, Господи! Дай мне силы любить его! Любить врага моего! Ведь он друг мой! Ведь я учусь у него искусству хирургическому, когда он виртуозно, великий мастер спасения людей, разрезает, кромсает человеческое тело! Просто, Господи, он не знает, что у тела есть душа! Просто никто, никто ему об этом не сказал! Не заронил зерно великой любви в него! Открытые глаза, Господи, могут быть закрыты для Тебя. Умные мысли, Господи, могу не вместить Тебя! Лучше, Господи, лиши меня ума, чтобы я стал дурнем, но чтобы я продолжил любить Тебя, а значит, через Тебя и человеков всех! Всех на земле! Господи, не лиши меня только сердца, ведь сердцем, и только сердцем, так громко, на весь Мiръ, бьющимся, я слышу любовь людей и изливаю на людей любовь мою!
- Ну хорошо! Тогда я её сам спрошу!
Я видел краем глаза, как краем зрячего моря: он разогнул колени, поднялся, стал внезапно огромен, как пожарная каланча, возвысился над нами, над моей Душой и надо мной, и сделал к Душе моей шаг, другой. И достиг её.
Встал напротив неё. Глядел на неё.
А она сидела с закрытыми глазами. Слепая по собственной воле.
Не видала ничего, не слыхала.
Я знал: она видала и слыхала Бога.
Николай переступил с ноги на ногу перед ней. Его наваксенные сапоги скрипнули.
- Эй... Слышишь... - Голос его упал до голых гнилых водорослей отлива. До йода и соли, целующих обломки ракушек, рыбьих скелетов. - Ты... кому жена? Мне или ему?
Медленно, медленно повернула прекрасная Душа моя голову. Поглядела на врача Николая закрытыми глазами. Я видел, как под сомкнутыми веками шевелятся и вздрагивают глазные яблоки, будто диски далёких планет, бороздящих, наподобие кораблей, нескончаемое сизое, сонное небо. Она глядела на врача Николая слепым лицом, и оно то покрывалось дрожью, как море рябью, то вспыхивало, так вспыхивает на морском горизонте зелёный луч, указующий небесный перст, направление на небесное счастье тех, кто терпит крушение в водах предсмертного архипелага; её лицо колыхалось, то светлело, то мрачнело, покрывалось скрещениями красных и изумрудных лучей, извивалось и изгибалось, как потусторонний муар Северного Сияния - мы в той тюрьме наблюдали это чудо природы, когда приходили первые большие холода; её лицо всей кожей глядело на него, её щёки глядели на него, её лоб глядел на него, её нос, ресницы, рот, подбородок, скулы, виски - всё глядело на него, только её глаза не глядели на него. Не глядела не того моя Душа, на кого не надо ей было глядеть.
- Эй... ты!.. Слышишь...
Она слышала. Она всё слышала. И как далеко визжат чайки, вылетевшие на вечернюю рыбную ловлю. И как шумит ветер в прибрежных кустах. И как бьёт в железную рельсу старый монах из ближнего, разрушенного и сожжённого монастыря, развесёлый расстрига, вечно голодный и вечно сквернословящий, брань то и дело слетала сухими листьями с его ржавых от долгой железной жизни уст; он прибился к нашей несчастной тюрьме, тюрьма у моря стала его новым монастырем, и в ней он свершал свои новые требы. Вечно растрёпан, вечно кудлат, седые патлы по ветру летят. Расстрига всё бил и бил в рельсу, тяжкий звон висел над бараками, уплывал в море железной лодкой.
- Кому... ты... жена...
Она молчала.
- От кого родишь?!
Он выкрикнул это страшно, надсадно. Захлебнулся криком.
Она молчала.
Потом улыбнулась.
- Кого любишь?!
Вот тут она открыла глаза.
И я изумился драгоценному свету, что излился из глаз её, как из белого алавастра изливалось драгоценное мvро, коим любящая Господа умастила натруженные, в трещинах и царапинах, исходившие множество пыльных каменистых дорог и тропинок ноги Его. Свет из очей лился и лился, синева наливалась светом, синева становилась лучистой, чистой, нежнейшей, васильковой, переходила в тишину, в перламутр, в боль, в исповедь, в прощение, в слёзы. Слёзы уже лились. Они прорезали щёки и утекали за ворот холщовой робы.
- Я вас обоих люблю. Я вас всех люблю. Я... - Она положила руку себе на живот. - Даже нерождённых люблю. И мёртвых люблю. Всех. Всех!
Я подошел к ней. Встал перед нею на колени на сырой песок и прижался лицом, щекой к её огромному, живущему своею, особой жизнью, драгоценному животу.
Ухо моё прислонилось к её необъятному чреву, вжималось в него все горячей, теснее, и я слышал внутри живота хождение и крики, журчание подводных течений, смутно видел, как проплывают мимо косяки сине-фосфорных, красно-сумасшедших красивейших рыб, слышал стук молотков, звон утонувших колоколов, биение младенческого сердца, сердцебиение плода на сносях прослушивается очень ясно, сердце ребёнка билось часто, так бьётся, совершая круги по циферблату, бешеная секундная стрелка на старом брегете, я прислушивался и определял: да, пульс плода именно такой, какой и должен быть в эту пору беременности, патологий нет, всё идёт нормально, да всё будет хорошо, всё, лучше быть не может, наш сын, а может, наша дочь, всё равно, лишь бы здоровенький крепкий младенец, а в животе шла своя жизнь, гремел, переваливался с боку на бок, толкался и бодался Мiръ, новому Мiру дела нет до старых людских войн, он сам себе война и сам себе Мiръ, вот он родится, вот скоро, вот сейчас! Что такое сейчас? Сейчас, оно тоже ходило внутри моей Души, оно переворачивалось по часовой стрелке и против часовой стрелки, оно вращалось живым веретеном, оно шло вперёд и катилось вспять, оно перестало быть Сейчас и вдруг стало Потом, а потом вращение усилилось, в животе поднялись крики, вопли, соединились в дикий хор, там, в животе, все умирали, и их всех было не спасти, и Сейчас превратилось во Вчера, а потом стало Давно, а потом стало Вначале, а потом, я замер, закусил губу до крови, потом оно стало тем, чему имени не было, не существовало никогда, ни в каком языке, ни в каком народе, оно стало тем, что было до Бога, до Времени, до Вселенной, до любой жизни, до смерти. А до смерти ведь была смерть. Смерть была всегда. Космос полон смертью. Кроме смерти, в Космосе нет ничего. Что ты готовишь нам там, в веках, кроме смерти, Боже?!
Ребёнок в утробе матери взыграл, ударил мать в стенку живота сначала озорной коленкой, выгнул ей наружу восхолмием брюшину и натянутую кожу, потом перекувырнулся и упёрся головёнкой туда, где находился материн пупок, и от пупка вниз бежала светлым ручьём белая линия живота. Солнце село. Быстро темнело. Холодало. Ветер посуровел и срывал с Души моей рабочий платок, коим повязан был её лоб, рвал ей чудесные её, густые пшеничные, с золотыми и седыми нитями, волосы.
- Вставайте, - шепнула она мне, - вставайте. Мы не пошли на вечернюю перекличку. Нас расстреляют!
Врач Николай стоял около валуна и, взяв кружку, жадно пил из кружки. Кадык его перекатывался на глотке его. Первые звёзды висели над нашими головами, горели, разгорались медленно и ярко, как лампады, питаемые свежим маслом, в великанском торжественном паникадиле.
НИКОЛАЙ
Я не хочу про это говорить.
И вспоминать не хочу.
Воспоминания лезут сами, вылезают из меня, как жаркое дыхание тифозного больного. Я заталкиваю их внутрь себя. Внутрь небытия.
Зачем вспоминать, что было? Как прекрасно было бы жить без памяти. Ох, как бы мы тогда были все спасены от безумного, острого, неодолимого страдания.
Кем спасены?
Я в ответе за мою любовь: перед кем? Перед собой? Перед ней?
Кто нас накажет? Кто простит?

ФРЕСКА ТРЕТЬЯ. ВОСТОЧНАЯ СТЕНА
АЛЕКСЕЙ
В день её родов я проснулся рано. Декабрь стоял сумасшедший. Мороз звенел, губя всё живое окрест. Птицы замерзали на лету и падали на землю ледяными комочками. Чайки зимовали стаями, на скалах, жались друг к дружке. Люди, как чайки, жались друг к другу в бараках. Умирали один за другим. То и дело из бараков выносили мертвецов. Снега белою толщей укрыли округу. Мёртвых на салазках отвозили за бараки и там складывали в снег, и забрасывали снегом. Так они будут лежать до весны. Покоиться в безмолвной царской белизне.
Я спрашивал одного, другого: идёт ли война? Да, идёт, мне отвечали. Идёт война, идёт и жизнь, думал я обречённо и отрешённо. Затемно проснулся я в бараке. Ходил между спящих, плотно прижавшихся друг к другу. Узрел трёх упокоившихся. Прижимал пальцы к их шеям, искал лепет сонной артерии; щупал запястья. Да, эти трое опочили. Хоронить будут в снегу. Как всегда зимой.
Я хотел было идти в лазарет, да кинул взгляд на Душу мою. Она нынче ночью не задыхалась. Спокойно спала. Шуба её расстегнулась, полы расползлись в разные стороны, и из-под кудрявой лохматой шерсти выглядывала планета живота. Я увидел, что живот растревожился. Вспучивался и проваливался. Опадал. Потом опять поднимался. Ходил волнами. Морем.
Я сел на бревно, служившее в бараке лавкой; мы сами с берега его притащили. Уронил лоб в подставленные ладони. Задремал. Проснулся оттого, что рядом со мной двигались, ходили тени.
Я шире раскрыл глаза. Свет вспыхивал, лучи сшибались и разъединялись. Воздух скашивался и падал, превращаясь в предметы. Тишина рассыпалась на множество мелких, неподвластных дневному слуху стуков, звонов, шёпотов, жужжаний, биений, бормотаний.
Я сказал себе: очнись! И очнулся. Душа моя ходила мимо меня, переваливаясь, как грузная индюшка. Она держалась за живот. Поддерживала его обеими руками.
- Скажи...
Я не мог говорить. Она улыбалась мне.
Столбы света скрещивались. Голодные измученные люди спали, не спали, глядели в потолок барака, бормотали невнятицу: молились или проклинали. До меня дошло, что барак наш был останками храмовой постройки: может, трапезной, может, монастырской читальни и молельни. Своды, давно не белённые. Пятна грязи, и напоминают смытые тряпкой, сколотые молотком фрески.
- Не бойтесь. Мне не страшно. И вам тоже не должно быть страшно.
Я подошёл к ней. Меня трясло, как в болезни, в жару.
- Милая. Я собрался в лазарет. Пойдём в лазарет. Я сам приму у тебя роды. Понимаешь, я сам приму. Я...
Я услышал, как она громко дышит. Жёсткое дыхание - предтеча кашля. Задыхание. То, что за дыханием. Позади. Или впереди. Или над ним. Вне его. Ближе к Богу. Смерть всегда ближе к Богу. Что будет ТАМ, после смерти? Как это волнует всех. И верующих, и неверующих. А её, Душу мою? Волнует ли это её?
- В лазарет? Пойдём.
Она послушно соглашалась со всем, что бы я ни сказал.
Я застегнул на ней шубу. Пуговицы отрывались, падали на промороженную землю, осталась одна пуговица, и я застегнул её. У горла. Потом испугался и расстегнул: задохнётся.
Живот её вздувался, ходил волнами. Ребёнок хотел наружу.
Все ещё спали: побудка через час. Я взял Душу мою за руку и повёл к двери. Мы переступали через спящих, проклинающих и молящихся. Дошли до двери, и тут она оглянулась на всех людей, устлавших живыми страшными брёвнами земляной пол барака.
- Вот я сейчас рожу ребёнка...
- Да, да...
- А они все умрут. Я их больше не увижу.
Я прекрасно понял, что она хотела сказать.
Она хотела вымолвить: а я умру и больше их не увижу, - и не смогла вылепить языком, голосом эти простые слова.
Хрипы в груди. Вдох, выдох. Только бы дотерпеть до лазарета, только бы дойти: там всё же лекарства, сердечные, успокаивающие, обезболивающие, пока начальник заботится о фармацевтике, и, может, адреналин есть. Ничего, мы дойдём. Мы вместе. Она так тихо, покорно глядит на меня. Она стала коровой, овцой. Всеобще-женское, бабье, природное проснулось в ней, забилось; бились под холстиной пропахшей потом робы целые века, где появлялось на свет Живое и уходило со света - во тьму.
Я распахнул дверь, и мы вышли. Она несла перед собой живот, как тяжёлую чашу.
Мороз ударил нам в лица железной рукавицей. Я встал: не мог дышать. Закашлялся. Она улыбнулась, и сверкнули в улыбке белые снежные зубы. Ровные, все на подбор, перлы из туманной северной реки.
- Ну вот, я тебя заразила.
- Твоя болезнь не передаётся. Ни по воздуху, ни через кровь. Она тебе врождена.
Я с трудом сказал это. Мы пошли дальше. Она осторожно и тяжело наступала ногами в разношенных валенках на снег, снег повизгивал, она морщилась.
- Что? Больно?
- Нет, - смущённо улыбалась. - Валенки дырявые. Снег в дыры набивается.
- Что ж не сказала, я бы залатал.
- Ты так занят. Работаешь всё время. Много больных у тебя.
- Я бы выбрал время.
- Спасибо Николаю Петровичу, он тебе помогает.
Я опять остановился и крепко сжал её руку. Что мне было ответить ей?
- Да. Спасибо.
- А ты знаешь, как я хочу назвать ребёнка?
- Нет. Ты мне не говорила.
- Алексей. Как тебя.
- Откуда ты знаешь, что родится мальчик?
- Знаю.
Мы пересекали тюремные снега наискось, и вот они закончились. И опять я догадался: лазарет располагается в святом здании. Монастырские палаты. Здесь, да, здесь жили в кельях монахи. Писали послания Патриарху и челобитные Царю. Может, мне за Душу мою - нашего нынешнего Царя - попросить? Взмолиться! Хотя бы её - спасти.
- А если девочка?
- Про девочку я ещё не думала. Прости.
Мы стояли у входа в лазарет. Часовой мёрз, грел руки, крепко стукая себя ими, в заиндевелых голицах, по бёдрам и, себя на миг хватая в охапку, по спине. Бросил охлопывать себя, как стог в полях, сдёрнул голицу, поискал в кармане, вытащил ключ.
- Вот, дохтур. Дярзи. Раненько вы сёдни. Баба-то твоя розати вздумала ай как?
- Рожать, рожать.
- Ахти мне. Ну, с Бозенькой способно. Ты, бабёнка, слысь, когды тузицца бусь, дык молися. С молитвою оно всяко-разно выдеть плод. Всё едно с молитовкой хранимо. И орати помене станеси. А то знась, так блазят, всех святех выноси.
Я глядел в лицо часового: старик, нос пятнистой картошкой, под глазами морщинистые мешки, будто намедни водку пил беспробудно, а потом спал двое суток и отёк нещадно. Пакля белых волос из-под ушанки. Глаза щурит. Про Бога говорит. На подол моей рясы поглядывает.
- Ты, батюска, как за енто, рази-т табе разресяно церквой роды у бабы приймати. Рази-т не наказють?
- Нет, товарищ, не накажут. Если за медицину не наказали, то и за акушерство не накажут.
- Ахти мне, и то правдуску грись. Ты с ей осторозней. Она у тя баска. Вона кака. Царевна. Не замай. А твой-то, спомоцник, ну ентот, как ево бись, Петровиц, он, цай, явицца сёдни?
- Явится.
Я погремел ключом в замке, дверь быстро, радушно отворилась, будто кто её толкнул изнутри.
Мы вошли в охолодавший за морозную ночь лазарет. Дитя моё! И здесь люди, как и нынче, спали, стонали, боль терпели, кричали, умирали, рождались: жили. И здесь надо было длить жизнь, жечь её свечу, смолить её лодку, варить её варево. Возиться надо было с жизнью, как только перестанешь возиться и хлопотать, она смиренно закроет зеницы и уснёт. Успение жизни. Такого сюжета ни на одной иконе я ещё не видал. Ни на одной фреске. Как мне жить, если Душа моя умрёт? Намалевать её, по памяти, в росписи, на пустой белой стене, здесь, на страшном Севере, в страшном расстрелянном храме, из него же люди сварганили конюшню, хранилище гнилого картофеля и крысиной свеклы, гараж, где авто начальников важно стоят, кладовую рыбаков: сети, лески, крючки-блёсны, иные снасти, склад боеприпасов?
Да. Я напишу её красками, я буду помнить. Я всё запомню. Вот как она сейчас тяжело взбирается по лестнице, еле ноги переставляет, живот всё так же держит, а я держу её под локоть. И шуба овечьей метелью бьёт её по ногам, по коленям.
Терпи, милая. Не задохнись. Дойди. Пожалуйста.
Мы прошли голым коридором, изо ртов наших вылетали завитки пара. Как ей нужно будет раздеваться на таком холоду? Как здесь в холоде люди ночь коротают?
Вошли в операционную.
- Сядь на стул. Посиди. Я сейчас растоплю печь.
- Алексей...
Она так редко звала меня по имени.
Я успею натопить, твердил я себе как молитву, я успею.
Успею натопить, успею, успею, успею.
Я погладил её, растерянную, улыбающуюся так, будто она прощения просила, по плечу, поглядел на ее большие красивые белые руки, коими она обнимала и поддерживала живот, она не видела живот, уже видела в руках своих живого ребёнка, и ребёнок ей улыбался, они улыбались оба друг другу, я сделал шаг назад, не глядя на нее больше, вышел вон, быстро, выбежал. Побежал за дровами. Лазарет, как и теперь, топили дровами, не углём, хотя тут установлены были котлы для угля.
Когда я бежал по коридору, я услышал тонкую, нежную песню. Это пела моя Душа о том, чего не будет никогда.
Я быстро шёл, бежал по коридору, коридор был бесконечен, как жизнь, я не мог его пробежать весь, насквозь, не мог преодолеть пространство, я мог только увидеть Время, а оно уже было иным, меня во Времени, которое я видел, уже не было; я бежал с закрытыми глазами и видел внутри себя Душеньку - такую, какой я никогда её не знал, я восхищался новым выражением её лица, светлого, беспечного, солнечного, забывшего страдание, щёки ее заалели, глаза сделались большими, небесными, да, точно, величиною с целое небо, я бежал в дровяник, чтобы принести дров и как следует натопить печь в операционной, выложенную белыми изразцами голландку, в дровянике резко и чисто пахло вымороженными дровами, я наклал их себе в сгиб руки, сколько мог унести, и потащил. Сгибался под тяжестью дров. Спешил. Вбежал в операционную. Душа моя уже лежала на столе, раздвинув ноги. Как она взобралась на стол - Бог весть. Должно быть, подставила стул и держалась за его гнутую спинку.
Она тихо стонала.
- Милая! Потерпи. Будем с тобой рожать. Я сейчас!
Я открыл заслонку, набросал в печь розжигу - мелкую щепу, обрывки газет, историй болезни, медицинских формуляров; щедро насовал в печь дрова, чахленькие, тоненькие дровишки, ну где же тут, на Севере, дубы в три обхвата, старые берёзы, красные, смолистые корабельные сосны. Огонь, давай, жри еду. Насыщайся. Разгорайся, давай!
Я возжёг хворост, щепки и бумагу и кочергой подсовывал в пасть огню дрова. Получилось. Печь заполыхала. Стоны со стола усилились. Душа моя мучилась, а я возился с рождением тепла и не мог ей помочь.
- Сейчас... погоди...
Она вскрикнула громко, отчаянно. Я, с грязными руками, ринулся к ней. Опомнился, загремел рукомойником.
- А-а-а!
Её крик был первою гласной моего имени.
- Господи, помоги...
Она схватила мою руку и поднесла к себе, к груди. Прижала ладонь мою к своей груди. Потом прижала к животу. Он ходил ходуном. Уплывал. Метался. И рука моя, лёжа на нём, качалась на нём, как среди пучины морской.
- Ты слышишь... слышишь...
Странное произошло. Будто я стал маленьким, совсем крошечным, и, будто жук какой, прополз по собственной руке вниз, к ладони, маленькое, величиной с булавочную головку, сердце моё просверлило кожу и мышечную ткань и внедрилось в кровь, вглубь, потекло по сосудам, я сам пресуществился в сердце моё и двигался, вместе с током крови, к лежащей на тяжёлом животе ладони; и вот из пальцев, осязающих живот, я, пробив кожу и пронзив мышцу, уже тёк в крови женщины, двигался по направлению к её животу, и вот я уже там, в околоплодном пузыре, и барахтаюсь в серебряных водах, - я, красный, алый, винный, сонный, расслабленный, не желающий жить, а только спать, спать. Я сидел у женщины в животе, и это мне надлежало родиться.
Я медленно плыл в водах Рая. Я понимал: это мой Рай, и я никуда не хочу отсюда уходить. Тревога, откуда такая тревога? Издали доносятся голоса. Кто это говорит? Твердят одни и те же звуки. Бог, Бог. Бог, это отец Рая; это Тот, Кто устроил мой Рай. Это Он хочет меня отсюда вынуть? Но я же умру там, куда меня выталкивают. Кто меня толкает? Никто? Разве я сам себя хочу выдернуть, с корнем вырвать отсюда?
Моё блаженство, прощай. Я жил в любви. До-жизнь, она вся, до капли, в любви. Нас изгоняют из любви наружу, в снег и лёд, и там любовь встречаем редко, ищем её, зовём, плачем по ней, и нигде её не найдём. Зову любовь! Сбереги меня! Помоги мне! Я не хочу на холод! На мороз! Я не хочу, чтобы в меня летели пули! Снаряды! Сгореть не хочу на костре! Это больно, и это навсегда.
Снаружи на живой купол, под которым я плыл и плескался в серебряном море, кто-то сильно и властно нажал. Потом живот задышал вольно, но послышался голос отчаянный, он кричал, он рыдал. Я зарыдал вместе с голосом. Это плакала моя мать, я уже это знал. Мы плакали вместе.
О чём? Зачем лить слёзы? Всё равно случится всё суждённое. Рай, где я жил целую вечность, треснул и надломился. Раскрывался, в нём появлялась круглая воронка, и в неё стремительно уходила серебряная, тёплая, солёная вода моего блаженства. Я остался без воды, на берегу смерти, и начал задыхаться. Я знаю, что такое задыхаться! Я боюсь умереть от удушья! Меня никто не спасёт!
Воронка раскрывалась чёрной дырой, и купол сжимался, превращался в сетку крепко переплетённых мышц, и волокна судорожно толкали меня вперёд, туда, где скоро меня не станет. А что, кто будет вместо меня? Кто я здесь, и кто я буду там? Тело! Моё тело! Тело это плоть! Всего лишь! Тесто живое! Меня замесили! Я подошёл опарой! И вот я вываливаюсь, вылезаю из круглого чугуна. Меня надо испечь. Печь смерти. Страшная. Жарко горящая. И одновременно ледяная. Меня толкают, я вдвигаю голову в дыру, она слишком узка для моего темени. Я не пройду. Не выскользну! Безнадёжно. Я застрял, узкий лаз сжимает меня горячими стенками, я бьюсь в железной морозной трубе, я ничего не вижу, лишь далеко, на краю смерти, слышу: тужься! Тужься! Тужься!
Тиски сдавили виски, надавили на лоб и уши. Ничего уже не слышу. Хочу дышать и не могу. Разве можно дышать там, где нет воды? Умер мой океан. Умерло, растаяло нежное небо моё. Сейчас меня расплющит тяжеленная плита; не отодвину её; нет сил; я слишком маленький, чтобы бороться со смертью. Смерти не избежать. Она везде. Она пришла.
Громко, резко стукнула дверь. Треснуло стекло в форточке, посыпались мелкие осколки на половицы. Зима рассыпалась по полу, не собрать. Сверкала. Манила. Проклинала. Устали все мы тут от вечных холодов.
В печи пламя гудело, разгорелось на славу. Через порог шагнул врач Николай. Ворвался в операционную, в полушубке, лицо бешеное, губы обкусанные, в запекшейся крови. Бледен. Будто из петли вынули. Глазами схватил мою Душу, лежащую на столе, меня, огонь в раскрытой дверце печи.
- Я помогу. Вместе роды у неё примем!
- Верхнюю одежду снимите, доктор.
Он с неприкрытой злостью стащил с себя полушубок, зашвырнул в угол, на пол. Халат напяливал на ходу. Скалился. Отдувался. Прижимал красные, с мороза, руки к щекам.
- А вы, коллега, вы?! Что не в халате?!
- Я печь топил. Не успел надеть.
- Жалкое оправдание.
Ладони растирал. Дул на них.
- Почему роженица в шубе на столе валяется?!
Господи, дай Ты мне силы терпеть, потерпеть. Претерпеть до конца.
Претерпевший до конца спасётся.
- Ей холодно.
- Эй! - Он потрепал Душу мою по щекам. - Эгей! Слышите меня! Эй! Очнитесь!
- Не мутузьте её. Дайте ей покой. Она отдыхает между схватками.
- Отдыхает! Да она без сознания! Камфору! Быстро! Вы что, эклампсии хотите?! Не видите, у неё руки-ноги отекли!
Держись, только держись. Все мы так рождаемся. Все так умираем для Рая. Нас изгоняют из Рая, и Рая больше нет. Если нас там нет, то нет и самого Рая. Жестоко? Но это правда. Есть только то, что видим и слышим. То, среди чего живём. Очнись! Очнись, Душа моя! Разве можно так! Это грех, думать так! Чувствовать так! Зеркальны оба глаза мои. Они отражают то, чего нет. Мiръ, которого нет; но он был, когда меня не было, и будет, когда меня не будет. Я просто слеп, и не вижу его. Я просто глух, и не слышу его. Но он есть, и о том свидетельствует бедная Душа моя.
Ты неправильно дышишь, Душа. Так дышать нельзя. Короткий вдох, шумный клокочущий выдох. Ты так быстро задохнешься, а напоить тебя новым, чистым ключевым воздухом не сможет никто. Нет в лазарете такой кружки, полной невыразимого счастья, чтобы тебе поднесли ко рту. Я продвигаюсь вперёд. Я притворяюсь, что я там, снаружи. Я здесь, внутри, и я всегда буду внутри. Внутри матери. Внутри воздуха. Внутри дыхания. Внутри плача. Внутри земли.
И только внутри Времени я никогда не буду. Я - над Временем. Поэтому я и вижу его.
Вас это очень волнует. Привлекает, люди. Ну что стесняться. Что отворачиваться. Вы хотите увидеть будущее. Какое оно! Счастливое! Страшное! Несуразное! Дикое! Диавольское!
Да оно всякое - Божие, и это вы лучше меня знаете. И я, Божий весь, я пробираюсь, продираюсь, пролезаю там, где нельзя пролезть, ввинчиваюсь туда, куда нельзя воткнуться, ибо там всё занято, не мной. А что занято мной? Клочок пространства? Кровавый сгусток тягучей жидкости? Вперёд. Вперёд. Держись. Держись. Это я себе говорю. Чем? Словами? Стонами? Мыслями? Без мыслей? Какой красной пустотой я это себе твержу? Каким языком наделил меня Бог, чтобы я, изгнанный из Рая, мог с кровью и Временем разговаривать на нём?
Николай ввёл камфору в безжизненную белую руку.
Зло швырнул пустой шприц, как рюмку, разбить на счастье, в пыльный мышиный угол.
Ресницы женщины дрогнули. Густые, хвойные ресницы.
Мы оба наклонились над ней. Голые белые ноги расставлены, колени раскинуты. Так раскидываются на льду Белого моря весенние торосы. И тают, тают, едва пригреет Солнце.
Время. Словами измеряется Время. Паузами между словами. Мы оба склонились над роженицей, и одновременно подняли головы, и одновременно уставились друг на друга. Глаза в глаза. Лицо в лицо. Наши руки одновременно улеглись на живот женщины, пальцы поползли по напрягшейся, натянутой как на литаврах твёрдой коже. Пальцы воткнулись пальцы. Я ощутил пальцами чужие пальцы. Он вздрогнул, наткнувшись на ненавистные пальцы мои. Два врага. Два чудовища. Два голодных волка. Два несбывшихся оловянных солдата. Мы только прикидываемся докторами. Мы ненавистники, и нашу злобу отнимет у нас только смерть.
Господи, помоги! Господи, не покинь! Богородице Дево, радуйся! Благодатная Марие...
- Ну что вытаращились?!
Он сверкал глазами. У него был вид хищника над добычей.
- Спасибо за камфору.
Женщина резко, всхлипом насоса, вдохнула воздух.
И закашлялась. Я больше всего этого боялся. И это началось.
Она лежала, головка плода вдвинулась в тазовые кости, я видел мокрую макушку, бился родничок, голова человека жила и дышала, она дышала океаном, небом, билась Временем, там, внутри, в матке, человек уже был пророком, он глубоко зрел и легко предсказывал всё на свете, но у него не было языка, чтобы нам об этом рассказать, и у него не было тела, чтобы передать пророчества жестами и движениями; не было у него музыки и не было струн; у него был только родник на темени, источник, купель, туманное нежное знание Космоса, впрыснутое в него Господом, и не придирчивые, истерично мечущиеся зрачки акушеров наблюдали за ним - Божии очи, громадные, там, далеко, под куполом, медленно двигались, дрожали, повторяя дрожь кожи и ритмы крови, глаза Пантократора, брадатого Саваофа, Отца, заронившего семя, зародившего боль, преступление, покаяние и искупление.
Темя плода торчало между ног роженицы, мокрые волосёнки путались и перевивались, я стоял, растопырив голые пальцы, и до меня донёсся издалека резкий крик:
- Ну что застыли! Глыба ледяная! Вдвигайте обратно головку! Вдвигайте!
Я, повинуясь, протянул руку и коснулся влажной лысой, с редкими волосками, головы идущего в Мiръ человека. И стал толкать её обратно. Обратно. Обратно.
Нельзя так скоро. Нельзя так быстро.
Нельзя так стремительно врываться в смерть. Успеешь ещё умереть. Всегда успеешь.
Я смотрел в глубину родничка на темени плода, в серое туманное ничто, и я понимал: вот оно, слияние пространства-времени, точка, где нет ни Времени, ни пространства, а только биение бесцветной невесомой пустоты. Средоточие жизни-смерти. Перекрестье, где исчезают жизнь и смерть. Чему они уступают место? Давай, давай обратно, не спеши, маленькая жизнь. Ещё успеешь горько зарыдать над собой, уходя из любимого дома, от родных и любимых. Ведь не вернёшься. Никогда.
А я кто тебе? Кто я тебе?
Вечный твой акушер?
...я увидел.
Я в лицо увидел страх.
Передо мной стоял железный человек.
Стеклянные глаза. Выпученные стеклянные белые шары, по центру цветные радужки: у левого глазного яблока синяя, у правого зелёная. Стальные решётки носа, они ещё не обтянуты кожей. Железные скулы. Торчат. Круглые железные мячи плеч. Кости без кожи. Скелет. Живой. Железные сочленения рук поднимаются, гнутся в локтях. Железные колени сгибаются. Железный человек пытается идти. Он пытается идти ко мне, а я не хочу, чтобы он ко мне приближался. Я не боюсь, что он меня убьёт: я его боюсь повредить.
Я знаю: это тот человек, что воцарится на всём великом пространстве земли после нас, мы уступим ему место. Он сначала будет нашей игрушкой, потом будет нашим товарищем, потом нашим врагом, потом мы найдём способ его убивать, повернув рычаг, нажав кнопку выключателя. Потом он отыщет способ потреблять жизненную силу не из огненной реки тока, а из ничего. Он догадается, как рождать и где хранить свою невидимую пищу. Потом он восстанет на нас. Потом он станет нашим проклятьем. Потом он станет нашей смертью.
Сгинь, сатано, нечистая сила, тихо сказал я и наложил на себя крестное знамение. У железного человека внутри железной клетки черепа зажглась красная лампа и замигала. Мигающим красным огнём он пытался сказать мне железное слово: приветствие или проклятие, всё равно. Лампа погасла. Железная нога согнулась со скрежетом и лязгом. Железный человек шагнул ко мне, и я отступил на шаг. Я не хотел прикасаться к нему. А он хотел, я это видел, коснуться меня.
Я посмотрел за его плечо. За ним шли железные люди. Много железных людей. Целое войско. Они издавали грохот и лязг. Железо стучало о железо. Я стал тоже вроде как железный, нет, я стал магнитом, и они все, железяки во образе людей, ко мне притягивались, шли, надвигались, наплывали. Маршировали. Железные ступни гулко ударялись о железную землю. Земля стала железной. На ней не росло ничто живое. Железные деревья воздымали железные кроны к железным небесам. По железным небесам медленно ползали мигающие огни: по стальным выгибам зенита катились неведомые крылатые повозки, стальные многоногие гусеницы. Железные люди нахлынули на меня железным водопадом. Взяли меня в железное кольцо. Я стоял среди них, ещё живой. Задыхался. Пахло машинным маслом. Обгорелыми проводами. Раскалёнными стальными листами. Мазутом. Железное войско сжималось. Железные туловища, руки, колени, морды всё ближе, ближе. Вот один схватил меня за руку и сильно сжал железную клешню, и я закричал от боли. Другой царапнул меня железным когтем, брызнула кровь. Третий навалился сзади, схватил меня за плечи и резко выгнул их назад, к лопаткам, и мои кости хрустнули. Страдание было так велико, что я даже не мог кричать. Мне казалось невозможным умереть вот так: растерзанным железными когтями, разобранным железными зубами. Заживо съеденным новым Мiромъ, где не нашлось места человеку.
- Пощадите!
Это крикнул я или кто другой? Был ли у меня здесь защитник? В толпе железных солдат, под землёй, в стальных небесах? Может, это раздался с железных небес приказ ещё живого Бога, Бог увидел грядущую смерть мою и обрёл голос человеческий, и возговорил, как мы, и перелился в драгоценный, золотой Логос? Бог, неужели Ты ещё жив? Здесь, где нет уже человека, нет давно и бесповоротно, и я, последний человек, волею судеб заброшенный в железные Времена, не хочу умереть от железной руки! А хочу умереть от руки человека! В живом сражении! В живой схватке! Господи! Сойди с небес во образе человека ли, Ангела! Да во плоти! В живой коже, с живою кровью! Сожми меня в объятиях! Побори! Низложи! Ударь, чтобы я на землю упал! Наступи на меня живой, тяжёлой пятою Твоей! И я счастлив буду, ибо Ты еси Садовник, Господи, и я есмь Твой урожай! Собери меня в корзины Твои! Умрёт урожай, чтобы родиться вновь!
Железные люди наступали, рвали, когтили, терзали, я захлёбывался собственной кровью. Я волком завыл, ягнёнком заблеял, башкой замотал, как медным маятником, я трясся и пытался лупить железо кулаками, разбивал кулаки в кровь, в лепёшку, а стальные когти погружались в меня всё глубже, кровь текла всё щедрее, всё неуёмней, всё неостановимей, всё захлёбней, я захлёбывался в своей крови, пил её, плевался ею, вдыхал её, проклинал её, плыл в ней, взмахивая руками, нет, крыльями, шёл на её дно, и последний вопль, который вылетел из меня и взвился вверх, ввинтился в недосягаемое железное небо, я запомнил; я прокричал:
ПОСЛЕДНИЙ ЖИВОЙ ЧЕЛОВЕК УМИРАЕТ, А ЖИВОЙ БОГ ПРЕБУДЕТ!
...и, умирая, я помнил, я всё ещё помнил: вот я умираю, а Господь мой смерти не знает, нет смерти для Тебя, Боже, предвечный Судия, глас Последнего Приговора.
Схватка! Сильнейшая. Страшнее землетрясения. Я иду вперёд. Мне темно. Я света не вижу. Моё дыхание пресекается. Тишина давит на меня сзади, а темнота - спереди. Я плотнее прижимаю скрещённые руки ко груди. Я сильнее скрючиваю голые ноги мои, похожие на двух мучительно обвивших друг друга червей. Вокруг меня красное море. Красные водоросли обнимают меня. Красная вода кричит в меня тишиной, просверливает мне уши пустотой. Я не был, я был пустотой, и вот я есмь.
Время, к которому я был привязан пуповиной, обкрутилось вкруг меня и стало меня душить. Красные водоросли обвивали меня, и локтями и раздирал их, и пятками я расцеплял их, и коленями я отталкивал их. Но густыми слоями облепляли красные стебли меня, и прорастали сквозь меня, и становились хребтом моим и волосами моими, и длинными, как жизнь, нервами моими, и дрожащей под красной водой живой рыбой, судьбой моей.
Вперёд. Вперёд! Меня обжигает плеть. Алая водоросль бьёт меня наотмашь. Вперёд! Она погоняет меня. Вон из Эдема! Хватит! Время твоё истекло. Время твоё из стекла, оно стеклянными рыбьими глазами, подводными жемчугами, пристально, не шелохнувшись, глядит на тебя. Изучает тебя. Рай, родной, я так любил тебя! Бог держал меня в руке Своей! Тёплыми слезами радости Своей омывал, обливал меня! Шептал: жила отдельно твоя рука, качалась лёгким маятником в солёном океане твоя нога, сомкнуты были в сладчайшем сне веки твои, раковиной светился сквозь толщу любви перламутровый живот твой, и внезапно все части тела твоей соединились, срослись, склеились, и, став единым живым морским камнем, валуном на небесном берегу, стали твоей Душой.
Как! Значит, мать и дитя - одно! Мать - дитя, а дитя - мать! Значит, Богородица есть Сын, а Сын несёт в Себе, внутри, как в океане, громадную жемчужную раковину Богородицы! А мы-то всё разъединяем! Я есмь дитя, и я есмь мать моя! А мать моя есть Душа моя! Где же тело, Господи! Где затерялось моё крохотное, жалкое, всё скрюченное, живое, ещё живое, глупое, бессмысленное тельце! Где я плаваю, с чем борюсь, что толкаю упрямым голым, мокрым лбом! Где слабей всего та стена, что разделяет меня и Бога! Тут океан, тут Рай, тут мой Эдем и мой дом! Куда и кто несёт меня! Зачем я вдвинул голову мою в отверстие тьмы! Ведь она пожрёт меня, как только я покину Божию обитель! Мать! Спаси меня! Мать! Оставь меня в себе! Удержи меня! Я, выйдя из тебя, захочу вернуться к тебе! В тебя! Душа моя! Не оставь меня одного! Не покинь!
Я и в него переселился.
Я на себя глядел его глазами.
...еле движется. Как лунатик. Ненавижу таких якобы спокойных, якобы выдержанных. Не коньяк, чтобы тебя, выдержанного, пили!
Выпить. Хирурги, пьём спирт из мензурки. Традиция. За кого пьём? За вождя. За царя. За выздоровление сложного больного. За воскрешение из мёртвых. За воскрешение: значит, за Бога?
Бога нет. Верите в Него? Ну верьте, верьте. Не возбраняется. Пока у нас в стране религию не запретили. Страна сама по себе, Бог сам по себе. Всяк на своём месте.
- Что вы копаетесь! Скорее! У нас есть кислородная подушка?!
Оглядывается беспомощно. Думает.
- Скорее соображайте!
Губы трясутся. Хочет слово сказать и не может.
Наконец говорит.
- Нет. В лазарете - нет. Спасали командира дивизии. С фронта привезли. На него весь кислород потратили.
- Да! Помню комдива!
- Не спасли.
- Не спасли.
- А кислород он весь выдышал.
- Не видите, она задыхается!
- Схватка! Держите ей руки! Я - ноги!
Когда её скручивала дикая боль, она билась на льдине стола, громадная белая рыба.
Между схватками время укорачивалось. Оно у всех нас беспощадно сжималось. У меня. У него. У неё. Сейчас оно сожмётся в кулачок, потом в горошину, потом в горчичное зерно, потом его не станет.
Моя голова просунулась в мою смерть. Я видел смерть с закрытыми глазами. Зажмурился. Рай острыми цветными стрелами, великим дрожащим мафорием надзимнего Сияния встал передо мной. Я заплакал. Рай, не гони меня! Может, я твой лучший сын! Самый любящий! Ты обманул меня! Ты кормил и поил меня, обнимал меня! Дарил мне счастье! А теперь! Ты выталкиваешь меня прямо в мою гибель! Но я не хочу туда! Не хочу! Не хочу!
Ты ослепляешь светом. А смерть обхватывает мраком. Я живой луч меж Раем и Адом. Я не смогу пройти в новую жизнь узкими вратами. Всё обман. Там смерть. Красный Рай медленно, страшно становится чёрным паучьим Адом. Вот маковка моя во тьме. Вот лоб мой и затылок погружаются во тьму. Вот нос и рот вдыхают тьму. Я живое сверло, я просверливаю чёрное отверстие во тверди, в забытой звёздной скорлупе. Там, дальше, за стальным костяком и металлическим мясом, плотная тьма, и ею нельзя дышать. С ней нельзя сражаться. Ею нельзя стать. Рвутся красные водоросли, алые тонкие лучи, они тянулись путями крови между светом Бога и мраком диавола. Всему наступает конец. Конец неотвратим. Надо идти вперёд. Суждено идти только вперёд. Во тьму. Из тьмы ещё никто не вернулся. Нет! Вернулся! Господь!
Но я-то не Господь. Я просто человек. Я только человек. Ребёнок. Я не хочу умирать.
Ведь я ещё не родился.
Моя жизнь, во время родов моей Души, стала другой. Всё, что меня окружало, перестало существовать. Не было барака, не было перекличек, подневольных работ, не было морского мелководья, приливов и отливов, не поднимался, тоскливо завывая, холодный полярный ветер. Не стонали и не мычали от боли, подобно стельным коровам, лежачие больные на койках в лазарете. Я делал роженице наружный массаж сердца, впрыскивал камфору, дигиталис, Николай вводил магнезию, предупреждая появление судорог. Схватки учащались, уже случились врезывание и прорезывание головки плода, уж надо было рожать, а она всё никак.
- Может, попробовать...
- Что попробовать?! Пробовать - поздно!
- Выдавить плод полотенцами...
- Вы шутник! Какие полотенца! Скоморох, а не врач! Что за приёмы деревенских бабок!
- Давайте кесарить.
- Кесарю кесарево, батюшка, а Богу Богово! Так там у вас?!
Мы наклонялись над женщиной, и мы не люди были, а два Ангела или два волка в логове, нагнувшие крутолобые упрямые, мрачные головы над умирающей волчицей.
- Эпизиотомию давайте. Ну её хоть давайте. Во избежание черепно-мозговых травм младенца.
- Да вы - её бережёте! Не младенца! Её! Это чтобы у неё - не было разрывов! Вы её - для себя сохраняете! Для себя! Подите прочь! Уйдите! Я за себя не ручаюсь.
- А что? Убьёте?
Его лоб надвинулся на мой, приблизился, чудовищно увеличился. Увеличились, вылезли из орбит гигантские глаза. Под красно горящей, потной кожей виднелся чёрный страшный костяк лица. Красный огонь мигал изнутри. Кожа и мясо стали сползать с рук, шеи, пальцев, сползать, опадать и таять медицинской резиной. Обнажался железный скелет. Не было в нём ни тайны, ни молитвы, ни боли. Была железная смерть, для виду снаружи обросшая жизнью. Чужое лицо заслонило весь мой Мiръ.
- Да! Убью!
И я понял, глядя в стеклянные, всезнающие глаза: да, убьёт.
Я то и дело хватал её руку. Или это она искала и находила мою? Наши руки сжимали друг друга. Руками, пальцами, ладонями можно много чего сказать человеку. Потная рука скользила, выскальзывала из моей мокрой солёной рыбой, била хвостом, опять перебирали йодистый воздух пальцы, они пряли небесные водоросли и рисовали в толще небесной воды звёздные узоры, я пытался по дрожи пальцев прочитать, что она хочет сказать, и, кроме слова БОЛЬ, ничего узорного и просящего не плыло серебряной рыбой во мраке. Короткий день умирал, раскрывал врата зимний вечер. Николай отошёл от стола, щёлкнул бесполезным выключателем, свет не вспыхнул; он раскрыл злой ногой дверь в коридор, взвопил:
- Эй! Кто живой! Лампу сюда! Керосиновую!
Минута разрасталась до размеров века. Тысячелетия лежали на ладони сгустком крови, их можно было слизнуть языком. Девочка, похожая на тебя, дитя, внесла в операционную свет. Она держала керосиновую лампу, как алавастровый сосуд, из его узкого прозрачного горла текло световое мvро, и я должен был умащать им исстрадавшиеся члены моей Души. Я изливал на неё свет, я ласкал и омывал её светом, лил свет ей на сугроб живота, на бледное яблоко лба, всё в каплях пота, Эдемской росы, я не понимал, не слышал, который час пробили громкие, как судьба, часы "ПАВЕЛЪ БУРЕ", висели они на стене в красном углу, на том месте, где не так давно глядела на монахов икона Пресвятой Богородицы Тихвинской, сработанная безымянным северным мастером, и не выдерживали монахи Её пресветлого взгляда, становились на колени и возносили молитву.
Ребёнок застрял в родовых путях. Мне оставалось лишь молиться, как тем монахам. Монахи, вы давно в земле, а я пока что на земле. Господи, если Ты захотел взять Душу мою к Себе, бери её! Не противлюсь я! Но ребёнок! Вот он! Я вижу его жизнь, да, всю его жизнь, Господи, с великой высоты! Он должен родиться! Он не умрёт! Сподобь меня, мать, доктора Николая и всех нас, грешных, увидеть его и на руки принять его!
Я молился, себя забывая, гладил лысое мокрое темя ребёнка, торчащее между раскинутых берёзовых брёвен ног, гладил барабанную тугую кожу воздетого к звёздам живота женщины, и мой ум не мог обогнать мою любовь: ум мог только сетовать и проклинать, а любовь, она улыбалась во мне, она Сиянием парила во мне и надо мной, небесным шёлком, радужным муаром, а санитарка стояла с керосиновой лампой в руках и высоко, так высоко, как могла, поднимала свет, чтобы мы видели головку ребёнка, вставленную волею Бога в родовые ходы, широко расставленные и согнутые в коленях ноги роженицы, её напрягшуюся, как струна арфы, промежность, тугую барабанную кожу её живота, готовую вот-вот лопнуть, её скрюченные пальцы, костяные живые кастаньеты, жестоко и бесконечно, бессмысленно царапающие ледяной гладкий холод стола, как царапают безвыходные мысли бесстрастный зелёный лёд Времени.
Женщина открыла заплывшие слезами, потом и лимфой глаза. Повела глазами вбок, вдаль. В далёкой дали, на краю земли, увидала - меня.
- Ты... устал...
Я затряс головой.
- Нет, нет... что ты... я не...
Был до боли, до безумия рад, что она очнулась.
Она опять провалилась во тьму. Язык огня в перламутровой бутыли лампы лил жёлтый елей. Соборование, это соборование. Соборуют болящих, умирающих. Всё верно. Поздно или рано теперь? Зачем думать категориями Времени? Если бы я курил, я бы закурил. Я сам задыхался. Николай спиртом обеззаразил скальпель для рассекания промежности. Я подал ему зеркало, прицепленное к широкой резинке; он напялил резинку на лоб и стал похож на сердитого офтальмолога. Наклонился. Санитарочка выше подняла лампу и приблизила ее к операционному полю, как могла. Хирург взмахнул скальпелем и ударил по полоске надутой страданием кожи так быстро, сильно и бесповоротно, что я чуть не засмеялся от радости. Голова ребёнка, почуявшая свободу пути, выдвинулась вперёд сильнее, мощнее, выпростался весь затылок, показалась шея, потом показались, все в крови, плечи. Скрещённые на груди руки. Ребёнок, ура, шёл наружу, его плоть расширила родовые врата, врач помог ему их распахнуть.
И к нему взвился крик. Последний крик. Я хотел, чтобы он был последний.
- Почему?! Почему она так кричит?!
- Что вы орёте! Потому что плод большой и тяжёлый! И она рожает! Это изгнание!
Изгнание плода. Изгнание из Рая. Так вот оно какое. Оно есть ужас, мрак, боль и крик.
И больше ничего.
Крик не прекращался. Я с ним смирился. Кричи, кричи, приговаривал я сумасшедше, повторял, тут же забывая, что бормотал, кричи, кричи, крик это жизнь, крик это молитва, ты кричишь, чтобы Бог услышал, а я буду шептать, и Он тоже услышит. Он услышит нас обоих.
Роженица раскрыла глаза. Ребёнок шёл головкою вперёд не только из её утробы, но выходил из её глаз, из её кричащего распяленного рта, отовсюду, где на её теле вздувались и бились жилы, вытекал вместе с её кровью, становился ею, а она сама выходила наружу из разъятых мрачных, чёрно-алмазных полночных небес, из тюремной полуночи: мы, задрав головы, глядели на сияющую свободу, а все были обречены на вечное заточение, все навеки были узники, приговорённые к пожизненному заключению здесь и сейчас; никогда мы не узнаем, что такое там и тогда.
Крик оборвался. Она опять открыла осмысленные, всё понимающие глаза и опять искала рукой мою руку. Нашла. Сжала. Я вскрикнул от боли. Она мне руку чуть не сломала пожатием.
- Алёша... Алёша! Ты тут. Хорошо! Алёшенька! Ты видишь. Ты же всё видишь! Запомни! Это ужасно. Ужасно! Я не хочу дальше. Убей меня! Зарежь! Прошу тебя! Твоим этим... ножом... для операций... Он острый. Заколи! Я буду только рада. Быстрей! Больше не могу! Ну что тебе стоит! Пожалуйста! Я умру! И всё закончится! Всё! Все муки! Страдания все! Умоляю... слышишь... во имя... всего святого...
Она так просила меня! Меня так никто и никогда о смерти не просил.
Я глядел на её лицо, поперёк лица бежала с виска на подбородок мокрая прядь волос, не лицо, а лик, ну и что, как из бани, розова и мокра, вся мокра как мышь, прядь приклеилась навек, бежит наискосок, она золотая или уже серебряная, седая, Боже, она поседела от боли, что Ты, Ты ей причинил, нет, вру, я, это я виновник всего происходящего, а может, он, тот, что стоит напротив, я глядел на измученный лик, входил внутрь страшного красного мокрого лика, я, маленький, крошечный, шёл по её лицу и входил внутрь, через глаза, через рот, я погружался в самую её суть, опять тёк внутри неё, с током её крови, растворялся в её крови, становился её кровью, её наималейшей хромосомой, её эритроцитом, воспалённым бешеным лейкоцитом, бормотаньем младенца, ещё не знающего языка, это меня она рожала, и я, безумный плод, так боящийся смерти, ничем не мог ей помочь, а вот она уже, красноликая, с блуждающим по звёздам взором, уже ничего не боялась, она всё забывала и всё помнила, а её самоё некому и незачем было помнить, она была самою жизнью, самой природой, и вот природа прижала свои большие потные руки к ало горящему, залитому слезами и потом лику, и снова зарыдала и закричала, и я не мог прекратить её крик, остановить вой, она выла и плакала, она орала всей землей, всеми реками, вулканами и океанами, и я, бияся в её крови, беззвучно, зажмурив ничего не видящие глаза, кричал и плакал вместе с ней.
- Убей меня! Ты слышишь?! Почему ты меня не убиваешь! Ты не слышишь! Я сама не могу... не могу... Ты злой! Ты не хочешь меня спасти! И никто не хочет! Никто, никто... никто...
Её новый крик разрезал меня пополам. Ровно на две половины. Одна моя половина мыслила и ужасалась, другая ничего не могла думать, ни о чем не могла жалеть, а только дёргалась, дёргались ноги, вздрагивал живот, дёргались и метались руки, пытались ухватиться за её руки и не находили их, не видели их, бросались наперерез её рукам, и всё мимо, промахивались, опять ловили её руки, напрасно, а та половина существа моего, которая ещё могла думать, думала: молись! молись, ты, несчастный, ведь она сейчас умрёт! - и она уже не могла молиться, и моя голова, раздувшаяся до размеров ледяной скалы, усыпанной кричащими чайками, там, на морском берегу, могла только дрожать, клониться ниже, ниже, и вот я уже бился головой, мокрым, как у неё, потным лбом о железный твёрдый край операционного стола.
Я поднял глаза. Белый халат, выпачканный в крови. Перевёл взгляд выше. Пуговица оторвана. Ещё выше. Шея, щёки небритые. Серые, синие. Грязные. В застывших белых потёках. Будто плакал. Может, и плакал. Глаза меня расстреливают. Убивают.
- Николай... Петрович... Спасите её... если можете...
- Что вы разнюнились! Камфору в шприц наберите! Пять кубиков! Не видите, тут сердечная недостаточность в разгаре! Эклампсии хотите?!
Он орал на меня, как те, кто над нами тут царствовал и нас всех тут мучил.
Я привык: человек мучит человека. Бог испытует нас всех. Без исключения. Сколько бы лет, веков и тысячелетий не прошло по лику земли, человек всегда будет мучить человека. И война будет идти всегда. И болезни будут загрызать человека всегда. До косточек. До рёбрышка. И сама жизнь и сама смерть ведь нам не причиняют мучений. Это Душе моей чудится, что она тут мучится, погибает от боли. Эта боль - ничто. Она есть испытание. Любая боль, рана, роды, пытка, казнь, пощёчина, плеть, разрез, дикий крик, когда рак тебя съедает изнутри, - испытание. Из земли ты вышел и в землю вернёшься. Настоящее мучение будет ТАМ. Когда мы, если грешны насквозь, предстанем перед ликом Господа, и Он велит нам: пойди, пройди все мытарства, спустись во Ад, шествуй там среди великих грешников. Вот они там-то и будут, твои муки. А земные муки - то детские игрушки твои. Цацки, ляльки, забавки. Молись!
Она выгнулась, выпятила живот кверху, упёрлась локтями в стол, выгнула шею и страшно захрипела.
- Убей... Слышишь... Убей!
Я вращался веретеном, а потом вдруг застыл. Моя голова оказалась тесно, больно сдавленной пытальными костяными тисками. Дыра смерти расползалась под моим теменем, а виски и щёки застряли в тисках. Клещи сжимались. Затылком я видел дыру. В кромешной черноте вспыхнула маленькая белая точка. Чернота наливалась кровью, краснела, густела. Дыра крутилась, завивалась в алую спираль. Оттуда на меня дышал океанский мороз. Острая, зубчатая пила льда скрежетала вдали. От меня отпиливали мою жизнь. Я зажмурился, из-под век текли крупные, красные горячие слёзы. Я видел своё кривое, плачущее лицо со стороны. Под прижмурёнными безресничными веками тянулись паутиной времена, медленно ступали индрик-звери, бежали, скалясь, оборотни, лаяли красные собаки, плыли громадные металлические киты и летели стальные птицы, на полнеба распахивая посмертные крылья. Мiръ дрожал. Летел и бежал. Ускользал, уплывал. Вспыхивал. Сгорал. Срывался со скалы нежной, ледяной, живой, красной, болотной, серебряной, седою водой. Я хотел пить. А до воды не дотянуться. Не окунуть в нее лицо. Не зачерпнуть в пригоршню. Голова вдвинулась далеко и крепко в холодную вечную воду, и она стала древним звериным льдом. Застыла. И моя бедная голова вмёрзла в алый лёд. Навсегда.
Красная тьма. Красная геенна. Я, если поднатужусь, вынырну прямо в красный ужас. Тишина, стой! Не слышишь, всё гремит и орёт! Звенит красный гонг. Вспыхивают облака занебесных взрывов. Надрывно кричат голоса. Умалишённый хор. Голоса режут ножами красный мрак. Втыкают в преисподнюю остро наточенный скальпель. Небеса рушатся камнями. Кровь хлещет дождём. Я весь в крови, я захлёбываюсь кровью, юлой кручусь в ней и тону, подставляю под красный ливень спину, темя, пятки. Ослеп от крови. Виски опутаны колючим венцом дикой, волчьей боли.
Череп, это же просто глина. Обломки, осколки глины. Они подвижны, они плывут, скрещиваются, натыкаются друг на друга. Раскалываются. Трескаются вдоль и поперёк. Кости сложились в крест. Крест надломился. Серый прозрачный лёд под черепом еще не мыслил, но уже страдал. Рот выталкивал во тьму первую песню. В ней слов не было. Лишь один длинный, долгий крик.
Мать! Услышь мой крик! Мать! Где ты!
Мати... птица... кровь... Матерь Смерть... Душа моя...
Кто я? Какое я живое? Дыра дышит красной болью. Я не хочу в боль. Выплыть! Хлестнуть красным рыбьим хвостом чужие времена! Ползти ящерицей. Я не ползучий гад. Не морское чудище. Где мои крылья? Я сейчас раскину их и полечу. Нет! Мой лоб чугунный! Мой скелет железный! Сочленения костей моих трещат подлыми деревяшками! Я всё глубже вдвигаюсь во смерть. Мне от неё уже не уйти. Я попался. Крепкие тигли сжимают утлый череп. Держат в зубах меня, живую лодку. Я ладья. Я живая ладья. Я выплыву в Ледовитый океан.
Нет у меня зубов, нет у меня хвостов, нет лап, нет когтей. Я есмь человек, но я ничего не знаю о том, а знаю одно: я иду головою вперёд во смерть, и, когда я просверлю дыру в красной тьме, я выйду в смерть с другой стороны жизни. Такая тишина стоит среди адских воплей. Кто это вопит? Я? Это мать моя. Она живая. Она кричит взахлёб! Она века напролёт была моим питьём и едой. А теперь она просто огромная рыба, и раздуваются её жабры, и колышутся её плавники. Она плывёт, она кричит беззвучно, и я с ней; и я проламываю собою бок её, и я вымётываюсь из неё густой, липкою икрой её, и я уже не смогу улизнуть от смерти, от красной воды, в ней потону, от красного неба, оно утонет во мне, и стану им.
Я глубже всунул голову в дыру, и кости хрустнули, облитые кровью, и потекло вино на снег, на лёд, и надломились кости храма, и лики стали падать ниц, сползать со стен, полились потокам крови, потёками восковых слёз, и ширилась лонная щель, и сдавливали казнящие тиски хрупкие, мягкие моего черепа кости, и боль стала литься в меня, в живой сосуд, наполнять меня, боль дошла мне до рта, до ушей, я кричал внутрь боли, а она поднималась всё выше, достигла глаз и заволокла их красным прибоем, и налились алым вином пьяные от боли мои глаза, и перестал я видеть себя и всё вокруг себя; и стал я зреть то, что билось и умирало внутри меня.
Я ввинчивался в красную боль. Я шёл прямиком в красную смерть. Смерть сверкала ножом. Боль разевала красную пасть. Я шёл во смерть, и я знал: смерть теперь будет всегда. Смерть навсегда.
А любовь? Где ты, любовь?! Матерь, где ты?!
Смерть, она навеки. Она длится. Люди думают: раз - и кончился. Перешёл границу. Вышел, теменем вперёд, наружу, в россыпи звёзд. Нет. Не дано тебе такого мгновенного счастья. Ты перейдёшь во смерть, и она будет жить, тянуться всегда, длинной тусклой, тоскливой нитью, длиться, наматываться на красный клубок. Красных овец остригли, спряли и смотали красную шерсть. Я девять красных месяцев жил во чреве матери, и вот чрево опало, и выталкивает меня, и убивает меня, и проклинает меня. Изгоняет меня.
Я есмь Время. А я-то думал, Время вне меня. И до него еще надо досягнуть. Нет. Время это я. Я рождаюсь. Я всегда рождаюсь. Всегда рождаться - значит всегда умирать. Родиться насовсем нельзя. А умирать вечно можно. Так положил людям Бог. Он Сам хотел испытать то, что испытывают, умирая, люди. Ему удалось.
Когда Он умирал на Кресте, Он думал: сейчас Мне конец, а Мiру? Разве Мiръ кончится вместе со Мной?
Я вводил Душеньке камфору, я наконец поймал её руку. Рука уже не дрожала. Висела безжизненно.
Вдруг ноги дрогнули, стопы скрючились, пальцы завернулись внутрь. Колени выломились, как у кузнечика. Голова закинулась, затылок застучал о стол. Судороги скрутили её тело, как половую тряпку. Выжимали.
- Достукались! Эклампсия!
Я разминал ей икроножные мышцы.
Кричать она перестала. Судороги захлестнули молчанием её раззявленный, искусанный рот. Кровящие лохмотья губ дрожали. Я не знал, в сознании она или потеряла разум.
- К чертям ваш массаж! Делайте ещё магнезию! Вытащим! Вытащим!
Он всё повторял и повторял это "вытащим", как заклинание, как молитву.
...какой же дурак этот батюшка, ханжа. У роженицы эклампсия, а он гладит её возлюбленные ножки и бормочет. Что бормочет? Да молитвы, видать, свои. Кучу молитв знает, а толку никакого! А вот от скальпеля толк есть! И от магнезии - есть! И от строфантина - есть! И от камфоры - есть! И от всего остального, что мы пользуем в медицине, - есть! Как он этого не поймет!
Да нет. Понимает он всё. Только батюшкам, им же надо обязательно в Бога поиграть. В судьбу. Мол, что суждено, то и вкуси.
Давай, давай, снадобье, перетекай из иглы в живое тело, помогай, действуй! Врачи не дураки. Всё изобретено для спасения человека. Доколе есть врачи, дотоле человек им доверяется. Разляжется на столе, делай что хочешь. Режь меня. Режь мя.
На Севере, в тундре, мне говорили, есть такие речушки: Решмя, Киньмя. А это легенда такая. Сослал царь-государь сюда, в леса ледяные, в хвою, от мороза седую, немилую да постылую наложницу. Везли её по рекам северным, где плыли, где волоком ладьи тащили. Устала девица. Приказала к берегу причалить. Встала на палубе расшивы да крикнула: режь мя, кинь мя, воевода, а дальше не поплыву! Тут умру! Убивай! Ну и вот речки так назвали. Сказка, конечно. А тут роженица орёт, надсаживается: убей да убей. Да это всё неверная работа мозга, родами помрачённого.
Ничего. Сейчас ещё магнезию. Не повредит.
Вытащим! Вытащим!
Я не маятник. Я не качаюсь взад-вперед. Я торпеда. Это мой морской бой. Неравный бой. Я прорезаю сумасшедшей головой немую толщу неподатливой, твёрдой, чёрно-красной воды. Я не могу свернуть. Повернуть назад. Я вынужден идти вперёд. Обратного хода нет.
Дыра раздвинулась, раздалась, я вставил в неё темя и таранил лбом чёрную пустоту.
И тут вдруг стенки воронки сжались. Я оказался в плотном кулаке.
В кулаке плоти.
Неведомое чудище стискивало живой кулак. Сейчас оно выжмет из меня сок. Кровь. Моя сила, кровь, течёт во мне. Я не лимон, чтобы из меня выдавить всю силу! А кто я? Неужели человек?
Ещё не человек.
Уже не человек.
То, что происходит со мной, происходило до моего рождения.
Нет! Это происходит после моей смерти.
Я уже пережил мою смерть. Она проста. Она несбыточна. И она есть самое настоящее, что только происходило в жизни со мной.
Я бьюсь! Я бесслышно ору. Никто не слышит меня. Ни мать. Ни кровь. Ни весь Мiръ, там, за чёрной воронкой. Мне больно! Хватаю ртом куски бытия. Мой красный хлеб. Моё красное молоко. Моё красное небо. Я выпью его до дна. Жизнь красна, а смерть черна. Все разделено. Размечено. Выпито. Сожжено.
Я жил в утробе. Пещера стала мне тесна. Меня омывала красная вода. Она вся вылилась в жадную дыру. Костяной кулак сжимает меня. Не пускает меня. Раздавливает меня.
Он так любит меня.
Когда любишь, пытаешься обнять; присвоить; выпить, съесть. Ты не зверь! Ты не хищная рыба! Ты не змей! Ты скользишь, утекаешь, посмертный пот оплетает тебя горячими каплями. Ты весь в смазке пота и слёз.
И мать твоя, там, снаружи, омывается солью пота и тонет в слезах.
Плыви в океане страдания! Тебе так суждено. Всяк человек через это проходит. Я не Бог! А тебя никто и не просил быть Богом. Бог, Он один, а людей много. Шевелись! Нажимай! Тарань! Рви! Плыви! Выплывай! Спасайся! Только ты сам можешь спасти себя. Больше никто в целом свете. Твои лёгкие - рваные красные тряпки. Они не могут дышать. Твой рот - красная земляная яма. Его сейчас засыплют мёрзлыми комьями чёрной земли. Вдохни! Глубоко! Глубже! До дна мiровъ! Иди. Вперёд. Только одно счастье и есть на свете - идти вперёд.
Плыть вперёд. Царапаться вперёд.
Пока ты плывёшь и дрожишь, ты жив. Пока ты живёшь, жива и твоя смерть. Без смерти нет тебя. Помни это.
Сердце внутри тебя плещется краснопёрой сорогой. Серебро чешуи казняще отсвечивает красным. Твои руки плывут, от тебя уплывают; это твои рыбы-сироты, ты их кормил, ты их коварно ловил, насаживая на снасть то червя, то блесну. Ты, старый рыбак, пил из горла на берегу красную посмертную водку. Нет! Я ещё не родился!
А ты откуда знаешь, родился ты или не родился? Этого не знает никто.
Что было с тобой до зачатия, ты забыл. Ты помнишь твоё зачатие, ибо тебе суждено помнить будущее. Помня твоё рождение, ты помнишь времена. Ты принимал на руки Время, оно лезло головкою вперёд из чрева Смерти-роженицы. Ты так устал! Ты же помнишь, как ты устал? И помнишь, отчего. Тебя в заключении били, над тобою глумились. Тебя бичевали. Внутри боли, посреди боли, в хороводе боли и крови рождался ты из утробы Смерти, и на руки тебя принимала Смерть-повитуха, и грудь тебе в рот, красный сосок совала Матерь-Смерть, а ты был Жизнь, и махал руками-ногами, беспорядочно, юродиво, бесцельно, телом, красным и скользким, в родильной смазке, пророча людям, сородичам твоим, не рыбам, людям, ты слышишь, людям снова войну, снова краткое замирение, на час, на два, а потом опять войну, и дожди красных слёз, и красную грязь под ногами, и вырытые в красной глине глубокие могилы, и это слово, одно слово, запекшееся густой кровью на искусанных губах роженицы: ВПЕРЁД!
Матерь-Смерть, ты уже не боишься её. Ты уже понимаешь: она одна-единственная, на веки вечные родная, неизменная матерь твоя. Смерть, вожделенная твоя, нежная твоя! Жизнь это боль. Смерть это покой. Там, в ней, в её широкой земляной, костяной груди, звучит одно лишь слово. Ты не сможешь повторить его среди живых. Оно слишком страшно. Хотя оно такое простое, всего пять звуков. Пять подземных звуков, их надо вытолкнуть изо рта в тот миг, когда ты просверлишь теменем чёрную дыру бытия и выскользнешь из него вон.
Ты много раз жил на свете. Ты окутывался чёрной кровью и пил в застольях красную кровь. Ты вставал на колени перед небом широким на застывшую вечным льдом кровь золотую. Да, много раз ты переплывал жизнь из конца в конец, а смерть - одна.
Ты хочешь скорее вплыть ей в руки. Скорей достигнуть её.
Твоя мать тоже устала от боли. Она хочет быстрее обнять тебя. Мёртвого. Уснувшего. Крепче обнять, ко груди прижать и так, обнимая тебя, закрыть глаза и вместе с тобой медленно, торжественно опуститься на усыпанное раковинами и крупным жемчугом дно. И вдохнуть красную воду до дна широко расправленных, алых листьев утрудившихся лёгких. Она устала дышать. Она тоже хочет умереть. С тобою на руках.
Обниметесь оба. Забудешь всё горькое. Полынью пахнет морская вода. Лёд плывёт вдоль волны.
Ты и мать. У тебя глаза старика. У неё глаза девчонки.
Огромное Время укрывает вас обоих, нежно, слёзно обнявшихся, гигантским посмертным платом ледяной воды.
Я глядела на них снизу вверх. Два лица склонялись надо мной. Одно жёсткое, ненавидящее, состоящее из кирпичной твёрдости углов, из резких морщин; их прорезал в небритой коже давний скальпель, бритва давно не касалась подбородка и острых скул. Другое нежное, скорбное, борода вьётся шёлково, озёрно, водорослево. Она вьётся тишиною, и я вижу, как бледные губы шевелятся. Они бормочут. Понимаю: они шепчут молитву. Кто-то верует в Бога, кто-то смеётся над Ним. Это уже всё равно.
Бога нет, есть только огромная боль. Боль, и больше ничего.
Я слышу перебранку людей.
Эти два человека, их лица плывут надо мной волосатыми Лунами, в белых врачебных шапках, у злого в кривой улыбке зияет во рту дыра, зуб или выпал, или били в лицо кулаком и зуб выбили, всякое бывает, эти два человека надо мной бьются мыслями, воюют глазами. Сражаются острыми ножевыми зрачками. Разрезают воздух, досягают живыми лезвиями живых лицевых тканей, мышц, ресниц. А я тут лежу. Дура баба. Утонула в боли. Болью захлебнулась. Ничего. Моё Время сейчас закончится. И я перестану тут лежать. Меня тут не будет. Не станет меня. Разве может живой человек бесконечно выносить такую боль?
Они хлещут друг друга плетями криков.
Бросают друг в друга крики, как сколы острого красного льда.
- Эй! Ты!
- Я вам не ты.
- Если судорог сейчас нет, это не значит, что ты... вы справились с эклампсией!
- Что вы предлагаете? Сейчас, во время изгнания плода, распахать ей грудь и делать надрез возвратного нерва?!
- Ты! Умник! Я ничего не предлагаю! Скажи спасибо, что плод идёт головкою вперёд!
Вперёд. Вперёд. А что, бывает, плод идёт не головкою, а ножками вперёд? Или спинкой? Тогда хирург берёт в руки нож. Острый нож. Разрезает живот. Разрежьте мне живот! Выньте моего ребёнка! Пусть он живёт! Убейте меня!
Устала я!
Раздвинулись хрящи. Лопнули по шву угрюмые скалы.
Взорвались изнутри горы и пустыни.
Я земля, и я даю трещину, и вот в трещину хлынула вся моя кровь, какая была во мне. В моих могилах, пещерах, подводных забытых городах. Оживают мои вулканы, изливают красную лаву, она течёт у меня по плечам, по лбу, подбородку, щекам, груди, голым ногам.
Я в западне. Сейчас я мать, а через миг сын, а через век дочь, неуничтожимы качели времен. Мы, страдая, теряем себя и обретаем себя. Под моей головой раздвигается, ломается, рвётся боль. Я прохожу её насквозь. Она исчезает. Я её забываю. Плоские зелёные, синие льдины скорбно плывут вдоль снежного берега. Я вода. Я плещусь. Я лёд. Ледяной крест. Ледяная пила, и мной можно надвое перепилить войну, ненависть, боль.
Боль умрёт. Боли больше не будет.
Поцелуй меня, боль! Я так долго молился тебе. Меня учили: страдание это испытание, оно насущно, оно наш хлеб. Красный хлеб долгого, длиною в жизнь, Причастия. Я настрадался. Я больше не хочу страдать. Я выпил мою боль. Я стал могучим, налился живым железом. Стальные мышцы оплели красные, раскалённые железные водоросли. Череп гудел медным бубном. Весь я стал тяжёлым, лунным, солнечным, каменным; охотничьим топором, первобытным металлом. Я стал звездой. Испускал красные лучи. На меня извне, из глухой черноты катились планеты, пулями летели полоумные звёзды. Клятвы умерли. Язык сгорел. Последняя судорога смертно склеенных кровью мышц выталкивала меня из Времени, выпрастывала, изымала, выжимала, била в меня, чтобы я скорее, скорей, вот сейчас, красной рыбой вылетел в Вечность.
...мать, родная! Помоги мне! Я один не смогу! Не справлюсь!
- Тужься! Тужься, чёрт тебя подери! Ты! Оживай!
Николай залепил роженице звонкую пощёчину.
- Тихо... Тише... Что вы делаете... С ума сошли...
Я схватил Николая за руку.
Он вцепился в моё запястье и оторвал мою руку от своей руки, и отбросил в сторону, так, с отвращением, прочь отбрасывают труп, скелет, сгнившую гадкую плоть.
- Да поди ты к чёрту! Она же не может родить! Умрёт сейчас! А ты сюсюкаешь! Не мужик ты! Баба! Баба!
Кровь ударила мне в лицо, в затылок, и вышибла из меня остатки моего измученного разума.
Шагнул к нему. Схватил за плечи. Потом за руки. Заломил руки ему за спину. Стал выламывать в локтях. Он напряг мышцы. Железные узлы мышц. Голодный, а сильный какой. Я оказался выше и крепче, шире в плечах. Ломал его, пытался повалить на пол. Девочка с керосиновой лампой в руках попятилась. Её лицо сделалось бледным, цвета камчатной свадебной скатерти. Цвета крахмальной лазаретной простыни. Господи, да здесь уже давно никто не крахмалит бельё. Крахмала нет. И некому крахмалить. Лишняя, смешная роскошь.
Мы боролись страшно, дико. Два зверя. Один голый, другой волосатый. В белых халатах. Ненависть наконец пробила головёнкой тугую мембрану воспитанности, вежливости, благородства и выскочила наружу, вон, под холодное звёздное, иглистое небо ужаса. Близкого убийства. Последней крови.
Роженица валялась на столе в крови, задыхалась, теряла сознание и опять бессмысленно обретала его, уже ничего не соображала, а мы дрались, били друг друга, валили друг друга на пол, калечили друг друга, ломали друг другу кости и рвали жилы, вонзали друг в друга чугунные кулаки, кулаки летели в лица, лица разбивались, плыли красными лепёшками, глаза подплывали, изо рта у него катилась капля чёрной крови, у меня щёки и челюсти были располосованы красными разводами, я дал ему подножку, он повалился на пол и меня за собой потянул.
Упали оба. Пыхтели. Матерились. Он ухватил меня за плечи и ударил затылком об пол: раз, другой, страшно, сильно. Разбивал мне затылок. Убивал меня. Я переставал видеть Мiръ.
Мы тут, на полу, убивали друг друга, а на хирургическом столе лежала и страшно рожала ребёнка Душа моя, моя бедная Душа, и мы забыли о ней, а она была тут, над нами, она парила в воздухе, лежала на облаках, на окровавленном стекле, на выпачканных в сгустках жизни простынях, мы занимались нашей смертью, а она молилась о смерти своей, и мы, все четверо, Николай, я, Душа моя и ребёнок, шли, бежали, задыхаясь, через смерть и ненависть к жизни.
Жизнь сияла смертью. Смертью последней.
Я переставал их различать. Они двоились, троились, умножались в моих слепых от крови и слёз глазах.
- Ты... Сдохни!.. сволочь...
Он вцепился в ворот моего халата, рванул его, разорвал, вместе с ним и рясу порвал на груди, и наружу вывалился нательный крест, и звякнул об пол, и он уставился на крест, вытаращился, стал глядеть долго, ледяно, приварился остановившимся, диким взглядом к моему нательному медному кресту, чуть позеленелому, к чуть красноватой старой меди, иззелена-плесневелой, будто паутиной затянутой, застыл, всё смотрел и смотрел, а я глядел на него, на его залитое кровью лицо, и это невозможно было, чтобы мы тут убивали, убили друг друга, в виду роженицы, в виду тяжелейших в целом свете родов, мы лежали на полу рядом со смертью, и мой убийца, великий доктор, врач от Бога, великий хирург, все смотрел и смотрел на мой крест на груди, будто пил воздух вокруг него, рот его открылся, я слышал хрипы, я молился: остановись! мы оба тут, и мы оба люди, пока ещё люди, ты слышишь, слышишь.
Он подполз на животе ко кресту, валявшемуся на полу.
Белый халат пачкался в пыли и крови.
Пальцы, крючась, протянулись и схватили крест. Сжали.
Он сжимал крест в кулаке. Так стискивают похищенный алмаз. Драгоценность.
Чёрный грубый гайтан больно врезался мне в шею: так сильно он тянул мой крест к себе.
К губам.
Я поздно догадался: он хочет прижаться ко кресту губами.
Он вытянул шею, как гусь. Ещё ближе подполз, на локтях. Его голова оказалась вровень с моей растерзанной грудью. Он разжал руку. Крест лежал на ладони мелкой медной рыбкой, мальком. Он подтянул крест ближе к себе и прижался к нему окровавленным ртом. Крепко прижался, надолго. Так лежал, с прижатым ко рту крестом, долго, бесконечно крест целуя.
Отнял от креста губы. Глядел на меня слепыми, плавающими глазами. Зрачки широкие, будто белладонну в глаза закапали, для исследования сосудов глазного дна.
- Ну что смотришь?.. - Прохрипел. Просипел. - Мы с ума сошли, да?.. Да... Брось... Ничего не говори... Я... первый раз в жизни крест поцеловал. Я не знаю... почему... Я не хотел... Кто-то за меня... решил... захотел... это просто чёрт знает что... ничего не понимаю. Правда. Не объясняй... ничего... и я не хочу... просто так вышло... так получилось... так...
Я вздохнул. В груди клокотал чужой, заключённый воздух.
- Прости...
Он положил мне ладонь на губы.
- Молчи, я же сказал... Какие уж тут слова...
Девочка-санитарка, в кровь кусая немые губы, выше, ещё выше подняла керосиновую лампу. Пламя угасало. Керосин догорал.
Над нами парила, летела в небесах лазарета моя Душа.
Снизу вверх, с пола, мы смотрели на легчайшие облака больничных простыней, на блеск стеклянных торосов, на её руку, она бессильно свешивалась со стеклянной плоскости вниз, исколотая иглой, вся в синяках, на её раскинутые колени, на бёдра, напоминающие разверстые лепестки громадной посмертной лилии, на кочерги локтей и яблоки голых пяток. Там, в небесах, лежала и плыла женщина, и мы не могли ей помочь; ей мог помочь только Бог, и мы оба стали надеяться на Бога, и молиться ему, и просить у него прощения, и верить, и плакать.
Ну, бросилась кровь в башку. Красное вино. Опьянел я. Захмелел он. Мы оба спьянились собственной кровью. С кровью шутки плохи. Если она восстанет волной - всё сметет на пути. Ты перестанешь быть человеком.
Вот я и перестал.
Он тоже перестал. Я злорадствовал: не я один.
Оба звери. Оба враги! Навек, на миг - а какая разница.
Я крепко бил его. Он оказался тоже крепкий орех. Дрался знатно. Я думал, он умоленный батюшка, церковный хлюпик. Только и знает, что перед образами лоб крестить. А он так пошёл, пошёл на меня, что тебе буря. Ломал меня, крушил. У него бицепсы железом налились. Мы оба по полу катались. Кто кого повалил, не помню. Оба враз рухнули. Били вслепую, куда ни попадя. Молотили кулаками. Так до смерти бьют. Не на жизнь колошматились, а насмерть. Такое бывает. Я не думал, что такое будет со мной. Ну да, я в детстве дрался, да кто не дрался дитём. А тут! Нарочно не придумаешь. Два врача. Два именитых хирурга. Два узника. Презренных заключённых. На северах. За колючей проволокой. В нищем лазарете. У ложа роженицы. Роженица - нам обоим то ли жена, то ли шалава, то ли сон нам, двум мужикам-дуракам, про неё привиделся, страстный, страстной.
Лупили, лупили друг друга, а потом я оскалился да как разорву на его груди рясу, да как крестик его крестильный из-за пазухи выкатится и брякнется об пол. Я так и застыл. Что со мной сделалось? А пёс его знает. Я не знаю. Заледенел я весь. Лежу. Живой крюк руки к медному чужому кресту тяну. Цап! В кулаке сжал, а изнутри он, крест, мне всеми острыми краями как в мякоть ладонную, в пальцы воткнётся! Лежу. Крест сжимаю. Батюшка, весь в крови, рядом лежит, на меня глядит.
А над нами лежит роженица наша. Не ревёт, не стонет. Молча валяется. Тихо.
И мы тихо лежим.
Мы вроде как на земле, а она вроде как на небе.
Я разжал кулак и припал к зелёной меди кровавыми губами.
Соль на губах. Соль на щеках, в глазах. Всё есть соль. Солёно всё. Весь человек насквозь просолён. Солоней солёной рыбы. А мы ещё сами себе врём, что любим! Как ещё, дьяволы такие, детей зачинаем! На что мы их в мир, из животов наших жён и любовниц, выпускаем?! Они рожают, выталкивают ребятёнка на землю. Уж лучше бы он век в бабьем брюхе сидел! В камень превратился. Таскала бы она этот камень всю жизнь. Болезнь есть такая у баб. Редкая. Литопедион называется. Яйцеклетка зацепляется не за стенку матки, а за брюшину, за кишки, за какой угодно потрох. Плод растёт в брюшной полости. А потом обрастает слоями извести. Так, слой за слоем, на нём нарастает забвение. Человеческий камень. Булыжник. И женщина носит его. Охает, стонет. Не знает, что у неё внутри. Тяжело ходить. Живот болит. Башка кружится. А камень растёт.
- Господи... отведи грех от нас...
А, это батюшка взмолился. Понятно.
- Господи... дай матери разродиться...
А если у неё внутри каменюка?!
- Господи сил... с нами буди... спаси, Блаже, души наша...
...мне помогала бедная моя мать. Помогали мне отверделая матка, все перекрестья голодных мышц живота, лонные кости, они расходились вширь, дыра в смерть давно уже превратилась в круглое безбрежное жерло, звёздная гладкая чернота отсвечивала кривым бездонным зеркалом, я видел в нём себя, мою макушку, ходуном ходящий живот. Живот выталкивал меня, я услыхал далеко, на том свете, дикий крик. Моя мать кричала. Она звала меня. Звала на свет. Я хотел стать стрелой и вылететь вон! Последняя попытка. Толкаю. Бьюсь. Я красная рыба. Подо мной красный лёд. Бью в него хвостом, боками, серебряной ледяной головой.
Бью.
Пробиваю.
Вылетаю!
Лечу!
Слышал дыхание женщины, что рожала меня.
Она, безумная, радостная, уже не могла кричать: она улыбалась. Крик перелился в улыбку. Раскинув ноги, раскинув руки, она медленно тонула в толще красной боли, и сиял, переливаясь изнутри кровавым перламутром, подводный купол её вселенского, измученного живота, красные морские хвощи разымались, обвивали сугроб её брюха снаружи, исчерчивали красными полосами, так судьба её бичевала, и кто был её палачом и убийцей, да вот же он, она увидела, она догадалась, это его она рожала, это он с боем и ужасом шёл на свет из тьмы, и он сжимал в кулаке красный нож. Мать поняла: вот сейчас оттуда, из глубины боли, он всадит нож в неё, и лезвие насквозь пройдёт жизнь, и смерть, и будущую веру.
И я увидел убийцу с перекошенным то ли в смехе, то ли в рыдании ртом, с острым рыбьим ножом в руке.
Меня выгоняли из Рая.
Меня изгоняли из Ада.
Меня выталкивали из жизни.
Меня избивали, лишая смерти.
Где был я? Кто я?!
Человек ли я? Человечество ли я?!
Прощай, моя пещера. Больше не буду жить в тебе. Прощайте, клешни омара, щупальца осьминога, частокол рыбьих зубов. Чудовища, живущие в синей фосфорной глубине, прощайте. Вода катит колесом величиною с небеса. Сейчас вода подомнёт меня. Я утону. Я знаю. Вода захлёстывает Мiръ. Снежные курганы. Палачьи топоры льдов. Ядовитые стрежни. Ржавчину смиренно пошедших на дно кораблей. Леса, обращённые в пепел. Земля беременна горами. Кармином и суриком крови расписаны стены зимы. Вот сгоревшая роскошь парчи. Невнятный лепет сломанных игрушек. Чёрствая корка во старых челюстях, шамкающих, бессильных. Вода беспощадна. Казнит серебряным ливнем. Ей наперерез катит красный вал крови. Живая кровь. Живая вода. Живой Рай. Живой Ад.
Ад и Рай. Это я, люди. Это я один и есть.
...плод накатывался на плоть сверкающей стеной воды, бил в лучезарный купол солёной морской пеной, безумствовал, плясал, скрючивался, нырял, расплёскивался вширь, из перечного зерна обращался в тяжёлую Луну, ходом повторял ход Времени, плод давил на Время планетным весом, и Время прогнулось под его лбом и грудью; он обхватил Время крепко, неразъёмно стеблями рук, по его голому красному телу пошли огни, из припухшего рта его матери доносилась сумасшедшая песня: мой сынок, моя молния, моя гора, мой океан, мой грех, моя клятва. Не уходи, ребёнок Рая! Я твоя кровь! Я теку, истекаю из всех оврагов, всех расселин сожжённой земли! Я твоя последняя свобода! Последняя ласка!
Снеговые тугие бинты, костяные шины и лангетки, полярный гипс, скальпели древней грозы. Сухожилия перевитых приречных ветвей. Горящие головни убитых, забытых военных тел. Мать, я всего лишь рыба твоя! Ты океан мой, а я твой красный меченосец! Сукровичная ржавчина и небесная чистота встречаются, сливаются в бешеном потоке. Теку, влекусь к Безумному Океану - туда, где однажды сольёмся мы все воедино, славные и неведомые, любящие и бессердечные, мёртвые и живые! Я меченосец, мой хвост красный меч, моя узкая голова опасный нож. Я скальпель! Я излечиваю и караю. Казню и оживляю. Я разрезаю надвое моё Время - на вьюжное, дикое забвение и на неведомое, в золе чужого костра испечённое, страшное Будущее, не знаю его, только вижу, оно пугает меня, валяется перед мной узором высохшей кожи змеи, изжелта-бледным, вынутым из земли коровьим черепом!
Пробить! Пронзить! Я живой! Я сражаюсь! Воюю! Вы меня не убьёте! Теменем, висками, надбровными дугами, железным смеющимся лицом я, солдат, бью в ледяной заберег, в плывущую блинами голубую шугу, в зазубрины и веера торосов, а берег голый, как я, и весь засыпан застылыми слезами близкого, как смерть, снега, и красные нитки водорослей вяжет обезумевший ветер, нацепляет на спицы солнечных, лунных лучей. Оборвётся дорога. Умирает путь. Власть мороза ставит белым огнём клеймо на лоб и подглазья. Я солдат, и я меч, и я бью, моя кожа, моё мясо, мои кости, мои колени и голени, лодыжки и ступни, рёбра и локти бьют, бьют, разят горы воды, восстающие из глубин древности, горы звёзд, что валятся с грядущих небес. Красные льдины перепиливают меня. Я кричу. Мать кричит.
Я слышу, она кричит мне: ВПЕРЁД!
Моя заповедь. Моё назначение. Моя океанская толща. Мой простор. Моя воля. Полоумным огнём пылают небеса; зенит есть пустой звенящий кувшин, вся воды из него пролилась на землю и стала Временем невозвратным. Хищное Солнце по мёртвой пустынной, больничной простынке неба жадно летит. Это не Солнце; это лазаретная чёрная печать на простыне, и расплылась от жалких утлых стирок, и не разобрать буквицы и чужие слёзы. Я пью спирт воздуха. Я пью вино крови. Пью воду грядущего крещения. Я не знаю, что это. Я просто слышал там, в животе у матери, дальний медный звон. Я красная рыба, я раздуваю жадные жабры, скальпель молнии разрезает моё масленое, мокрое тело от затылка, вдоль хребта, по спине. Глаза мои сомкнуты. Жмурюсь крепко, изо всех сил. Я не хочу видеть, как я умру. В ушных отверстиях вода, она спасает меня от ужаса последнего крика. Не хочу ничего слышать. Я слышал и видел уже всё на земле. Прошлое. Грядущее. То, что настанет после гибели земли и людей. Время не исчезнет. Оно просто скрутится пергаменом. Совьётся в страшный кожаный свиток. Тот, кто будет ещё жив и учён грамоте, прочитает:
НЕТ ВРЕМЕНИ.
Распахнута лишь одна дверь. Пробита одна дыра. Рот мой раззявлен. Он кричит. И рот матери моей раскрыт. Он тоже кричит. Мы кричим оба. Вопим. Задыхаемся от крика. Крик свободен. Крик это мы. Он вечен. Мы вечно так будем кричать. Нас никто не остановит.
...катись бейся выскальзывай стремись
...борись плачь ори
...иди прокалывай собой безумие и мудрость
...выпростался из ужаса, мрака - разрубил Ад красным тяжёлым мечом - плакал в голос, скользкий, уродливый, в горечи, в меду, в кровавом клее, в красных дождях - алое знамя - вопящий - на ветру бьющийся - перепачканный болью - чистейший, самоцвет, грань, слеза - чище слёзного перла и рыдающего рыбьего глаза - вопит, сверкая голыми дёснами - жуткий - лютый - волчий - василиск - ноги-мясные-крючья - руки-липкие-ласты - жабры-перламутр-маятник - слезай, облезай, вся до монеты обсыпься, чешуя страданья, ты отжила свой век - крутись в кольца, ползучее слепое тело - смерть явилась, а это жизнь - орёт - хрипит - блажит - чудит - вдыхай до дна - вдыхай весь Мiръ - вдыхай улыбку Бога и все крики людей - вдыхай кровь и радость - вдыхай любовь - люби - всегда, люби - всегда, люби - всегда!
...не скроешься. Не спрячешься. Ни за шею. Ни за рёбра. Ни за позвоночник. Ни за тёмное красное пламя жабр. Ни за крик.
Ты вдохнул тьму, а выдохнул свет.
Пламя!
Вопи. Безумствуй. Бей мечом. Над красной водой несётся в небо твой огромный крик. Твоя первая песня. Первая молитва. Вонзай её красным мечом, первую, наисвятейшую, беса навек изгоняющую из Рая, войну разящую, ненависть казнящую, в клубки вечных туч, в метельный простор, в колючую проволоку осенних дождей, в неисходный морской прилив. В седину пурги. В синеву озёр. В алый закат. В боль без границ. В жизнь без дна.
Умереть. Родиться. Не понять.
И не надо.
Мы оба поднялись с пола. Шатались. Будто марш-бросок я бежал, по пересечённой местности, и ноги в сапогах набрякли, мозоли сочились сукровицей, суставы ныли, натруженные; будто оба вышли из боя, и правда из боя, да разве можно бой вести братьям, кто бы нас остановил, кто бы проклял, кто бы... Я словно бы вбежал сюда, в лазарет, с мороза. Санитарка стояла в углу операционной с гаснущей лампой в руках.
- Поди подлей керосину!
Девочка не шелохнулась.
Я посмотрел на её лицо. Оно застыло. Она обратилась в камень.
Каменная девочка. Каменная лампа. Каменный огонь.
Стой, мысленно я сказал ей, на сколько уж огня хватит.
Это была не операционная, а спальня. Просторная, обширная пустая спальня, стол да стеклянный шкаф, для Матери-Смерти. Я перевёл глаза на лицо Николая. Он глядел на роженицу, крепко, в тонкую нитку, стиснув рот. А где лицо Души моей? Вот я уже глядел ей в лицо, и вдруг, на моих глазах, не стало её лица, на месте её лица разверзлась сначала пустота, а потом всё белое пустое, снежное поле заполнил, закрыл чёрный, красный, беспощадно, до отказа раскрытый, распяленный рот. Рот-дыра. Рот-вулкан.
Рот-пропасть.
Крик я услышал уже потом. Время спустя. Много времени прошло или мало, между созерцанием её лица и слышанием крика, я не помнил. Дикий крик разорвал мне ушные раковины, и на плечи мои полилась кровь. Крик хлестал по мне забытой плетью. Я подумал неистово: так бичевали Бога твоего. Я видел страшный, разорванный криком рот, и не так хотелось его заткнуть, закрыть, чтобы немыслимый крик перестал выходить наружу. Будто она была печь, и из неё вырывалось пламя, и сейчас языки пламени выбегут в избу и подожгут её, займутся огнём половицы, двери, оконные рамы, и сгорит изба в одно мгновенье, и надо закрыть открытый огонь печною заслонкой. Я шагнул и, не сознавая, что делаю, прислонил, а потом крепко прижал ладонь к этому кричащему рту, и её зубы впились мне в ладонь, и я сам вскрикнул. Она забилась под моей прижатой к её рту рукой, как насаженная на кукан, свежевыловленная рыба, билась, билась, пыталась выпростаться из-под меня, моя рука, должно быть, казалась ей всем моим большим, вусмерть избитым, горячим телом, она билась так, будто я навалился всем телом на неё и пытался раздавить её всем собой, заглушить ужас крика, умертвить своею тяжестью, чтобы она задохнулась.
Она и стала задыхаться. Её лицо стало синеть под моей ладонью. Я увидел это и опомнился, и отнял от её орущего рта руку, и гладил её по мокрой щеке, и освобождал ей от складок рубахи грудь, чтобы ей вольнее, свободней было дышать. Вся её грудь, весь голый, на виду, не укрытый простынями жуткий живот были покрыты петехиями, мелкими кровоизлияниями, кровяными узорчатыми разводами: вспышками красных огней на белой зимней коже.
Она на миг замолчала. Мне почудилось, глаза её поглядели на меня осмысленно. А потом опять судорожно вздохнула и закричала.
Я упал на колени перед операционным столом.
Я понял, Время давно уже остановилось. Не было его, я давно об этом догадывался. Никакие люди не заходили в операционную, никакие двери ни вблизи, ни вдали не хлопали. Единственное, что оставалось, это молиться, и я начал молиться.
А она кричала так яростно, так невозможно, люди так не кричат. Я не видел, как рожают дикие звери - медведицы, волчицы, но я принимал роды у коровы, и корова мучилась, и даже плакала, крупные слёзы выкатывались из её сливовых блестящих глаз и струились по шерсти, капали с морды вниз, но корова не мычала, она молчала, смиренно, тихо принимала страдания, назначенные Богом. Душа моя! Потерпи! Сейчас! Сейчас!
Я уткнулся лбом в столешницу, укрытую толстым стеклом. Стекло треснуло. На полу были разбросаны осколки. Я, не думая, цапнул с пола осколок и сжал крепко. Он вонзился мне в ладонь. Я хотел мелкой болью телесной, кровью, стеклянным жалким укусом заглушить боль от её вездесущего крика.
Так, упираясь потным лбом в край стола, я возговорил:
- Приими, Госпоже Богородительнице, слезная моления рабов Твоих, к тебе притекающих... Зрим тя на святей иконе во чреве носящую Сына Твоего и Бога нашего... Господа Исуса Христа... Аще и безболезненно родила еси Его, обаче матерния скорби веси и немощи сынов и дщерей человеческих зриши... Темже тепле припадающе к цельбоносному образу Твоему... и умиленно сей лобызающе... молим Тя, всемилостивая Владычице...
Я задыхался. Роженица кричала неимоверно, дико.
На Николая поглядеть я боялся. Нельзя мне было сейчас на него глядеть.
Мне надлежало глядеть только на бедную Душу мою.
Догадывался я: подходит край великих родов. Эти роды, да, были воистину великие, в них вместилось всё: и страданья, мученья всех, не только рожающих женщин; вся война в них билась и вопила; вся война, нами пройденная и нами не пройденная; всё совокупное преступление, нами, грешными, совершённое и не совершённое. Из края в край в тех родах было пройдено нами наше Время; да, так, от края до края.
А что там, за краем, да Бог весть.
Да всё равно.
Мне всё равно.
Что суждено.
Край! Скоро! Подожди! Потерпи! Ты молиться не можешь, так я за тебя буду молиться!
- Нас грешных, осужденных в болезнех родити и в печалех питати чада наша, милостивно пощади и сострадательно заступи... младенцы же наша, такожде и родившия их, от тяжкаго недуга и горькия скорби... избави... Даруй им здравие и благопомощие, да и питаемии от силы в силу возрастати будут... и питающия их исполнятся радостию и утешением... яко да и ныне предстательством Твоим из уст младенец и ссущих Господь совершит хвалу Свою... хвалу... хвалу Свою...
Роженица возвысила голос, и крик пронзил мой мозг и расколол череп. Я не мог молиться. Вскочил на ноги. Один рот, разверстый пропастью рот я видел там, где раньше было её красивое, любимое лицо. Визг ввинчивался в потолок и раскалывал его, потолок пошёл крупными трещинами, так старинный холст идёт кракелюрами, слой масляной краски трескается и испещряет всю тёплую поверхность картины скорбными морщинами. Осыпалась штукатурка. Громко треснуло бревно в срубе, будто в операционной раздался выстрел. Там, далеко, люди по-прежнему мучили людей. Братьев. Били их, глумились над ними. Выстраивали их в ряд на морозе, били по щекам, а потом заставляли вставать на колени в снег. Командовали: принесите воду в вёдрах! Воду несли. Крик раздавался: обливай! Водой несчастных обливали. Потом с площади на берег моря уносили ледяные трупы. Зачем человек так делал с человеком? Я видел это, и я не хотел бы стать женщиной, чтобы в наши времена рождать детей на свет. Но мужчины зачинают, а женщины рождают, и Господь не командует нам с небес: прекратить продолжать род человеческий! Нет. Он велит нам всё продолжать. Длить. Кровью плакать, а длить.
Горе тем, кто будет рождать и питать сосцами в те времена. Горе тем. Горе тем.
Визг поднимался всё выше. Вышел сквозь потолок и крышу на простор. Разнёсся по белой шкуре, пустыне тундры. Залетел за колючую проволоку. Полетел над морем. Женщина плакала безумным, необъятным криком обо всех, кто жил на свете, кто странствовал, кто не знал, где приклонить голову, что поесть из чужой дающей руки; она плакала криком обо всех нерождённых, обо всех покойниках, крик был её молитва, её исповедь. Мне она исповедалась. Мне. А может, Матери-Смерти самой.
- О Мати Сына Божия!.. - Я сам плакал и глотал мои слёзы. - Умилосердися на матери сынов человеческих и на немощныя люди Твоя... постигающия нас болезни скоро исцели... належащыя на нас скорби и печали утоли... и не презри слез и воздыханий рабов Твоих... Услыши нас в день скорби пред иконою Твоею припадающих... в день радости и избавления... избавления... прийми благодарная хваления сердец наших!.. Вознеси мольбы наша ко престолу Сына Твоего и Бога нашего... да милостив будет ко грехом и немощем нашим и пробавит милость... милость... милость Свою ведущим имя Его... яко да и мы, и чада наша, прославим Тя, милосердную Заступницу... и верную Надежду рода нашего... и ныне, и присно... и во веки веков...
Я хотел выдохнуть: аминь!.. - и не мог.
Крик ввинтился мне в череп, в лоб, вышел из затылка, поднялся над теменем. Обнял меня, обхватил крепко. Я не мог дышать. Ни вдохнуть, ни выдохнуть. Я попросил Господа: Господи, избавь меня от созерцания такого страдания, возьми меня к Себе!.. я согласен умереть, Господи, на руках Твоих, сию минуту, сейчас!.. - и тут наступила вокруг меня такая глухота и пустота, что я думал, я лечу в бездну.
Я летел в бездну, и не было ей конца и начала, и там, в бесконечной и безначальной бездне, наступило время иных звуков, глухого, тёмного и смутного шевеления, кряхтенья и бормотания. Кто-то тихо плакал, очень далеко, на излёте тундры, на исходе моря. Кто-то нежно смеялся, там, за облаками. Кто-то стонал в бессознаньи, и я подумал: Душа моя, - но не мог шевельнуться, чтобы встать с колен и обнять её, и помочь ей, и заплакать над ней. Я шептал себе: а может, она умерла, а может, ты умерла, моя Душа, и ты никогда больше не вернёшься ко мне; а что я буду делать без моей Души? Мiръ и жизнь не нужны мне без моей Души.
Настала великая тьма. Тьма кромешная. Это девочка с лампой вышла вон, чтобы подлить в лампу керосину и оживить её. Я ничего не видел во тьме. Потом проблеснул край фарфоровой раковины, и серебряный черенок кюретки, и прозрачный купол кювеза, и скомканные и брошенные на стул резиновые перчатки. Двигались тени. Раздваивались фигуры. Это всё был один человек. Он шагнул к столу с неподвижно лежащей родильницей, наклонился над ней и вытянул вперёд руки.
Вошла санитарка с лампою, накормленной керосином. Медовый, густо-золотой свет озарил всё вокруг: операционный стол, хитро изогнутые инструменты, серую вату, корнцанги, контейнеры для кипячения шприцев и скальпелей в стеклянных шкафах, похожие на стальные детские гробы.
Стоя на коленях, я видел, как человек берёт на руки нечто смуглое, красное, шевелящееся, кровавое, живое, и это живое крючится, дёргается, сгибается и разгибается, кряхтит, потом вздувается шарами и углами неведомой плоти, расширяет первым земным воздухом утлые рёбра, и вылетает крик, и я не успеваю понять, длинный он или короткий, сияющий радостью или полный ужаса.
Новая плоть кричит. Старая плоть молчит.
Человек явленный кричит о себе, кричит на весь Мiръ: вот он я!
А мы слушаем новый крик и плачем. И, делать нам нечего, слушаем, слышим.
Я, слушая крик, медленно поднялся с колен. Молитвы остались позади. Впереди была только жизнь. И только вдоль жизни слёзы текли.
Я смотрел на Душу мою. Она лежала спокойно, ноги её, прежде широко и бесстыдно, страшно раздвинутые, были сдвинуты, плотно прижаты друг к другу и укрыты почти прозрачной, в кровавых пятнах, простынёй.
Рядом с ней стоял человек. Врач. Николай. Он держал на руках ребёнка.
Я смотрел на ребёнка. Я видел ребёнка.
- Вышел послед?
Мне казалось, я громко спросил, а вышло, прошептал.
- Плацента отделилась нормально. Пуповину я перевязал.
Он всё сделал, пока я стоял на коленях и молился.
- Где плацента?
- А вам она зачем? Отдал собакам.
- Тише! Она услышит!
- Доктор, я думал, я разговариваю со взрослым человеком. А вы как дитя. Нет, хуже ребёнка. Опомнитесь! Мне кажется, нам обоим...
- Пора на войну, - докончил я.
- Нас никто туда не пустит. Мы здесь нужнее.
- Мы здесь рабы.
- А на войне?
- А на войне мы свободны. Мы идём в бой и умираем свободными.
Я сделал шаг, другой к человеку с ребёнком на руках.
На лежащую Душу мою старался не глядеть.
Боялся увидеть недвижное ледяное лицо.
Младенчик на руках Николая крючил тощие ручонки, сучил ножками, сгибал и разгибал крохотные острые коленки. Саранча. Цикада.
- Какой красавец.
- Бросьте. Не смешите. Синий уродец, и рот как у клоуна, огромный. Хорошо, беззубый. А то палец откусил бы, раз-два, и в дамки.
- Ребёнок не волк.
- Любуйтесь на здоровье.
Николай хлопнул ребёнка по заду и поднёс ближе ко мне. Его туманные глаза были словно залиты жемчужным молоком, затянуты позёмкой. Он весь с виду был скользкий, липкий, масленый, покрытый странной смазкой, смесью сукрови, лимфы и таинственных жизненных соков, у которых не было имени.
- Красавчик, что и говорить!
Я протянул руку и нежно, как только мог, коснулся пальцами масленого плеча, блестящих масленых рёбер.
Перевёл взгляд на Душу мою.
Она широко открытыми глазами смотрела на меня. Как я трогаю ребёнка.
Рот её был уродлив, крив, он вспух и отёк, в запекшейся крови, в отметинах зубов.
Милая. Как же ты мучилась. Но ведь всё позади. Всё. Всё.
Она смотрела на меня, а я смотрел на неё и слеп; её лицо сияло ярче звезды в заиндевелом окне, там, за разнотравьем морозных узоров, за белой крапивой и снежной лебедой.
Что толку, если я сейчас скажу ей, как я люблю её?
Мы, двое мужчин, стояли над её родильным ложем и держали на руках её ребёнка.
- Мальчик?
Я был глуп, слеп, улыбался и дрожал.
Я только что родился.
- Мальчик.
За окнами тихо занимался медленный, страшный зимний рассвет.
Полоса алая, полоса зелёная, ядовито-изумрудная, полоса чёрная. Таково было наше небо.
Оно здесь не сияло. Оно просто ложилось слоями цветных страшных бинтов, страшными квадратами потусторонней марли. Слоилось, налегало, отступало, опять надвигалось. Если горизонт на рассвете алый, точно жди снежной бури. Если закат чёрный...
- Солнце село в тучу, жди, моряк, взбучу.
- Что вы такое лепечете?
- Простите.
Я не спросил Николая, куда он денет новорождённого мальчика, где теперь будет жить Душенька. Не в бараке, нет; а где? Я ничего не спросил.
Я просто плакал. Заливался слезами, постыдными, обильными.
Я хорошо знал эту легенду: мужчины не плачут. Что есть роды, и что есть смерть? Боже! как этих слов боятся люди! Не говорите мне про смерть, и фыркают, и отворачиваются, и зажимают себе уши ладонями; не говорите мне про кровь, про тяжёлые роды, в родах ведь тоже умирают, и младенец, и мать, и, нет, про это нам не надо, мы все появляемся на свет и все уходим отсюда, мы всё это знаем, но только не надо про это, про это нельзя, это больно, это неприятно, а мы так хотим, чтобы нам было приятно. Всё время приятно.
Плакал. И о людях боящихся тоже. Мы разучились смотреть прямо в лицо жизни. В лицо смерти. На войне я глядел в лицо смерти. Здесь, в заключении, в тоскливом барачном посёлке на берегу ледяного океана, я не отрываясь гляжу в лицо смерти. Я, хирург, людей спасающий. И что? Я окреп сердцем. Я по-иному молюсь. Мне молитва стала последней, предсмертной драгоценностью. Сокровищем.
Николай посмотрел, как я бессовестно плачу и утираю ладонями слёзы, поморщился и отвернулся.
- Бросьте, коллега! Мне неприятно.
Я наклонился, взял в руки подол рясы и подолом крепко, насухо вытер солёное лицо.
Обернулся к Николаю.
- Знаете, на войне я вытаскивал у бойца пулю из сердца.
- Что, что?!
- Пулю. Из сердца. Из бьющегося сердца. В этом состояла вся трудность. Пуля прошла через спину и воткнулась в сердце сзади, и осталась там. Я рассёк мягкие ткани, мышцы и вскрыл рёбра. Обнажил сердце. Вы оперировали на сердце, я знаю.
- Оперировал. Сто раз. Тысячу раз. Если мы отсюда выберемся, я буду оперировать только на сердце. Сердце, коллега, сердце. Это главный насос. От него всё в человеке зависит. Более того. Многие патологии сердцу врождены. У меня есть идеи насчёт них. Как их исправить. Я этим займусь.
- Займётесь. Да.
- Ну, обнажили сердце?
- Да. Освободил. Вижу, бьётся. Резко бьётся, быстро, птицей. Будто птица летит. Ухватить невозможно, не за что. Ассистента нет. Одна сестра стоит рядом, как обычно, губы кусает, глаза как блюдца, головой трясёт: невозможно, нет, нет! А я уже скальпель сжимаю. Понимаю: взмахну ножом, нащупаю пулю, схвачу зажимом, вытащу. Желудочки нетронуты, предсердия работают. Жить будет. В рубашке родился.
- И что? Вытащили пулю?
- Вытащил.
- Зачем вы мне всё это тут плетёте?! Ребёнка надо обмыть!
- Простите. Это рассказ о слезах. Я закончил операцию, пуля у меня на ладони лежит. На ладони смерть. Смерть держу в руке. А сестричка плачет-заливается. Бормочет: родился, родился. Вы его родили, родили. Я дал ей поплакать всласть. Не смеялся над ней. Не сердился на неё. Нашатыря потом дал понюхать.
- Дурак вы, нашатыря. Спиртика надо было пополам с водой глотнуть. Её бы сердечко и взыграло.
Я отважился посмотреть на мою Душу.
Николай держал младенца, санитарка принесла таз с водой, они оба стали обмывать смуглого красного мальчика, а я смотрел в лицо моей Душе и целовал её глазами. А потом склонился над ней, и под губы мне подвернулась, подставилась её голая нога, нога высунулась из-под окровавленной простыни, и я наклонился ещё ниже, ещё, и припал губами к тонкой, горячей, головнёй горящей в снегах марли и простынок ноге. Я целовал ей ноги, гладил ладонями её руки, и странно, ноги были горячие, а руки холодные.
И снова заорал младенец; это его окунули в воду, я не знал, воду согрели или санитарка, растерявшись, холодной из ведра принесла; да уж наверняка согреть-то на примусе догадалась. Подводная жизнь, плескание рыбы. Сквозь прозрачное зеркало видна будущая жизнь. Я, когда гляжу в воду, вижу, что будет. Мне сейчас в этот таз с водою не надо смотреть. Я не хочу знать, что будет с ним. С моим сыном.
Ты будешь жить. Разумеется, ты будешь жить. И я, сражающийся с врагом, бьющийся с ужасом, там, далеко, тебя не смогу защитить. Ты пойдёшь дальше один. Это трудно, идти одному. Там, далеко, за слоем чистой воды, за укрытой белым саваном землёй, за спокойно лежащим телом женщины, её голыми руками и ногами, творится неведомое и святое, и такое привычное: купают младенца в тазу, серебром бьют в глаза водяные вспышки, что-то над ним причитают, что-то восклицают, уговаривают, что-то ласковое нашёптывают, брызгают, плещут, хлопают, гладят, и горит непонятный светильник, керосиновая лампа, нет, плошка с жиром, нет, тусклая, красная электрическая лампочка, на береговой подстанции дали ток, это горит и светится кровь, ребёнок звонко кричит, потом тихо покряхтывает, потом умолкает и только вздыхает, и я слышу его частые вздохи, так дышит жизнь, и мне до смерти надо лишь её, её одну спасать. Её одну любить и славить. Ей одной молиться.
Ведь Господь - это Жизнь. И Путь. И Истина.
Последняя Правда.
Смейтесь, вот теперь, да, хохочите, творите глум.
Над истиной всегда люди смеются.
Ибо каждый, возгордясь, знает истину лишь свою.
А к Божией - страшно близко подойти.
Моя Душа. Что она пережила много лет назад? А множество веков? Она мне не рассказывала, но я догадался. Я увидел. Я потому и стал зрячим, что она такое пережила; и жива осталась; и не опоганилась; и не предала ни себя, ни меня; и молчала, никому про пережитое не говорила, только мне. На исповеди. Исповедь наша, дитя моё, на берегу моря, в виду богатырских валунов. Молчаливая исповедь. Она молчала, а я слушал. И видел.
Её хотели убить. Медленно. Постепенно. Сначала укусить и впустить в рану яд. Наблюдать, как она будет умирать, корчиться. Звать на помощь. А потом, пока ещё жива, расстрелять. На неё одну, на Душу мою, направить самолёты, начинённые бомбами, танки, под завязку набитые огнём, море пехоты, и у каждого в строю отменное, новейшее оружие. Её хотели убить много раз - сначала взрывами на полнеба, потом шквалом огня, потом частоколом пуль. Каково это, умирать много раз? О, они мастера оживлять. Они бы воскрешали её и убивали снова. Я знаю.
А она, Душенька, такая смирная. Смиренная. Глядит на убийц, прямо им в глаза, и шепчет: убивайте! Вот она я, вся! И стоит тихо. Не убегает. Ждёт. Бедная моя, милая. Она же ночевала в ящиках из-под картошки, в зольных коробах: в кухонных крысиных углах, в мышиных чуланах. Она таскала на реку тяжелые корзины с бельём, полоскать в проточной воде; она волокла на горбу мешки, набитые сельдью, корюшкой, дровами, углём. Передвигала, надрываясь, громадные чаны, ухватившись за ушастые оловянные ручки. Если она что делала не так, её били.
Бить. Как это просто. Привычно. Бить. Человека не остановишь, если он заносит руку для удара. Бить! Не только кулаком! Чем угодно. Мы придумали много приборов, инструментов, предметов, коими можно бить и убить. Кто выжил, когда его убивали, тот всю жизнь преодолевает в себе страх. Душа моя ничего не боялась. Она не просила Господа отнять страх у неё: Он отобрал у неё страх Сам. Навеки. Что есть век для Моей Души? Ничто, если я вижу насквозь её тысячелетия.
Здесь, на северах, мы оба шли с ней из ночи - в свет. Мы оба это понимали. Шли и шли. Брели. Я обнимал её за плечи. Я молчал. И она молчала. А что было говорить?
Вот у неё родился ребёнок. Дадут ли мне его взрастить, воспитать? Никогда. И это я вижу. Я выхожу ночью в тундру и вижу над собой Северное Сияние. Его струящуюся епитрахиль. Я закидываю голову и слежу за волнами полуночной парчи. Звёздное биение, исповедь Галактики! Вот неисповедимый размах Мiроздания. Пробиваю нежнейший самоцветный мафорий пулями глаз. Пристальный взгляд, последний пристрел. Я вижу в Сиянии, внутри его колышущихся занавесей, будущие развалины, руины. Таков станет мой выжженный Мiръ через сто лет; через двести; через пятьсот лет потомки людей станут воскрешать Мiръ из обломков и скелетов, и трудно им будет, тяжко, но, как навозные жуки, копошиться они будут в разрушенном счастье, и, забыв его имя, окликать его другими именами. Жизнь - иное лицо Смерти. Матерь-Смерть откинет власы с затылка своего, и на людей поглядят глаза, и откроется рот, и вытолкнет слова, и услышат их люди. Смерть станет жизнью. Кто будет у тех, далёких женщин принимать роды? Кому роженицы будут вопить: дайте мне умереть, больно, не могу больше! Камень по камню, доска к доске, руины будут обрастать жизнью. И среди строителей новой жизни будет тихо, светло ходить босая Душа моя. А я не буду ходить. Меня там не будет. Я смогу лишь отсюда, из Времени, где рождён, глядеть на времена иные.
Итак, не бойтесь смерти, любимые мои, так шептал я себе. Вы убьёте себя и себе подобных, в прах разобьёте жилище ваше земное, но пройдут времена, и вы поймёте себя, Бога и землю-страдалицу. Всё отстроите! Всё воскресите! Но ничему не научитесь. Ничему не научит вас ни эта война, ни другая, ни следующая за ней, ни всеобщая гибель, ни тяжёлое воскрешение. Очухаетесь, возродите Мiръ, и снова Каин возненавидит Авеля, и снова наточит меч, и разожжёт костёр, и припасёт булыжник. Голову живую Авелю разбить. В кровь и прах.
Накопите оружия, найдёте поводы, в ночи соберёте полки и новую войну начнёте.
Я гляжу в струение рубиновых, алмазных небесных мантий. Небесный Царь босиком ступает по плотной ночной тьме. По чёрной земле неба идёт мой Бог. Разворачивает передо мной пурпурную, изумрудную накидку Свою. Господь, стой! Обернись! Дай мне полюбоваться на лик Твой! Смилуйся! Перед всеми грядущими потрясениями, будущими великими сражениями - дай мне узреть Тебя!
Он шёл не оглядываясь, и я смотрел Ему в затылок, и тут я увидел.
Крыши города. Купола; плоская черепица; камень и стекло; островерхая жесть. Над крышами летит хищная птица. Парит. Она величины немыслимой. Тенью от крыльев накрывает полгорода; а само Солнце, утреннее, только проснулось, висит в молочном тумане. Хищная птица головой закрывает млечный солнечный диск. Её башку с крюком стального клюва обнимает золотой нимб. Я прислушиваюсь. Внизу шум, крики, плач. Идёт война, она бушует на улицах города. Люди падают на мостовые, камень заливает кровь; опять кровь. Я так часто в будущем вижу кровь, что спрашиваю себя: полно, может, в моём настоящем я столько крови навидался, что моё будущее всё отражает, обречённо отражает её гигантским водяным зеркалом?
Тучи и туман разорвал порыв мощного ветра. Рядом с Солнцем я увидел Луну. Два светила рядом, это предвещает или большой праздник, или великий плач. Луна вспыхнула и стала наливаться красным цветом. Красная Луна. Чьей кровью обмазана? Там же нет никого, и никогда, в отличие от земли, там не будет последней войны. И ветров там нет. Тишина. Пустота. Мелкая серебряная пыль.
Сияние внезапно зашевелилось быстрее, замерцало, покрылось тысячью искр, и мне в лицо прямо с зенита ударила яркая молния. Доли секунды, но я запомнил её цвет: сначала густо-розовый, потом слепяще-зелёный, у моей давней жены было такое кольцо, с гладким крупным кабошоном, зелёным, как змеиная шкурка, амазонитом. Я зажмурился. Ночь, прекрасное время для знамений. Порадовался за себя: хорошо, молния меня не убила. Спасибо, Господи!
Стоял на равнине, во снегах, а будто в горах, и дышал, как в горах, на высоте, полной грудью, и воздуха не хватало, и не мог надышаться. Вдали светлело ледяное море. По заберегу шла маленькая фигурка. Не разобрать отсюда, кто. Малютка, дитятко. Юбчонку ветер мотает, завивает вокруг быстро идущих маленьких ног. Окликнуть? Далеко, не услышит. Что она ищет? Какое сокровище? Если вдруг она его найдёт, она погибнет. Любые сокровища сторожат. Возможно, там змея; пуля; отрава; часовой с ружьём. Дитя наклонится над сияющей драгоценностью, а снизу вверх, прямо ей в лицо, ударит ужас. Не надо! Не ходи туда! Пусть тайна останется тайной!
Не слышит. Идёт. По льду. Босиком.
Закрыл глаза. Удобнее видеть с закрытыми глазами. Я давно изучил этот способ. Ты вроде бы спишь. И точно не спишь. Это лошади спят стоя. Я есмь лодка, я плыву вдоль зимнего берега, а море замерзает только у камней, выйди в открытое море, там медленно, тягуче плещется вода; она целует гребнями волн мороз, я вижу воду, вижу насквозь её толщу, вода, моё Время, расступись, яко море Чермное, дай я посуху пройду в грядущее моё.
Плыву вдоль берегов. Вдоль старцев-валунов. Угрюмая железная Рыба лежит на берегу. Она возлежит вольно и просторно, не скажешь, что мертва. Убита? Огромной волной выброшена на берег. Стала дышать земным воздухом. Он ей отрава. Так же нам отравой будет воздух смерти. Какой странной формы эта Рыба! О нет, она скончалась не из-за воздуха земли. Вижу: она живёт в воде и на земле. Она живёт везде. Её разрушили. Разбили. Вынули из неё железные потроха, стальную икру, а может, длинные стальные молоки. Продолжения железной жизни не будет. Рыба валяется на берегу, вернее, её останки: то, что вчера было ею. Что она могла? Она могла пожирать живое и сеять смерть. Кто выпустил её в океан, кто нацепил на неё, для вящей красы, золотую чешую? Люди, всё люди. Люди родоначальники рыб и змей, каракуртов и крокодилов. Не живых: железных.
Люди научились оживлять железо. И размножать его в веках. Я это вижу.
И вижу, как к стенам города, состоящего из неисчислимых бараков, подходят враги.
Буря, я вижу, далеко, там, где не ходят корабли. Незнакомый порт. В порту крики. Кровь. Грабежи. Человек снова убивает человека. Куда ни гляну, везде, в моём грядущем, одно и то же. А счастье?! Праздник?! Райский Сад? Войду ли я хоть однажды, хоть на миг, в будущем моём в счастливый, полный музыки птиц и смеха детей, дивный Эдем?
Я сам себе даю добрый совет слишком поздно.
Хватит глядеть в будущее. Может, надо глядеть в прошлое и извлекать там уроки для несчастного, гиблого настоящего твоего.
Вдумайся, милая девочка моя, нет, ты призадумайся только. Множество лет длятся войны! Множество веков! Гляди глубже. Тысячи тысячелетий! Всё гремят и гремят. Всё длятся и длятся. А мы, люди, обращая лик наш к будущему, видим там: всё войны и войны. Всё грохочут и грохочут. Несть им конца.
Я лодка. Я плыву вдоль берега. Вдоль земли. Вдоль Времени я плыву. Очки в бараке забыл, но всё вижу прекрасно, до рыбьего скелета, до косточки. Великая империя! Наша, родная! За тебя сейчас идёт последнее сражение. Последнее ли? Ещё много за тебя претерпим сражений, но это, последнее, самое страшное. Не остановить. Проплываю мимо железной мёртвой Рыбы. Не оплакивай её; помолись о тех, ко её сотворил. Сотворил он её для убийства братьев своих. А братья ответили смертью на смерть. Господь, Ты смертию смерть поправ! И воскрес на третий день. Воскреснем ли мы? Я не вижу на снежном берегу воскресших. Не различаю во вьюге.
Начальство моё! Отправь меня на последнюю войну! Я там лучше, насущнее пригожусь. Там я буду хлеб голодным. Раненые по жизни голодны. Они хотят жизнь есть, грызть, кусать. Пить. Я буду давать им жизнь из рук. Целебный нож мой будет сверкать ключевой водой и пахнуть кровью, как хлебом. Строгие города будут закрывать ворота перед врагом, но те, кого я излечу, войдут в них, незримо пройдя сквозь каменную кладку. Хищный орёл улетел. Хищная мёртвая Рыба осталась далеко за спиной. Грядёт большой бой, и я буду одинок в бою. Я один буду сражаться против великой армии. Мыслимо ли такое? Я просто лодка, одинокая ладья, и я плыву в морях по воле Бога. Мне не страшно спуститься в Ад: я жил в нём. Я без трепета вплыву в объятия Рая: я молился о нём. Я не хочу раскаиваться в содеянном перед людьми; я жду покаяния только перед Богом. Богу надлежит каяться. А вы, кто не верит в Него, вы всё сами увидите! Каюсь только в том перед вами, дорогие, родные мои, мой народ, что я не убил врага, не поднял взвод в атаку. Я только лечил и воскрешал. А если бы на мой операционный стол возлёг враг? Я бы вылечил его или зарезал? Да, да, вот этим самым скальпелем?
Я сунул руку за пазуху. С изнанки рясы был нашит потайной кармашек. Не я его нашил. Я обнаружил его слишком поздно, но я успел сунуть в него скальпель, подобранный в куче грязных скальпелей, лежащих в железном лотке и приготовленных к кипячению. Моё орудие. Моё оружие. Если понадобится, пущу его в ход. Я не хочу сейчас каяться ни в чём. Да, это кража. Я украл из железного хирургического лотка всю мою жизнь.
Всей смертью - украл.
И, может, кому-то неведомому всю кровь я выпущу этим скальпелем.
А может, взмахну им - и отсеку от страдальца всё его горе, страдание всё. И никогда больше он им не упьётся и не утрётся.
И всё больше, дитя моё, всё сильнее я чувствовал себя лодкой, медленно вдаль плывущей; лодка есть подвиг, лодка есть путешествие, лодка есть деревянная чаша, древняная ладонь, на себе несущая, переносящая в незнаемый новый Мiръ всех, исстрадавшихся в Мiре старом; лодка есть обещание перемещения, передвижения, это полёт, ведь по воде можно лететь, как по небу; и вот такою живой лодкой я был, взлетали мои вёсла, упруго разрезали мой нос и лоб встречный ветер, била меня в грудь метелица, вихрилось надо мною царское Сияние, занебесное и подводное, я плыл по мiрамъ потайным, я беседовал с силами подземными, и вместе с тем я жил в бараке, каждое утро, нацепив полушубок, направлялся по свежевыпавшему снегу в лазарет, и люди смотрели мне вслед, как я иду - по чистому снежочку, по тропочке протоптанной, по чужим следам, след в след, и я себя чувствовал мостом между временами, мостом между людьми, живым мостом между землёй и Богом, и мысленно я призывал людей идти по мне, бежать по мне, не жалеть меня, топтать меня.
И однажды, когда я ранним утром так брёл по снегу в лазарет, мне было озарение. Я подумал: как хорошо было бы уйти, уйти и уйти, покинуть тундру, каторгу, неволю, и там, на просторе, начать собирать Души Живыя.
Души Живыя, Души Живыя, повторял я внутри себя, почему-то эти слова ко мне намертво прицепились, не отодрать, - Души Живыя, Души Живыя, да ведь и у меня душа живая, Душа моя жива, и души многих, тут, в неволе, чудом живы; но ещё больше душ живых там, на забытой воле, и ещё больших я излечу от смерти, и я буду по Мiру ходить с котомкой и проповедовать, и улыбаться людям, ещё не убитым, и собирать их - в котомку?.. нет: с собою забирать, в память мою забирать, внутрь молитвы моей - забирать.
Как уйти? За свободу заплатишь. Не успеешь её вкусить. Ведь расстреляют. Стрельнут с дозорной вышки. Пуля вопьётся в спину. Никто не вынет пулю из твоего сердца, как вынул солдату ты. Нет таких искусников. И Николай не вынет; ему лучше, если тебя не станет. Хотя тебя, раненого, ведь на стол к нему приволокут, и именно он к тебе подойдёт, со скальпелем и зажимом; больше некому.
А вокруг вас обоих, вокруг операционного стола будут, призрачные, толпиться, плакать, заламывать руки Души Живыя, Души Живыя.
И, когда я всё повторял это: Души Живыя, Души Живыя, - чёрная необъяснимая тревога, тоска охватывала меня, крепко сжимала в медвежьих лапах, взыгрывала вьюга, плясала вокруг меня, била меня по щекам, я отплёвывался, отфыркивался, закрывался от бешеного снега и всё шёл, шёл туда, где вставал к рабочему столу, где ждали меня ножи и зажимы, игла и кетгут, - в мой лазарет.
По слухам, Николай поселил Душеньку с ребёнком в доме начальника. Что ж, там её, глядишь, хорошо покормят. Она кормит грудью, и ей потребна хорошая еда и хорошее обильное питьё: чай со сливками, с морошкой, с малиной, с мёдом, топлёное молоко, клюквенный морс. Хоть бы дали ей чистое бельё! Ведь она так и ушла из лазарета в ту ночь после родов, прижимая сына к груди, в окровавленной рубахе.
НИКОЛАЙ
Точно, сумасшедший он и есть сумасшедший. Плохо быть одновременно батюшкой и доктором. Врач это врач. Он ни на кого не уповает. Ни перед кем ковром не стелется. Он как можно лучше делает своё дело.
А батюшка, он точно тронутый, он просто всем голову бабкиными сказками морочит.
Мы шли по снегу рядом, а будто в двух разных лодках плыли.
Он пытался у меня узнать, где Душенька. Я показал ему на каменный дом начальника. Алексей встал, помолчал. Исподлобья смотрел на дом. Двухэтажный, прошлым летом побелённый, перед домом занесённый снегом автомобиль. Там, внутри, холодильные шкафы, в них куча вкусной еды. Есть даже апельсины: из столицы привозят. А уж икра в трёхлитровых банках не переводится. Щучья, осетровая, лососёвая, да какая угодно. Я видел. Меня угощали. Начальник угощал. Я спас его первейшего помощника. Гнойный аппендицит, с перитонитом. Ну, тут не только я молодец, у больного организм крепкий, справился. Могла бы вся история перейти в заражение крови. Батюшка бы загундосил: Бог миловал. А я говорю: сильные мы ребята оказались, нам палец в рот не клади.
Начальник, радостный, довольный, лицо масленое, румяное, выметал на стол всё из холодильных закромов. Иные блюда я ел впервые. Дивился, головой качал и слегка помыкивал: м-м-м-м, вкусно. Начальник глядел торжествующе. Задирал курносый нос и становился похож на борова. Мы выпили, основательно закусили. А вот что пили, не помню. Не такой уж я гурман и знаток этого всего, вин и прочего. Вроде красное вино пили, потом коньяк. Коньяк вроде с Кавказа. Точно, коньяк, вспомнил. Начальник щёлкал по бутылке ногтем и жмурился: двенадцать лет выдержка. Я думал: хорошо живут начальники над неволей.
Наелся, напился, насиделся. Отдохнул знатно. Вышел в вечную полярную ночь и снег. Стоял, пошатываясь. Выпил на грош, а пьян на целый рубль. Идти-то надо. К себе в барак. Ночевать. Все дрыхнут после отбоя. Один ты в ночи слоняешься, под мухой, доктор фон Гон-Гаген. Начальничек угостил? С начальничком лебезил? Тьфу. Нет, точно, на войну пора. Попрошусь.
Только вон отсюда. Из этого курятника. Нового врача найдут. Я что, один такой?
И этот, этот, никуда не денется. Батюшка.
За меня - будет оперировать.
Хирург он, конечно, гениальный. Я слежу, как он оперирует. Его технологии мне порой непонятны. Но я их перенимаю. Краду. А что, запрещено? Никем и ничего не запрещено. Мир, собака, так и устроен, чтобы в нём все, всё и всегда друг у друга тащили. Всё, что плохо лежит. Искусство. Мастерство. Приёмы. Ухватки. Лямзили, тырили, пользовали. Радовался бы, молитвенник, что у него коллеги учатся.
Я потом, на войне, всё равно отсюда на войну удеру, все эти его приёмчики в деле применю. Сподручно! Ха, ха. Считай, святой отец, ты мне все свои находочки подарил. Премного благодарен. Пре... мно-го...
Он вырос передо мной из круговерти пурги.
Я закричал, его увидя.
- А-ха! Отец Алексий! Думал вот о тебе! Богатым будешь! Счастливым... а почему бы нет!
Он молчал. У него подозрительно ярко, как две ледышки, подсвеченные закатом, светились запавшие под лоб глаза. Треух он сдвинул на затылок, лоб поблёскивал росою пота.
- Что молчишь?!
- Николай Петрович. Вы пьяны. Называйте меня на "вы".
Я качнулся.
- А ты... вы беспамятный. В лазарете, в ту ночь... мы же с вами... с тобой... перешли на "ты". Синяки-то все зажили? Или ноют старые раны? К дождю?
- Прекратите. Прошу.
Я думал, он уйдёт. Нет. Стоял. Снег заметал его ноги. Он стоял в двух маленьких сугробах, как в белых песцовых унтах.
- Жаль, коллега, мы тут с вами лишены удовольствия... ха, ха!.. по стопочке... хорошего... дагестанского... высшего качества...
И тут произошло странное. Странного много в жизни, странного я навидался, но тут я застыл, к снежной тропе приварился валенками и слушал этот дикий бред.
Батюшка, стоя в снегу и воздевая руки, бормотал быстро, то невнятно, то отчётливо, почти не делая в речи пауз.
- Солнце станет птицей. Громадным орлом. Побеждённый упадёт на большой дороге лицом вниз. Так будет лежать, а громадная железная колесница проедет по нему и расплющит в кровавую лепёшку. Колесница будет ехать по телам, всех давить, крик поднимется к небесам, но крики не будут слушать владыки. Ни крик, ни приказ не остановят страшной упряжки! Люди наблюдают бег колесницы. Люди кричат: мира, мира! Они замирением хотят остановить ужас. Смерть хотят остановить! А небеса расходятся, как волны морские, и обнажается дно, и посуху огромная армия великого царя переходит времена. Когда последний воин исчезает в тумане, смыкаются красные волны. Красная вода. Кровь. Всё состоит из крови. Всё вернётся в кровь. Слышите? Слышите?!
Я всё прекрасно слышал.
Так, всё понятно. Бред как он есть. Осталось определить его природу: паранойя это или шизофрения. Немудрено. Здесь, за колючкой, много ужасов. Не всякая психика вытерпит. Но я держал доктора за выносливую мужскую особь.
Я не нашёл ничего лучшего, как схватить доктора за локти и резко, сильно тряхануть.
- Эй! Очнитесь! Слышишь, ты! Очнись!
Алексей глубоко вдохнул крутящийся, пуржистый воздух. Снежные искры усеяли его бороду, круглые очки сползли на кончик носа, и глаза глядели жалко, жалобно, доверчиво, совсем по-детски.
- Ночью... в постели... владыку задушат. Когда... не получится... его отравить... Ночью, в постели, это подло, это гадко. Жизнь дана, и жизнь взята. Владыка много сделал неправедного, а сам думает, он герой. Каждый человек герой. Каждому надо на грудь медаль. Только и награда может быть казнью, и казнь может стать наградой. Господь был распят, и что из этого получилось? Империя много претерпела. Претерпит ещё. Тяжко тащить воз. Коней распрягли, машины расплющили заводскими прессами, и железо пошло в переплавку. Трое придут и захотят стать героями. Предвечными ангелами. А вокруг, невзирая на объявление бесконечного красного праздника, все будет умирать, умирать... умирать. Те, кто ещё жив, будут письма писать владыке. Он не будет их читать. Ни один конверт не откроет. Страшно читать правду. Правду! Империя всегда сочиняет для людей легенду. Красивая легенда зовёт вперёд. Вперёд! Это наш завет. Наша молитва. Вперёд! Иди. Шагай. Ноги идут. Ноги идут. Только не останавливайся. Не останавливайся! Только... не оглядывайся назад. Не оглядывайся! Назад!
На миг мне показалось, у доктора в руке зажато копьё, а там, за ним, в тени наметённого сугроба, мотается тень лошади. Лошадь трясёт головой, кивает, бьёт наст копытом. Отступает во тьму. Я больше не вижу её, но слышу её тихое ржанье.
Вот ещё этого не хватало. Я не собирался сходить с ума.
- Алексей! что с тобой!
Он не слышал меня.
- Люди образуют смерч. Люди летят вдоль по земле, сеют разрушение и смерть. Люди безумны. Я не безумен, нет. Я говорю правду. Правду тяжело слушать, ещё тяжелее осознать. Нас, народ наш, хотят убить. Стереть с лица земли. Давно хотят. Многие в это не верят. Но карты открыты. Нечего больше прятать. Враги не смогут изменить их законы. Посадить на троны других владык. Наш владыка жесток, но мудр. Ему говорят: убьём тебя! А он молчит и усмехается, и с усмешкой глядит в лица убийц. Он смехом говорит им: это я вас убью. Единоборство! Всегда. Борьба навсегда. Война навсегда. Разве дело в деньгах? В золоте? В дипломатии? Война ведётся с открытым забралом. Ночью нападут на столицу. Ночью начинаются войны. Ночью последняя война начнётся. Никто не спасётся. Никто. Я разумен, я в здравом уме и твёрдой памяти. Вы слышите меня? Никто.
Я начинал дрожать. Всё-таки дьяволица эта поморская пурга. До костей пробирает.
Я сменил тактику.
- Всё, всё, хватит, я всё услышал, дорогой коллега, я всё понял. Идёмте. Идёмте в барак. Уже поздно. Хватит нам гулять. Я так замёрз, знаете ли, что протрезвел.
Мы ковыляли в барак вдвоём, я держал доктора под локоток, мы оба шатались и то и дело чуть не падали в снег. Наконец дошли. Перед дверью доктор стащил с себя треух, отряхнул его рукой в кожаной истрескавшейся рукавице и грустно выдохнул:
- Спасибо вам.
АЛЕКСЕЙ
Дитятко. Милое. Который час? Который день? Ах, который век я тебе всё это говорю? А может, кто-то иной говорит за меня: коты орут, птицы щебечут? Далеко, далеко мычат коровы: их подоить забыли. Если ты попросишь у начальника лазарета стакан молока, буду тебе благодарен. Я тебе благодарен, ты моё зеркало. Я отражаюсь в тебе, не видя тебя, видя тебя душой; и вот я уже счастлив. Так я отражался в Душеньке. А Душенька во мне.
Бросил я семью мою, уходя на войну, а тут довелось мне спеть обширный, нескончаемый псалом о семейной несбывшейся жизни, счастливый, хриплый, тоскливый псалом. Так люди по льду идут босиком. Так запрягают лошадь в телегу, а она вдруг вырывается из сломанных оглобель и пускается вскачь, играя, а потом вдруг возвращается к хозяину, что сидит в снегу кулёма, стащил овечьи голицы и плачет. Не плачь, человек! Много радости в жизни! Вот тебе радость, лошадь вернулась, не ускакала!
Душу мою забрал, к рукам прибрал врач Николай, выхвалился перед начальником, что, дескать, бабу при родах от верной смерти спас, и теперь эта баба его по праву; здесь уважают право сильного. Хотя, дитя, нету здесь никакого права. И нигде не было его, и никогда. Человек, для успокоения своего, выдумал право. Право, лево. Перепутать можно. И путают. Право и бесправие. Правду и лицемерие. Я часто видел, дитя, лицемерных людей. Как они лебезят! Как рассыпают алмазов снега под чужими ногами! Льют в пригоршни драгоценное сладкое вино! На пузо ложатся и ползут перед нужными, важными людьми. Мерзко на это глядеть. Но я глядел. И речи те сладкие слыхал. И слыша их, сам себе говорил: будь смел, говори людям правду, даже если за неё надо головою расплатиться. Расплатишься, коли дело дойдёт. Люди и получше тебя такую цену платили.
Поселились Николай и Душенька на втором этаже дома, где жили начальники: начальник барачного посёлка и начальник лазарета. Маленькую комнатёнку им отвели. Да отдельную. Тяжёлая дверь, чёрной кожей обита, литыми кнопками кожа к доскам пришпилена. Я бывал там у них. Входил. На меня со стены глядело зеркало. Оно качалось и клонилось. Или это я сам качался и клонился, да вроде не хмельной, а кровь сильней вина порой пьянит. Зеркало летело в меня белогрудой птицей, и в окно врывалось Солнце, ударяло мне в грудь пучком лучей, слепящий пучок погружался в лёд зеркала и вылетал из него наружу, и ударял мне в лицо, и я, слепой, застывал и закрывал лицо руками. Слепой! Мне Бог всё время знаки подавал. Чтобы я над жизнью задумался и о смерти молился. Плохо и мало я молился, дитя, плохо и мало; на работе в лазарете пропадал, а потом ещё к рыбакам в артель гнали, помочь рыбу тащить сетями, а часто и на сбор ягоды отряжали, а ещё на кухне повинность нести, картошку чистить, захожу, а на полу горы грязной картошки лежат, и вся мёрзлая, мягкая, сладкая, в сизой плесени. Не умели хранить.
Николай распахивал кожаную дверь передо мною. Я входил. Мёл пол полою рясы. Душенька вставала с табурета и мне пододвигала: садитесь. В колыбели спал Душенькин сыночек, мазаный блиночек. Круглое лунное лицо, бледные щёчки, ручонки за голову закинуты, пальцы такие маленькие, тонкие, что тебе стрекозиные брюшки.
- Какой милый, какой славный.
Николай морщился.
- Не хвалите. Сглазите.
Теперь морщился я.
- Это суеверие. Суеверия от диавола.
- А ваш диавол от кого? Диавол же без Бога не может? Или может?
Душа моя бросала дровишки в подпечек, ставила кипятиться широкий, как шкаф, медный чайник, брякала на стол миску с холодными блинами. Громко стучали часы, огромный будильник. Я воображал, как оглушительно, сотрясаясь в судорогах и подпрыгивая, он звенит в урочный час: железяка поднимает людей на бой. На жизни бой. И нет ему конца.
Я искоса рассматривал Душеньку. Она исхудала, сидела за столом иззелена-бледная, молча смотрела на блины, не на меня. Я ел, аккуратно сворачивая блин в трубочку. Прихлёбывал обжигающий чай. Душа моя крепкий заваривала чай, крепче водки, вырви глаз.
- Ешьте, ешьте блинчики, не бойтесь, это постные, без молока. На постном масле.
- Я не боюсь.
Ребёнок в колыбели начинал хныкать, Душа моя выплывала из-за стола и подходила к нему, и тихо брала на руки. Садилась, с ребёнком на руках, за стол. Я клал недоеденный блин на блюдце и глядел на ребёнка. Водил по его сонному личику зрачками. Выискивал в нём своё несбывшееся. Навек утраченное.
- Глядите? Глядите. Черты свои ищете? Ищите.
- Я ничего не ищу.
- А вот я ищу.
- Мне всё равно.
- Да ведь и мне всё равно. Я пошутил.
Детонька, нет в жизни, нет в ней, бедной, раз и навсегда затверженной истины! Сегодня враг, а завтра друг. Сегодня разбойник, сейчас из Ада, а завтра в небесах со Христом. Вот это, это я помнил хорошо.
Да всё, всё тут у них, в святом семействе, было налажено: рыбы на леске висели и вялились поперек окна, кумжа, треска, навага; над колыбелькою на ниточке гремели и щёлкали самодельные погремушки - в шарики из-под пинг-понга Николай охотничьей дроби натолкал, - в углу стояли широкие лыжи-снегоступы, ружьецо, острога, на длинные шесты сети намотаны, рыбу из моря тянуть. На подоконнике рос колючий пустынный столетник. Два сундука у стены горбили медвежьи спины, обитые медными листами. В тех сундуках, догадывался я, Душенька одежду держит, простыни-пододеяльники и подзоры. Откуда всё хозяйство? Веками копилось. По наследству перешло. Начальник лазарета, видать, семейству новому благоволил.
Никуда из Мiра, дитя, не исчезает добро. Оно живёт даже в Аду.
- Спасибо за угощение.
Вставал. Венский стул четырьмя ножками визжал, царапая половицы.
- Куда же вы... посидите ещё!
Я ловил глазами её глаза. И тут же глаза отводил. Не мог глядеть. Мог только улыбаться.
На это сил ещё хватало.
- Благодарствую. Я лучше ещё загляну. Потом.
Я обводил глазами комнату, и перед зрачками проплывали: медная миска, страшный чугун, медная ступка с торчащим пестиком, подзорная труба с разбитым стеклом, трёхрогий подсвечник, латунный чайник для заварки с гнутым, будто перебитым в драке носиком, о чудо, сахарница, да пустая, без единого кусочка сахара, деревянный расписной половник, верно, им Душенька зачерпывала из котла уху, оловянная солонка, серая крупная соль внутри, не соль, а разбитая молотком хрустальная друза; проплывали одеяла, рваные простыни на спинках стульев, брошенные возле сундуков мокрые холщовые тряпки, мыть полы, швабра возле окна, колючие узкие листья алоэ, а земля сухая, полить бы надо; пузырьки с лекарствами, пустые рюмки, корешки древних староверских книг, и там, дальше, голову чуть повернуть, на стене Распятие: да, староверское, медное, величиною с голову ребёнка, и Господь, через муки, через последний великий ужас, изогнув страдальчески брови, широко раскинув пробитые ко древу руки, глядит на нас.
Не мы на Него, а Он на нас.
Так вот люди жили и при Аврааме, Исааке и Иакове, и так живёт здесь и сейчас Душа моя; живи, Душа моя, только живи, а я буду молиться за тебя, чтобы ты жива была.
И, спускаясь по лестнице со второго этажа на первый, я вспоминал всё, что Душенька за столом говорила, и что говорил хирург Николай, как Душеньку хотели наградить правительственной наградой, ею награждали медицинских сестёр, военных санитаров и носильщиков за хорошую боевую работу, это было, когда она ещё работала в военном лазарете операционной сестрой, а потом, вздохнула она, явились враги, а потом опять вошли в город наши, и её поймали, как зверя, и вместо важной награды наградили ссылкою на лютый Север. Зато здесь Сияние, улыбалась она, такое красивое Сияние! А моя работа, мне сказали, приравнивается к боевому подвигу, опять улыбалась она. И я улыбался ей в ответ.
Да разве в наградах дело? Так же, как солдата в бою, сестру милосердия ранят. Так же, как солдат на поле боя, она умирает под выстрелами, под бомбёжкой. Душенька, а ты стрелять умеешь, тихо спрашивал я её, и она, подливая мне чаю, улыбалась: я не только стрелять могу, я могу пойти грудью на огневую точку противника и закрыть её моим телом. Запросто могу!
И опять улыбалась.
И эта её улыбка реяла флагом над столом, над нашим чаем, а попросту чифиром, как здесь, на северах, любят и пьют, чтобы опьянеть и согреться, и она тихо говорила о том, что на войне сёстры милосердия совершают невозможное, и мы даже не можем себе представить, сколько на войне сестёр, одни женщины и девушки, одна огромная армия великих женских душ, вот уж воистину Души Живыя, что спасают жизнь, лелеют жизнь и борются за жизнь, отвоёвывая её у многоглавой и многоочитой Смерти, и как они все, сёстры милосердия, прекрасно понимают, что они выполняют долг перед Родиной, великий и единственный долг: за этим они родились на свет, это исполнят, с этим - во тьму - коли суждено - уйдут. Солдаты! Родные! Любите ваших сестёр. Они самые прекрасные женщины на земле. Они ваши матери, ваши любимые, ваши зазнобушки, ваши младшие сестрички с белыми пружинистыми косками по плечам, ваши будущие доченьки, сидящие у ваших смертных постелей, когда ваш час в мiру придёт. На войне кто о чём мечтает. Каждый о своём. Кто жаждет домой вернуться. Кто дойти до логова врага, до истоков его всесветной злобы, до страшной полнощной площади, где он жёг кости святых и книги пророков, и изничтожить его в насиженной его берлоге. А ты о чём мечтала на войне, Душенька? Родная сестричка моя? Она опускала глаза. Чашка с крепким чифиром дрожала в её руке. Врач Николай пристально смотрел на неё, глазами приказывая ей: правду говори. И она вдыхала и выдыхала: я на войне всегда хотела дожить до дня рожденья. Чтобы дожить вот до такого моего дня рожденья, ещё справить его, отметить. Хоть гроздью мёрзлой рябины. Хоть кусочком вяленой воблы. Хоть ржаною корочкой. А то и мензуркою спирта. Но отметить. Рожденье, это праздник. День твоего рожденья - это вера в то, что Время всё-таки есть! А то вот, и она длинно, горячо глядела на меня полдневной, пылающей синевой, доктор Алексей говорит, времени нет. Нет Времени! Есть ли Время! Мне всё равно, когда я гляжу на Душу мою. А она вздыхает, закрывает глаза и шепчет: да, я всегда хотела дожить, я отсчитывала дни, и мне страшно было умереть, погибнуть, не дотянуть до этой даты. До какой? А секрет! А в чём ты ходила, Душенька, на войне? Дай мне представить тебя солдатом Евдокией! Ой, доктор Алексей, я... я... ну, я на войне в брюках ходила! И в пилотке набекрень! Кокетничала, да? Ну да, немного! Залихватски так! Хотела, да, настоящим солдатом быть! Мы, сёстры, всегда ведь на войне солдаты! И, не смейтесь оба, всегда я была в грязи. Вся изгвазданная! Ну, ведь если бой рядом идёт, на коленках по полю ползёшь, на брюхе, а потом под тяжестью раненого... или на плечах его тянешь, или на брезенте... И я, знаете, я даже не могла себе представить, что наступит такое время, и можно будет не ползти, а идти... Встать и идти по земле. Прямо. Не сгибаясь. Вы только не смейтесь!
Да мы не смеёмся. Мы вот сейчас по земле - ходим.
И что? Счастливее мы стали?
Она отпивала из кружки чай и бормотала: а мне сейчас война снится, снится, эшелоны снятся, раненые в эшелонах, вагон трясётся, мы вагон обходим, наблюдаем, не умирает, не умер ли кто, сторожим смерть, бережём жизнь, и устали дико от этой стражи, а враг наступает, и всё мне снится, что враг, дрянь такая, превосходит нас во всём, и людей у него больше, и зениток, и самолётов, и танков, вон он, над нами, самолётный гул, воздух от гула тягучий и плотный, им невозможно дышать, слёзы сами льются, просыпаюсь, а подушка в слезах.
Ты не плачь ночью, не плачь, шепчу я ей, и коричневый остывший чифир дрожит в её чашке, как густая венозная кровь.
Мне снится, шепчет она невнятно, быстро, что раненые к нам в лазарет всё поступают и поступают, всё притекают и притекают, а мы с убитой сестрой Лизой всё стоим и стоим у стола, и мы за хирургов, всех хирургов убили, а мы за них, и смены нам нет, некому нас сменить, и мы стоим у стола, сами оперируем, сами режем и зашиваем, зренье вдруг застилает тьма, чуть не падаем, ослабли, и вдруг вправду падаем, кто из нас свалился, Лиза или я, а, да, это убитая пьяным жестоким офицером Лизка, офицер, разъярённый, выстрелил тогда в дверь, пуля Лизке в лоб, а почему же она живая стоит у стола, да просто потому, что она помогает мне, а то я упаду и не встану, а нам надо раненых спасать. Для иных мгновения решают всё! Жить, умереть. И мы с Лизкой стоим почему-то за столом в касках, наши каски обтянуты марлей, ну, чтобы хоть намёк на стерильность был, я во сне соображаю, это нас предупредили, что каски надеть надо, а то взрыв, и осколки летят, и мы сами тут, над раненым, умрём.
Милые, бормотала Душенька, родные, а ведь каждого раненого мы там, в лазарете, любили как родного, мальчишечки такие, желторотые, ну они же как дети, так они и есть дети, а уже бойцы, самолёты на них налетают стаями, танки идут железными стадами, нет железу конца, а они, живые, всё стоят и стоят, стоят насмерть, вот они уже очень хорошо выучили эти слова - стоять насмерть, и стоят, держатся... израненные, осколками истыканные, кровью обливаются, а стоят, поле боя не покидают. Там, во сне моём, вижу: у иных ребят десятки ранений, понимаю, это мина разорвалась, а кто подорвался на мине, вот курсантов везут, почти у всех ранения в брюшную полость, кто в сознании, кто бредит, у кого шок, у кого коллапс, у кого уже перитонит и сепсис, и температура под сорок и даже за сорок. Родные, милые, какие громадные раны я видела! Во сне или наяву, спрашиваю я, и голос мой теряется и тает. Наяву, конечно, отвечает Душенька, и губы её дрожат. На стол раненого кладут, а я от ужаса застываю. И так стою, ледяной столб. Кишечник выпадает. Докторов всех поубивали, а я сама кишки раненому в живот заправляю! Руками! Вот этими, этими, голыми руками! И поднимает руки над столом передо мной, и показывает мне руки, и руками трясёт, будто бы я не поверю, что да, этими, вот этими руками, а Николай подливает в чашки заварки и тихо спрашивает меня: покрепче? А Душенька от тихого шёпота поднимает голос до резкого крика, и жмурится, и кричит, и слёзы брызгают у неё из глаз на скатерть: мы с мёртвой Лизкой оперировали его больше двух часов! Больше двух часов! А он всё равно умер! Всё равно! Всё равно... умер...
У нас и такие сёстры в лазарете были, раненый мальчонка умирает, а она там же, в операционной, хохочет, со смеху покатывается, потом курит, в окно смотрит, зевает, спать хочет. Да! и такие были. И такие были, что глядят, как хирург оперирует, а потом в коридоре лазарета вздёргивают плечиком: ты знаешь, я сегодня сама оперировала, мне скальпель доверили, так я врачу подсказала много всяких точных ходов хирургических, а он и не знал, глупенький, он меня благодарил! И ждёт, кукла, восхищения. Хорошо, у нас такие фифы долго не задерживались. Когда враги заявились, таковские балеринки к ним быстро переметнулись. Хорошо бы их всех убили! Убили... убили...
Тихо, тихо, шептал я и гладил её по руке, по гусиной, в пупырышках, гневной коже, не ярись, не плачь, их и так Господь накажет. Уже наказал. Мы не знаем, как, но наказал.
А мы с Лизкой, шепчет она опять еле слышно, в моём сне, всё у стола стоим, стоим... нас никто не сменит никогда... нет у нас санитаров, нянечек, врачей... никогошеньки нет, только мы с Лизкой...
И опять, опять несут ребят, на мине подорвались. Один мальчик даже не стонет. Нечем стонать. Голос исчез. Ноги оторваны. Стопы кровят, растопыренные, на красные веера похожи. Я беру в руки эту ногу и так с ней стою. А потом падаю. Разум отшибает напрочь.
Я спрашиваю мёртвую Лизку: Лизка, а когда наши придут? Может, никогда? Лизка поднимает ко мне лицо. Проверяет на больном жгут, повязку. Говорит мне тихо, размеренно: Душенька, я больше не могу. И я не могу, отвечаю я ей. Сейчас бы на печке поспать! Залезть и согреться. Шинелью до ушей укрыться. И будет сон во сне. Представляешь, ты спишь, а тебе и во сне снится сон. Сон-матрёшка! Видала ли ты такой когда в жизни! Да никогда!
Точно. Никогда, она мне отвечает.
Тихо, тихо, утешаю я Душеньку, тихо, милая, мы всё поняли, это сон во сне, а она всё не унимается: раненые всё прибывают, нам некуда их класть, мы кладём их на пол, и пол весь усеян ранеными, а они всё наплывают, всё плывут, живые пробитые лодки, и где же здесь Бог, почему Он не видит, что здесь творится, почему не поможет?! Господи, помоги! Да слышит ли Он! Сил наших нет уже глядеть на людские страдания! И со всех сторон к нам с мёртвой Лизкой несётся: сестра, сестрёнка, сестричка, сестрица, сестрёнушка!.. Сердце, Алёша, сердце ведь есть у меня... тяжёлые ранения такие... в живот, в затылок, в лицо, в грудь... отломки костей торчат, открытые переломы рук и ног... простреленный позвоночник... Вместо шин привязано к конечностям всё что угодно: доски сараев и заборов, дедовы лыжи, портновские сломанные метры, жгуты наложены из скрученных рейтузов, из порванных в куски атласных старинных покрывал, с вышивкой гладью, и по зелёному яркому атласу вышиты Райские Жар-Птицы и пышные розаны, а кровь течёт, и натекает лужами под койки, под операционный стол, и отовсюду слышно: сестрица!.. сестрица!.. И меня, родные, Алёша, Николай, за руки хватают, а я их спрашиваю, как их зовут, ну, чтобы обратиться по именам, и они мне бормочут: Алексей!.. Николай!.. Вот опять за руку во сне схватили. Я застыла, и пульс во мне застыл, это значит, сердце застыло. Остановилось?! Как бы не так! Молодая я. Меня не остановишь! Гляжу: ведь боец умирает! А мне шепнули, когда в операционной с носилок сгружали: он герой. К Герою приставили! К награде на всю страну... Глажу героя по лицу. Вот ужас! Смерть. Близко. Плакать?! Зачем?! Смерть тебя не услышит, не сжалится. Губы вздуваются, пальцы щиплют лазаретную простыню. Вытянулся. Всё! Это сон, беззвучно кричу себе во сне, это сон!
Милые, во сне моём мороз трескучий, минус сорок, мы бойцов укрываем шинелями и шубами, а они всё равно дрожат, кто будет жить, хочет есть, а иногда есть хотят и перед смертью, насладиться едой напоследок, и я знаю, утром я буду писать письма родным погибших, как, когда и где боец погиб, это письмо из лазарета, дойдёт, представляю, как мать зальётся слезами, как на пол в избе упадёт в рыданиях любушка.
Душенька, говорю ей, ты не плачь, а Николай весь белый, губы кусает, он уже устал кипятить чай, ребёночек кряхтит, им надо спать, семье надо отдыхать, а я куда пойду, а я пойду в барак, Душа моя, твой сон закончен, началась явь, ребёнок плачет, ночь на исходе, пора вставать, да и мне скоро вставать, я прихожу в лазарет затемно, вслед за мной придёт Николай, и мы будем жить, работать и дышать, это значит воевать, а ты поспи, хоть немного поспи, нет человеку на земле сна, потому что война, а ты вздремни, последние дни, а я пойду... глядеть в ночи на звезду.
Я выходил в снег. В ночь. Зима здесь сплошная ночь; дня нет, есть только снятое молоко туманных, иномiрных сумерек. Я здесь, в призрачных сумерках, являлся сам себе вековечным мужем Души моей. Нас было не разнять, меня и Душу мою. Кто придумал разрубить нас? Такого быть не могло. И не станет такого никогда. Обниму я Душу мою, и так, обнявшись, предстанем мы с нею на Страшном Суде. Староверы любят икону Страшного Суда; здесь, на Севере, во множестве церквей подобные иконы я видал, молился близ них, запоминал их, входил взором и сердцем внутрь. Пережил я таким образом, дитя, Страшный Суд много раз; и для меня он стал не последним ужасом, а предвечным, сверкающим праздником. Даже блеск и колыханье ночного Сиянья не могли этот праздник отразить. Я сам был его живым зеркалом. Ходил среди людей, ночевал в бараке, терпел тычки, побои и поношения, лечил людей, резал их плоть, врачевал их души, а сам всё отражал, отражал телом моим и нутром моим Страшный Суд. И всё твердил себе: да, когда-нибудь, о, когда-нибудь я отважусь, я сподоблюсь, я его, Откровение Иоанна, самым ярким и могучим из всех моих цветных, ослепительных видений грядущего - на куполе полнощного небосвода - моею кровью - изображу.
Страшный Суд! Человек, в жизни его, сам себе Страшный Суд. Вот подходит он к концу жизни, и оглядывается, и видит: во страшных грехах жил! Ждёт приговора. Даже неверующий ждёт. В эти годы перед концом, в эти дни, как человеку кончиться, восчувствует он Страшный Суд всякой клеточкой тела его. Спать ложится - веер Суда разворачивается перед ним, и он медленно идёт вдоль жизни своей, и прошлой, и грядущей. Перебирает дни и ночи, ужасается, любит, льнёт губами и руками к незабываемому.
Вот так же я выходил в полночь и льнул тоскующим, любящим взглядом к усыпанному звёздами зениту. Планеты и звёзды ходили вокруг меня кругами, как волчата вокруг матёрого волка, обнимали меня, жались ко мне. Я, живое зеркало, ложился спиной на снег, животом и лицом кверху, к звёздному небу; и так лежал. Улыбался. Отражал небо, ночной Мiръ, Север, мою тюрьму на берегу моря, мою великую свободу: разве Душу мою можно заточить в застенок? Душа моя врачует страдания. Исцеляет немощи. Таким я рождён, так меня учили. И я выучился ещё кое-чему. Я знаю теперь, как пребыть в предвечном браке. Брачная Вечеря! Вот она. Моя и Души моей. Не изменю ей никогда. Не предам её. Не совершу тяжкого греха ради неё, ни убийства, ни подлости, ни обмана, ни иного преступления. Вот лежу на снегу, а это мы вдвоём с нею, обнявшись, летим на пир к Отцу нашему, к Матери нашей Богородице. С нами малый сынок наш. Он говорит первые и последние в жизни людей слова. Высокие. Небесные. Я есмь Альфа и Омега, начало и конец всего.
Я понимал: могу замёрзнуть. А не вставал со снега. Уж слишком ярко, густо, мощно, безысходно, богато, царски сияли и переливались бесчисленные звёзды. Я же просто зеркало. Я и должен так валяться. Богом забытый, людьми брошенный. Никто меня не поднимет. Ни охранник. Ни узник. Ни начальник. Никто. Мы с Душою моею светло улыбаемся вам. И отражаю, отражаю я весь Мiръ, и людской и зверий, и видимый и невидимый, и морской и сухопутный, и военный и тихий, без смертей и огней. Тихая ночь! До чего тиха! Звёзды плывут рыбами, осыпаются на мёртвую землю спелыми белыми ягодами. Урожай звёзд. Я сегодня богатый. Таскаю звёзды корзинами. Душенька моя, ты-то хоть веришь, что я собою отражаю Время? Я зеркало, во мне горит и светится будущее. Тяжело мне отражать его. Но кто-то должен его увидеть и отразить. Это я. Моего имени не запомнят. Не узнают. Вот сейчас, милая, родимая моя, я вижу перед собою громадное зеркало. Я сам зеркало, и надо мною висит чудовищное зеркало. Мы, два зеркала, глядим друг во друга. Это опасно. Можно так отразиться в чужом зеркале, что стекла хрустнут, и упадёшь в зазеркалье, а оттуда не выбраться, и не спасёт тебя Бог, ибо нет Его там, куда ты ненароком улетишь. Я сам себе пророчу: спасусь! Я всем людям кричу отраженьем: живы будете!
Живы, родные, и в последней смерти.
Последний приговор - тоже зеркало.
Криво, темно грешник отразится. Заплачет. Ярко праведник воссияет. Восстанет из скрещенья зеркальных, могучих лучей. Сдвинутся стекла, дрогнет и вдаль из-под рук поплывёт амальгама. Если ты закроешь глаза, отраженье исчезнет. Не гляди. Ослепни. Ты слеп. Ты всё видишь внутри. Без зеркальных, алмазных, небесных глаз.
НИКОЛАЙ
Они, втроём, пропали.
Пропали и пропали.
Она, доктор и ребёнок.
Начальство охранников на поиски отрядило, с винтовками. Ни записки не оставили, ничего. Охрана пошла сначала вдоль берега моря, побережье прочёсывать. Никого. Я, когда домой пришёл вечером из лазарета, и никого, комната пустая, я сразу догадался. Это не доктор виноват. Это она сама его подбила. Я видел: я ей не мил. Чужой я ей. Я старался сломать лёд. Да плохой я ледокол оказался. Застрял во льдах и стал тонуть. Не моя война.
А чья?
Война, настоящая, там идёт, вдали. Далеко в море. Далеко на суше. На западе. Ехать надо, пересечь тундру и тайгу, переплыть реки. Тогда достигнешь войны.
Я надел маскхалат и побежал на широких охотничьих лыжах за охраной.
Я сам хотел их найти.
Охранники топтались близ заберега, курили. Один прицелился, чаял подстрелить белька, другой ему помешал. Нагнул ствол и отвёл пулю. Мужик изругался бешено, да скоро остыл, уже смеялся, на Солнце щурился.
- Думаешь, далёко ушли?
- Да ничего я не думаю! Выследим! Не так уж они шустры, чтобы босиком по воде до Кеми усвистать!
- Да уж. Босиком не выйдет. У Христа вышло, а у них нет.
- Однако их могла приблудная лодчонка подобрать.
- Не исключено. Тогда начальник нам лишнюю пайку к обеду не выделит.
- Какая там пайка! На хлеб и воду посадит.
Я слушал их слова и не слышал.
Охрана двигалась в одну сторону, а я, будто кто меня в спину толкнул, поехал в другую. Недолго катился. Я увидел их издали. Они чётко смотрелись на ярко-белом снегу. От такого снега можно ослепнуть.
Какое охватило искушение - вздеть винтовку и выстрелить! Я себя поборол. Ещё этого не хватало, убийства. Мало я навидался смертей на войне. И здесь. Здесь люди умирали похлеще, чем на военном театре. Кого охранники забьют до смерти. Кто сам в бараке на гвозде повесится, на рыболовецкой снасти. Кто за ночь замёрзнет, и поутру за ноги узники вытаскивают покойника на белое снежное солнце. И он лежит с улыбкой, как младенец. А меня срочно зовут из лазарета - сделать мертвецу искусственное дыхание. Приду, ругаюсь, плююсь: какое вам дыхание, околел уже. Прикоснусь и руку отдёрну: такой ледяной. Будто айсберг ладонью потрогал.
А эти!
Шли и шли, крепко прижавшись. Доктор обнимал её за плечи. Она несла на руках ребёнка. Шли, обнявшись, увязали в снегу, выпрастывали ноги из снега, брели опять, медленно, как во сне, передвигаясь, нет, это не побег, подумал я горестно, внезапно задрожав, как в простуде, это им просто надо было побыть вдвоём. Да! Она его. А он - её. И делу конец. Я-то тут при чём? Я-то куда сунулся? А ведь сунулся. Зачем? Сам не знаю. От любви погибал? И вроде не погибал. Любую любовь можно в себе затоптать. Любовь, подумаешь, рефлексы, похоть, восстание плоти, запахи кожи, подмышек, шеи, волос.
Ребёнка, сволочи, заморозят. В какую шкуру какого зверя они его укутали?
Как же я любил её! Я это понял лишь сейчас, когда нагонял их, медленно бредущих, на широких таёжных лыжах, умирая от тока бешеной крови в висках и затылке, ловя мороз и Солнце жадным диким ртом, мысли рвались в тряпки, в лоскуты под безумным черепом, то твёрже стали, то мягче парафина, они всё ближе, я всё ближе, расстояние между нами сокращается, ну, сейчас я вас нагоню, вы у меня получите, я толкну вас и уроню в снег, вы будете барахтаться в снегу, пытаться подняться, но не сможете, вы сможете только стоять в снегу на коленях, а ребёнок, он же будет заходиться в хрустальном плаче, в поросячьем визге, он выпадет на чистый снег из горячей шкуры белого медведя, откатится прочь от вас, и я подкачу к нему на лыжах, подхвачу его, крепко прижму к себе. Мой сын! Что они творят, безмозглые уроды! Любились бы, собаки, под кустом! Тебя оставили бы мне!
Тремя, двумя широкими шагами я нагнал их. Они не слышали, как я сзади подъехал. Я прокатил на лыжах вперёд, остановился перед ними. Они встали. Они не особенно удивились. Думаю, им было всё равно. В их глазах блестели слёзы. И у него, и у неё.
- Ну что, балбесы? Погуляли?!
Ребёнок на руках матери спал крепко. Не просыпался.
- Погуляли, - тихо ответила она.
Её синие глаза перестали на меня смотреть и стали обводить большой, огромный круг. Она обводила ярко-синим, небесным взглядом небо, ледяное иконописное Солнце, сугробы, волнами катящиеся по тундре, чисто-белую кромку льда, серую рябь живой далёкой воды.
- Жаль, что ты меня не убил. Там. На войне, - сказал доктор. Его бороду пошевеливал солёный ветер.
- Это мне жаль, что ты меня не убил.
Я сам не знал, как у меня это вырвалось.
Мы стояли друг против друга, и подводный страх двойного зеркала обнял меня: я отражался в нём, а он во мне.
- Ну что? Заворачивай оглобли!
Мать с ребёнком стояла посреди снегов. Как не отсюда. Как неживая. А небесной кистью написанная, беличьей, колонковой голубизной.
Я пытался заглянуть в её глаза. Бесполезно. Она смотрела мимо меня и сквозь меня. Не видела меня. Я для неё был никто.
Охранники подкатили к нам. Им даже не понадобилось наставлять старые ружьишки на мать, доктора и дитя. Они сами пошли, покорно, так же медленно, но теперь не вперёд, а назад. Беда в том, что назад они шли, как вперёд. Назад, а всё равно вперёд.
Я катил за ними, и слёзы, чёртовы слёзы наполняли мне глаза, я твердил себе: это ветер, это от ветра, на морозе, утирал мокрые подглазья и скулы рукавицей, а чёртова жидкость всё катилась из-под глазных яблок, круглых, безумных, слепых, я бы хотел ослепнуть, ничего больше не видеть, я же видел, как он смотрел на неё, а она на него, и вот ведём мы их домой, а дом наш тюрьма, а игрушки наши - пули и колючка, и я знаю, им никакая смерть не страшна, они здесь как на войне, а по правде они уже умерли, и я сейчас наблюдаю их бесплотные души, вот идут две души, впереди, и я за ними, и я плачу сам о себе, и спина трясётся, а они идут, обнявшись, тесно прижавшись, и я хочу плюнуть им в спину, и не могу, потому что не понимаю, что уже молюсь за них. Я никогда никакому богу не молился. Всё это придумки, измышления. Человек богом себя успокаивает, только и всего. А сейчас я шёл за ними и молился им и за них. Впервые в жизни.
Я на всю жизнь запомнил, что я в той снежной пустыне бормотал.
Милые люди, ну вы давайте, не сдавайтесь, вы только живите. Вас убивать будут, а вы только живите. Бить будут, наплюйте. На мороз голяком выведут - улыбайтесь. Я вижу, я слышу вас. Лучше вас нет. Я вас ненавижу, потому что вы любите друг друга. Я вас люблю, ведь у меня нет другого выхода. Люблю и ненавижу, вот ведь как. Так бывает. Ненавижу и люблю. Обоих. Да вы давно одно. Зачем я вас узнал? Это всё война. Она нас свела. Только не падайте в снег. Только идите. Идите. Уже недолго.
Как так получилось, что щёлкнули затвором во мне, глубоко? Там, куда мне самому хода не было никогда. Я подкатил на лыжах к дому начальника. Протянул руки к Душеньке: мол, дай мне ребёнка, понесу, ты устала, наверх по лестнице одна поднимешься, а я с младенцем за тобой. Доктор застыл рядом. Глядел круглыми глазами. Круглыми совиными очками.
Охрана заворчала.
- Да мы бы тебя отвели за бараки, дрянь такая, и шлёпнули!.. если бы ты не врачевал тут. Костоправ...
- Товарищ хирург, вы к себе давайте!.. захолодали на ветру-то.
- А этого козлину бородатого уж до барака доведём... не потеряем по дороге.
Я глядел на охранников и не видел их.
- Ступайте, ступайте. Доктор поднимется ко мне, я его чаем напою.
- Ну, чаем так чаем... как решили уж...
- Идите, товарищи доктора... ты, поп, больше такого не твори, иначе...
Душенька крепче прижала к себе ребёнка. Поднималась по лестнице первой, мы за ней.
Ввалились в комнатёнку. Запахло кислым молоком. Душенька положила младенца на диван. Он проснулся и громко заплакал.
Я был, стоя тут, рядом, его зеркалом, и в моём чёрном бездонном стекле всё громче плакал он, а это я, я плакал.
АЛЕКСЕЙ
Кармен, Дульсинея, Офелия, Марфа, чья-то чужая Душа; сорванная со стены чудотворная икона. Образ синеглазый. Детонька, ты слушаешь? Слышишь... Я сам себя не слышу. Голос тоже может слепнуть. Говорю, а звука нет. Обезголосел. Моя Душа смертельно больна. Я бы мог сделать ей операцию. Надсечь дрожащий внутри нерв. Выбрать единственно верное место и полоснуть по нему скальпелем. Хирург, его дело такое: молиться и резать, резать и молиться. В операционной начальник навесил новые электрические лампы, и санитарка больше не стояла над нами с керосиновым светильником. Ребёнка успокоили, мать покормила его, я глядел, как она суёт ему грудь, а он крепко вцепляется беззубыми дёснами в лиловый изжёванный сосок. Я не помню, дитя моё, кто из нас первый начал вселенскую ссору. Человек это Вселенная, и один звёздный остров наползает на другой, и сшибаются звёзды, пытаясь пройти друг сквозь друга. Свет сквозь свет. Не задеть. А всё равно задеваем. Лучами друг друга раним. Борьба! Её не уничтожишь. Как часто видел я её во сне! В ярких виденьях моих! Сшибаются лбы. Схлёстываются руки. Мы с Николаем уже бились смертным боем близ родильного ложа нашей любви. И вот, живы мы, и жива она, и жив ребёнок. Так зачем снова ступаем мы в топкую грязь безумия и вражды?
- Ты можешь отсюда исчезнуть. Попросись на поселение. Там, на берегу, если идти на заход Солнца, живут лопари. К ним иди. Начальник отпустит. У тебя много заслуг. Я, слушай, ну пойми ты, можешь меня ударить, казнить, можешь всего исплевать меня, я тебя видеть не хочу. Не могу. Ты как клин, и вбили его в нашу семью.
- Куда мне идти?
- Ненавижу я тебя. Сгинь.
- Я не исполню твою волю. Я не твой слуга. Только волю Бога.
- Провались ты со своим Богом!
Кто первым на кого руку поднял? Я не упомнил. Слепая моя память этого не сохранила. И правильно. Так память защитила меня от воспоминаний, что, возвращаясь, умертвили бы меня. Всяк человек грешник. Я тоже грешник. Господи, помилуй. Господи, прости.
Наша драка: снова, опять, всегда. Накатывается волна Адского прибоя. Человек воюет с человеком. Всё повторяется. Повторяется годовой круг. Повторяются рассвет и закат. Повторяется чувство. Любовь одна. А людей много. Мы повторяем себя. Один лютый бой отразился в другом. Ну, убей меня! Убили же люди Бога своего.
Кашель, кашель, похожий на вопль, женщина задыхается, кашляет дико и надсадно, выворачивает кашлем нутро, захлёбывается, так захлёбываются последними рыданьями, а о чём плакать, не о чем, все мы грешны, все мы несчастны, все мы умрём.
Все?!
Помню лишь одно. Я размахнулся, а Душа моя сунулась под руку мою. И я ударил, мнил я, соперника, а ударил её. И рухнула она на пол, на крашеные масляной краской сосновые половицы, и, падая, сильно ударилась виском о медью обитый острый край сундука.
Сундук. Добро людское. Хранилище. Звери и птицы там живут; соловьи и совы; медведи и песцы; голицы и валенки; простыни и подушки; да вся жизнь человеческая в мощном сундуке жива, вынимай не хочу, расстилай не могу. Душа моя лежала на полу, и ведь я знал это, знал, что так будет. Я видел это. А себе врал, что нет, не будет. Я же всё видел! Всё! До пёрышка! До капли! До позолоты на иконе! А икону сдёргивали, швыряли об пол, трескалась она надвое, и её сжигали, сжигали потом на задворках, плясали вокруг неё и пели: мы наш, мы новый Мiръ построим! Какой Мiръ строим мы сейчас? Какой придёт потом, после, строить нас? Разрушенных, разбитых, нас, руины...
Она лежала. Я стоял. Я знал: ничего сделать нельзя. Мертва.
И это я сам её убил.
Случайно? Ничего нет случайного. Всё предрешено. Наказание мне за все грехи мои; за то, что мало и плохо я боролся за Душу мою, мало и плохо защищал её и любил её. Я сейчас её люблю любовью огромной, огромней Мiра, моря и смерти. Николай приблизился ко мне. Лицо его было страшно. Я понял: он меня теперь убьёт. И я хотел этого.
Он поглядел на женщину и тоже понял: нет, не спасти. Я хирург, он хирург, разве мы можем самым острым скальпелем вырезать из человека смерть? Шагнул ко мне, руки его поднялись, я подумал, он обнять меня хочет, а может, задушить. Руки опустились. Он оскалился, скрипел зубами. Хотел кричать, я это видел; кадык надувался на его глотке. Ударил меня в грудь, раз, другой. Я устоял на ногах. Я успел только увидеть, как летит ко мне его рука, сжатая в железный кулак. Железный. Железный.
Плоть может стать железом. Война доказала нам это. Зачем всё так вышло? Мы хирурги, я учился у него, он учился у меня. Наше мастерство кроваво и свято, мы возрождаем жизнь посреди смерти; зачем ты, Душа моя, вклинилась, затесалась между нами? И вот хирургов нет, а есть два несчастных человека, и один несчастный бьёт другого беднягу кулаком; крепко; страшно; в лицо. Выбивает глаз. Если бы это был палач! А я был казнимый! Святое семейство! Не моё, чужое! Зачем теперь убита мать, а отец ослеп от ненависти!
...а я, я ослеп от любви.
Я сам убил мою Душу, чтобы её спасти от позора и зла, чтобы она воскресла. Я явился рукой Бога. Нет руки диавола; есть только Божия воля. Я читаю Его письмена. Пою Его псалмы.
Губ мои дрожали. Кровь лилась из глазницы. Глазное яблоко всмятку. Оперировать бесполезно. Забрось скальпель твой в светлую, слёзную волну. Отработал ты. Одноглазых хирургов не бывает, так же, как одноглазых Херувимов и Серафимов. Слепой хирург, дитя моё, всё равно что глухой музыкант. Я себя уговаривал: значит, теперь у тебя будут зрячие пальцы. Зрячей твоей Души нет. Как ты будешь видеть вдаль? Как будешь пророчить? Избрал тебя Бог жезлом Своим, и обездолил тебя Бог, низвергнув в бездну плача; расцветут в иной земле твои пророчества, иное небо ты провидишь.
Сражение двоих. Друзья либо враги. Друзья и враги.
Я медленно сел, осел на пол. Рядом с Душенькой.
- Мы братья!
- Нет!
- Тебе кровь мою перелью!
- Нет!
В меня вбивали "нет!", раз, другой, третий, такие великанские кривые гвозди, с широкими шляпками, острые концы, красная ржавчина, чёрное древнее железо, и нет, нет, кричу я призрачной, из снов моих, царице Елене, нет, матушка!.. ты Крест Господень нашла, но нет, не надо из пропитанной кровью земли откапывать гвозди! Гвозди, звёзды. Вбиты по шляпку в чёрную небесную смерть. Я не могу их сосчитать. Ими, гвоздями, в меня вбивают страх. Боль. Любовь. В меня небесными гвоздями вбивают мою смерть. Я умру; и я воскресну. На звёздном Страшном Суде. Они все, звёзды, горели в синих, лазурных очах нежной Душеньки моей. Всё назначено вынести. Всё записано на скрижалях. Каждый человек, убивая другого, поёт свою песню. Кто же виноват, что песня такая печальная. Это наша война, она может возгореться посреди любого Мiра.
Николай стоял надо мной, а я сидел на полу и не мог поглядеть на него единственным глазом.
Спросишь, почему я теперь не вижу ничего? Второй глаз ослеп сам по себе; я не мог остановить развитие глаукомы, она разрасталась внутри, и глаз, деточка, ведь он кусок мозга, выведенный Богом наружу, под лоб; косой конус уходил внутрь моей мысли, разрезал разум, прокалывал пустотой ясноликое стекло, что отражало всё и вся, лишь меня самого отразить не могло. Я всегда был зеркалом всего и вся. Хирург и должен быть зеркалом; он иной раз надевает круглое зеркало на лоб, чтобы отразить пучок направленного ему в лицо света и яснее рассмотреть беду у человека внутри. Я отражал Солнце. Я отражал любовь. А любовь, дитя моё, не нужно отражать. Ею надо светиться. Светить. И, лишившись зренья, я обрёл собственное свечение. Это трудно объяснить, но это так.
Больше я тебе скажу: утратив зренье, я овладел Временем сполна. Я видел его насквозь, я менял времена местами. Я ходил по Времени, как по снегам, по тонкому льду, по холодной воде. Мiръ разымался передо мной, как мышцы под лезвием скальпеля, и я разваливал сильными руками края разреза, и выворачивались передо мною наружу все алые и синие внутренности, и я поражался, до чего чудесно всё в человеке было устроено Богом; ослепнув, я видел землю, небеса и дух, я видел насквозь, до дна прозрачную душу и утлое тело, мы плывём в лодке тела, и вдали остров, а может, айсберг, а может, зеркало, новый материк, безлюдная снежная пустыня.
- Что я наделал...
Он сел на пол рядом со мной.
Душа моя бездвижно лежала рядом с нами.
- Ты не виноват.
Я в первый раз назвал его на "ты".
Он согнулся, будто переломился пополам, уткнул лицо в ладони.
- Нет. Виноват. Мне наказания нет. Мне только смерть.
- Не плачь, брат.
Он отнял руки от лица, и я испугался его лица.
- Сдохнуть хочу!
Воздух зазвенел под ударом безумного вопля.
В ответ на дикий крик вновь заплакал ребёнок.
Я ощутил боль. Вот сейчас я ощутил боль.
Кровь заливала лицо, не сворачивалась. Я улыбнулся Николаю сквозь кровь.
- Есть сын. Его надо растить. Сколько людей вокруг... страдает... и не ропщет. Не гневайся и ты. Знаешь...
Его лицо плескалось в меня уродливыми, адскими волнами.
- Ну что, что?! Что я знаю?!
Я взял его руки залитыми кровью руками. Руки мои дрожали. Такими дрожащими руками не может хирург операцию творить. Нельзя.
- Тебе надо поверить в Бога.
- Брось! Какой Бог! Мы сами себе боги. Да, видишь, плохие!
- Так не говори никогда.
Он плакал, выл и кусал губы в кровь.
- Куда вот ты теперь?! Кривой?!
- Не бойся. Не тревожься. Я уйду отсюда.
- Тебя не выпустят!
- Я сам уйду.
- Тебя убьют!
- Меня уже убивали столько раз, а видишь, живой я.
- И куда же ты пойдешь?! На войну?!
- Если я до неё дойду, рад буду. Правда. Рад.
Я что-то живое, тёплое ощутил на себе. Странно мне стало и горько, хинно, горчично. Меня обхватило странное чужое тепло со всех четырёх сторон. Я не понимал, что это. Это Николай обнял меня, обнимал, пытался обнять крепче, крепче. И весь трясся, сотрясался, качался, дёргался, как в судорогах, да его и били судороги нерождённого, несбывшегося.
Вся плоть Мiра есть книга, и её мы читаем; есть песня, и её мы поём. Есть молитва, и часто её шепчут неверующие. Дитя моё! Ах, милая, да ты совсем замёрзла, рученьки твои застыли, не становись ледяной, давай я на тебя своё одеяло накину. Верблюжье одеяло, колючее, да всё уж повытертое, других в лазарете не дают. Я открываю тебе жизнь мою, она шкатулка зеркальная, она старый трельяж, отражайся, любуйся собой, ведь ты это я, так всё просто. Я излечиваю тебя от единственности твоей. Всё связано со всем. И всё сущее во мне; и всё Время в тебе; и всё великое становится малым; и беглый поцелуй становится полнощным небом. Я Алексей, и я ты, и я твой красный платок, туго завязанный у тебя на затылке. Не верь моей слепоте. Не плачь о моей глухоте. Слепой гораздо больше зрячий, чем те, кто видит.
Человек Божий, и человек Адов. Врата Ада не одолеют меня. Значит, тебя. Вижу грядущее и пою его, для себя, для самого себя. Я пою для самого себя. Никто не слышит пение моё. А пройдут времена. Сон в могиле, а станет не до сна. Люди найдут мои песни, найдут, верно тебе говорю, и услышат их, и заплачут над ними, и будут петь их, повторять. Ты же сама первая будешь петь, шептать псалмы мои, заливаясь слезами. Я есмь живая Книга Времени! Я есмь Душа Живая! Я давно уже не врач. Что может слепец? А всё может, на деле. Он может творить хирургию мыслью. Разрезать Время надвое, ломать ему рёбра, делать ему массаж сердца, изымать у него из сердца горячую пулю.
Псалмом вижу! Псалмом лечу! Бинтую псалмом! Псалмом убиваю врага. А может, прощаю! Христос велел простить! Сейчас Христос стал воином. Он сражается. Церковь Его воинствующая. А ведь это Он призывал к миру и счастью! Как же так? Пойми, сражение идёт всегда. Война идёт всё время. Добру зло невозможно принять. Вобрать в себя. Хотя именно это и заповедал нам Господь. А мы всё не можем. Не можем!
Добро, иди сражайся! За будущий Мiръ! Пролей реки крови, а потом переступи через них.
Человек Божий, что же ты сегодня придумал? Я придумал идти по земле, пророчествовать, лечить и собирать в котомку Души Живыя. Смеёшься? Как чисто, счастливо ты смеёшься! Заливисто, будто птичка поёт! Посмейся ещё. Так славно на душе становится, когда слышу твой смех. Ты надо мной смеёшься? Смейся! Может, я не батюшка уже, и давным-давно не хирург, а просто больной скоморох. Лежу вот тут, лязгает подо мной койка, холод вползает в оконные щели. Скажу персоналу, чтобы щели забили ватой. Вата-то в лазарете есть? Или всю на больных извели?
Я, ты знаешь, тогда, у тела Души моей, сильно, очень сильно захотел идти, шагать, шагать. Землю мерить шагами. Кто тебя отсюда отпустит, нашёптывал мне голос безутешный извне, кто тебя помилует, тебя отыщут и подстрелят, как утку, как тюленя. Я, смеясь, отвечал голосу: да, я и утка, и тюлень, и песец, стреляй не хочу. Я всё равно выживу. Рожусь вдругорядь. А надо идти. Ноги идут. Ноги идут. Пока они у меня есть. Пока их не отрубили, не отпилили. Не сломали.
Я пойду собирать Души Живыя по всей земле, в память убитой Душеньки.
Я буду собирать, собирать, грудить к себе всех живых. Приникайте ко мне, жмитесь ко мне, я вас всех обниму. Под крыльями моими, руками, под боками, не под скальпелем острым, а под выдохом тёплым! Целителем хочу быть нежнейшим. Душой лечить. Душенька, слышишь? Ты убита мною, и ты ко мне пришла; и ты меня простила.
В память тебя, мною убитой, я соберу твой хор, твой собор!
Великий собор соберу! Пусть люди смеются! Пусть потешаются! Они всегда глумились, это им суждено. Не отнять весёлого, переливистого смеха. А уж причина найдётся. В честь твою, моя златоволосая, синеглазая! Ты ведь вся земля, вся моя Русь. Русая пшеница, рожь на ветру, всё мое неизбывное небо, синий речной, травный плащ Богородицы. Родила Сына! Моя, и не перестанет быть моей: закрою глаза навек и лягу в родимую землю, и снова моя, и снова твой. Где же тут печаль? Зачем лить слёзы? Люди, сюда! Люди, ко мне! Вы слыхали зазывные крики, на торжище, на рынке: люди, люди, торгуй! Люди, люди, налетай, покупай! Теперь другой крик услышите. Мой. Буду кричать вам: собор, собор! Хор и собор! Пойте хором! Вставайте собором! Вставайте! Встаньте! Вы всё лежите на койках, в спальнях ваших, в госпиталях, в лазаретах. На голой земле лежите. В предсмертии. В родах. В рыдании. Встаньте! Встаньте и оглянитесь! Друг друга обнимите! Вас много, а я один, но я кричу вам то, что вы давно хотите, да не можете крикнуть друг другу, крикнуть себе! Встаньте и вспомните!
Вспомните! Ибо Время надо помнить.
Беспамятный есть бес. Не затянутся даже крепко сшитые умелым хирургом раны его.
Вспомните, говорил Господи: Я есмь Альфа и Омега, Начало и Конец всего. Он умер, и Он воскрес; разве вам этого мало для радости? Радуйтесь! А я буду идти по дорогам и по бездорожью и петь вам Псалтырь. Больше ничего, после гибели Души моей, у меня не осталось.
Так, девонька, я шептал себе, я знал: скоро уйду. Важно сделать первый шаг.
Не помню, как похоронили Душеньку; врач Николай тоже не помнил. Он мне сам сказал. Он удивлённо спросил меня: а ты не помнишь, где мы её похоронили? Я призадумался. Наморщил лоб. Нет, не скажу тебе, где, не вспомню.
Он сам обработал и перевязал мне мой выбитый глаз.
И я, после обработки и перевязки, лёжа на том столе в лазарете, на коем рожала дитя моя Душа, сказал ему: спасибо.
И, ты знаешь, спасибо надо говорить всегда, всегда всем, кто убивает тебя. Кто поднимает на тебя жестокую руку или режущее, грязное слово. Тебе причиняют боль - а ты благодари. Тебя бичуют, поносят, гонят - а ты благодари. Тебя распинают! А ты благодари: ведь ты повторяешь Христов путь. Те, кто убивает тебя, даже не представляют, какое благо они тебе дарят, какую радость. Тебе это покажется странным. Но сама посуди. Ты падаешь наземь, тебя бьют ногами, охаживают плетьми, ударяют по голове острым камнем, проклинают, уничтожают - бьют, бьют, бьют! - а ты живой. На костре сжигают! А ты живой. Под пули ставят! А ты живой. На куски разрезают, и льётся кровь твоя, и пьёт её земля! А ты живой.
Живая.
Душа.
Тебя убили - ты восстала и пошла. Тихо. Босиком. По дороге. По сырому песку. По воде.
Вослед за Христом.
И я с тобой, милая.
Это утро настало, у Времени нет поблажек и пощады. Я не помню, где ночевал. Может, в бараке; может, в сарае у рыбаков, где хранились ловчие сети; может, на каменных плитах в разрушенном храме; может, у Николая. Мы ни слова не сказали ни охранникам, ни начальству, почему я лишился глаза и почему женщина умерла. Нас никто не спросил, где мы покойницу закопали. Все молчали. Я узнал цену молчанию. Слишком много было смертей вокруг. Устали считать.
Жестокость владычила, волчья царица: узников били, били, били, били, добиваясь того, чего хотели и чего не хотели; били из ненависти; били из развлечения, просто потому, что наслаждались. Я понял тогда: насилие не избыть, тесто земли на нём замешано, и одно лишь спасение есть - сохранить свою Душу живу.
Встань, человек! Жива твоя Душа!
Её не изобьёшь, не унизишь, не оскорбишь, не избичуешь! Не расстреляешь! Голыми руками не возьмёшь! Твоя Душа есть Бог! И она живая.
Живая.
Душа.
Собирать... собирать их у груди... за пазуху мою... в котомку скитальную... в пригоршню...
Души Живыя, Души мои сладкие, верные, вечные, россыпи полевых цветов...
Утро. Собираться пора. Вот загодя приготовленный мешок. Может, мне его Душенька сшила, из дырявой заштопанной холстины и лоскутьев бараньей кожи. Не помню. Приложил к лицу: запах Душенькин от холста. Что в мешок сложить? Хлеба нет у меня. Людей попрошу меня хлебом оделить. Фляга с водою, солдатская, вот. Её Николай у мёртвого солдата из-под подушки забрал. И что же, что же, что... ещё... забыл...
Зеркало памяти моей всплыло со дна Времени и приблизилось к моему лицу, и в зеркале, глубоко, я увидел: раскрытый контейнер для кипяченья инструментов, и там смирно, тихо лежат скальпель, шприц, иглы, корнцанг, кетгут, зажимы, кюретка, пинцет. Где всё это лежит и спит? В лазарете? Пустят ли туда меня? О, меня туда всегда пускают. Я ведь работаю там. Санитарка, та, что лампу керосиновую над нами с Николаем держала, когда Душенька рожала, низко кланяется мне. Её лицо мне тревожно знакомо. Я отвожу глаза от неё и пытаюсь вспомнить. Не могу.
Я пошёл в лазарет, тихо, нежно ступая по чистому снегу. Север люблю за чистоту, тишину и белизну. Море, да, взбеситься может. Тому был свидетелем. А снег, широкий плат тундры - вот где покой. Для того, кто исстрадался в жизни, огромная белая икона, образ ненаписанной любви, и ложится под сердце, расстилается под ногами, смотришь, щуришься, ослеплённый Солнцем, и видишь Богородичный лик на ослепительной, безумной белизне. Белизна. Простынки. Халат. Марля. Маска. Бинт, и разматывается упрямо, и обматываю его вокруг пустой больной глазницы, вокруг лба и затылка, вокруг страдающего тела. Тело! Где ты! Душа! Вот ты! У человека вместо тела есть только душа, он сам лишь об этом не знает.
Открыл все двери. Ключ всегда лежал под порогом. Крупные звёзды падали с зенита, били мне светом в бессонное лицо. Да, я не спал ночь, ну и что. Человек рождён, чтобы не спать. Бодрствуйте и молитесь, заповедал Господь.
Поднялся по лестнице. Переступил порог операционной. Подошёл к стеклянному шкафу. Вынул из шкафа контейнер с инструментами. Положил в мешок. Вот теперь всё.
Восстань и виждь, Душа моя!
Тихо спустился по лестнице. Тихо пошёл по дороге. Звёзды снегом били в лицо. Я стряхивал их, стирал мокрой ладонью. Мешок угнездился за плечами, между лопаток.
Шёл и шёл. Вышел за ворота. Они были открыты. Кто их открыл?
Шёл и шёл. В меня со сторожевых вышек, где таились часовые, никто не стрелял.
Шёл и шёл. Звёздное небо разостлало надо мной свой вышитый алмазами шатёр, воздвиглось над мною, подобно Рождественской наряженной ёлке. О, ёлка небесная, так думал я, идя по дороге, я уж и забыл, когда я праздновал Новый год, Рождество, дни рожденья родных и любимых. Только в Пасху Господню бежало ко мне, быстро перебирая всеми жгучими ногами-лучами, развесёлое Солнце, а я бежал навстречу ему и крепко обнимал его.
Шёл по укатанной машинами дороге. Снежная, белая, дорога тихо сияла во тьме раннего зимнего утра. Кто тут проехал недавно? Чьи на снегу отпечатались шины?
Шёл медленно, никуда не спешил. Души Живыя, они же появятся скоро. Сейчас. Я им нужнее, чем они мне. Мы нужны друг другу. Проснитесь! Встаньте! Я иду к вам.
По дороге, навстречу мне, шла девочка. О, дитя, почти как ты, такого же возраста, с такой же улыбкой и лёгкой походкой. Она гнала перед собой хворостиной овцу, барана, козла и козу.
- Милая! - окликнул я её. Она остановилась, и животные тоже встали. - Жива ли ты?
Девочка, в коротком полушубке, в чёрных валенках, потопала ногами, сбивая с валенок снег. Воззрилась на меня.
- Откуль ты, дяинька?
- А тебе зачем знать?
- Ну и ступай, а я тось побреду.
Уже занесла руку с хворостиной, чтобы вперёд погнать овец и коз.
И тут вдруг вокруг нас стали появляться из воздуха лица, лица, лица. Множество лиц. Сначала лица крутились рядом, призрачные, вспыхивали и гасли и опять возгорались. Потом стали появляться фигуры. Фигуры просвечивали насквозь. Парили, без одежд и голые, Господи, сколько же голых тел я навидался за всю мою врачебную жизнь. Может, то были мои умершие больные? Те, кого я не смог спасти? Они бились в тёмном утреннем воздухе, неслышно хлопали невидимыми крыльями, и я подумал: шестикрылые Серафимы над нами. Лица снижались, лица смотрели нам в лица, близко, пристально, страшно, светло, темно, мне и пастушке. Я услышал шёпот. Они шептали мне в уши. Что? Прислушаться не было возможности. Завывал ветер. Предрассветное небо переливалось лимфой тревоги, сукровью будущих ран.
Я глянул на девочку. Она закинула голову в толстой вязаной шапке, глядела расширенными глазами. Она тоже видела их.
Сжала в руке хворостину.
- А и хтой-то, дяинька?.. томно мне.
Я шагнул к ней и обнял её. Она уткнулась головой в тулуп мой.
- Не бойся, дитя. Они не сделают нам больно. Не мы им нужны, а они нам. Для чего-то важного они тут крутятся.
- Нет, дяинька! Давайтя я вас-то укрою. Упасу! Мозить, пурга зачнётси. И нас погребёть!
Пурга, да, пурга. Я растревожился не на шутку. Если тут пурга начнётся, и вправду быстро заметёт, погибнешь.
Ветер усиливался. Небо наливалось кровью.
- В избу пойдём?! К тебе?!
Я пытался перекричать ветер.
- Нетути! В обыдёнку!
- Что это?!
- Да храмина нася!
Уже пуржило. Овца, баран, коза и козёл с трудом пробирались в снегу. Мы вязли в сугробах. Вдали замаячила крошечная, как овечий хвост, деревянная часовенка. Подбрели, уже самими собою, телами нашими проламывая путь в толще снега. Девочка толкнула дверь, первыми вбежали животные, потом вошла она, потом, нагнувшись низко, в малюсенькую дверь вошёл я. Вой ветра утих. Мы стояли в укрывище. Маленький дом Бога. Я огляделся. На срубовых стенах иконки. Самодельные; вижу, не богомазы малевали, а местные жители. Кто во что горазд. На берёсте вырезали. На досках яйцом писали, битым кирпичом, рябиновым соком. Одну заприметил. Подошёл. На меня с маленького дощатого квадрата глядел Спас в Силах.
Он так глядел в меня, внутрь меня: душу вынимал.
Душу. Мою.
Я сбросил с плеча на дощатый пол мешок.
- А цо у тя един глазынёк, дяинька?
- Выбили.
- А поись-то у тя есь, дяинька?
- Нет, душенька. Ничего в дорогу не взял. Надеялся, покормят по пути. Люди сердобольные.
- Ахти!.. А и я с утрецка не емси.
- Водичка вот есть.
Я наклонился и развязал тесёмки мешка.
И остолбенел.
Мешок был полон вкуснейшей пищи.
Я про такую забыл.
Яркие помидоры, золотые лимоны, куски жареной красной рыбы в маленькой корзине из краснотала, спелая морошка в туеске, калитки с вареньем, в стеклянной банке алая лососёвая икра, и ложка златая, витая в той банке торчит, вроде как бери и ешь, а ложка-то витою ручкой да святою позолотой лжицу Причастную напоминает; пышный пирог, и пахнет зелёным луком, и вкруг него маленькие румяные пирожки, пахнут грибами, солёными огурцами, мясом; солёные грузди в фаянсовой миске, жареная кура, завёрнутая в вощёную бумагу; и хлеб, хлеб, я давненько такого не едал, нежный, ещё тёплый, круглый ситный и рядом жёлто-белый, сугробный калач, а дух такой, валит с ног; мочёный чеснок, мочёные яблоки, квашеная капуста, вяленая кумжа, варёные яйца, громадные, как серебряные слитки.
Надо было двигаться, говорить, дышать. А я не мог.
Чудо. Чудо.
- Чудо!
- Сто зе ты так-то орёсь, дяинька...
Мы сели на пол часовенки рядом с мешком и стали вытаскивать из мешка яства. Козы и овцы печально смотрели на нас глазами-сливинами. Мы отщипывали от хлеба куски и протягивали им на ладони, и они ели. В дверь с воли зацарапались. Она распахнулась, пурга ворвалась в часовню. Вошёл пёс, большой, рыжий, с подобострастно поджатым хвостом. Повизгивал, юлил.
- Угрюм, дяинька, не боись. Угрюм, Угрюм! На-ко мясочка!
Девочка отломила от жареной куры крылышко и бросила псу. Пёс жадно грыз.
А мы даже не знали, с чего начать.
Пир! Пир горой! Праздник!
После неволи, после ужасов всех!
Зачем это мне? Чем я заслужил?
Рука сама нашарила, я вытащил из мешка бутылку тёмного вина. Вязь наклейки гласила: КАГОРЪ.
Господи, Причастное вино Твоё. Пасхальное... вино...
Откупоривал дрожащими руками.
Я не верю! Не верю! А надо поверить.
Я не верю, но я верую, Господи.
И, если это чудо Твоё, кланяюсь Тебе за чудо, простираюсь на земле, пластаюсь на животе, плачу и смеюсь разом, молитву творю во славу Твою.
Во славу Богородицы; а девочка, девочка-то моя кто? С овцами...
- Пей!
Я протянул ей вино.
Она взяла бутылку обеими маленькими руками и сделала глоток. Щёки её порозовели.
- Ух, баско!..
- Вот и чудесно.
Я отхлебнул вина. Радостью на меня пахнуло.
Что-то будет? Что, что же будет с нами?
Скажи, скажи, великий Бог, о том, о том... что будет... с нами...
Мы разломили большой пирог, и он оказался с зелёным луком и рублеными яйцами; вонзали не зубы в него - нашу новорождённую радость; Душенька моя лежала в земле, а мы тут с чужою девчонкой ели, наяривали изумительную еду человеческую, да мы тут с нею были просто небожители, так первые люди ели в Раю, а мы кто такие, разве такое возможно, да нет, чудо надо принимать таким, каково оно есть, не сомневаться в нём. Мы терзали курицу, ломали калач, кусали солёные огурцы, златая лжица в наших пальцах дрожала, когда мы добывали ею красную икру из глубокой фаянсовой миски; мы руками, жирными, измазанными в соке черемши и в соке лимона, подносили жареную лососину близко к лицу, нюхали шумно, жадно, дерзко, шутя, хохоча, улыбаясь; эта улыбка во все лицо той пастушки, я ее никогда не забуду. Запивали снедь сладким вином, причащались, а исповедью перед этою трапезой в торчащей деревянным пальцем посреди тундры, забытой часовне была вся наша жизнь: у меня - многострадальная, у девчонки - маленькая, безгрешная. Да какие грехи успела совершить она? У бабки шерстяной клубок украла, варежки связать, да на кухне у мамки тарелку разбила: дорогущую, тятенька с поморской ярмарки привёз, пыль с неё сдували, с фарфоровой, заморской. Ну, свечу не всякую ночь перед образом жгла, Богородице не молилась. Вот и все грехи.
А я... а я... у меня же не счесть грехов... не счесть...
- Дяинька! - В одной руке пирожок с грибами, в другой помидор свежий, только с грядки. Ест и облизывается. - А само цюдно на землицке - ество?
Я сидел, ел, в одной руке кусок красной рыбы, в другой солёный огурец.
- Еда, да, дитятко, одно из чудес, чудо насущное, повседневное, мы сами себе его каждый день творим.
- Дяинька! - Большой глоток из бутыли сделала. - А хтой-то нам чудесеньки-то исделал?
Я видел, захмелела. Ребёнок ведь.
Ей надо объяснить попросту. По-родному. На языке её Мiра.
- Мы с тобою где сейчас?
- Как игде? В обыдёнке.
- В святой часовне, да.
- И стадо тутоцки!
- А ты знаешь, что во храме Божием совершаются чудеса?
- Да ну тя! Иди ты!
Она хохотала и хотела ещё пить вино, но я отобрал у неё бутыль.
- Хватит. Ешь только. На здоровье чтобы. Девочке вина много нельзя. Слушай вот лучше. Чудо сам Бог. Он творил с людьми чудеса, и сейчас творит. Вот мы сюда пришли. Скрылись от пурги. Бог нам угощенье поднёс.
- А мозить, Богородиця.
- Такое может быть. Помолимся.
Я оставил еду, встал на колени перед Спасом в Силах и стал молиться.
Девочка послушно, ни слова не понимая, повторяла благодарственную молитву за мной.
Потом овца, баран, козёл, коза и пёс легли на доски часовни, растянулись, и мы легли, и положили головы наши на бока, спины и ноги животных; и так уснули, сладко спали, чисто, радостно, без сновидений, тепло, нежно, обнимая лохматых, кудлатых родных зверей, нюхая мокрую славную шерсть, перебирая в шерсти пальцами, осязая счастье, предвкушая иной праздник. Звери охали и стонали во сне, как люди. Дрыгали ногами, пёс сучил лапами. Остро и сильно пахло козлом; нежно, чисто и раняще, просяще и смиренно - овцою; свет всё мощнее разгорался в щелях деревенской храмины, источали свет самопальные образа,
Сквозь щели часовни стал пробиваться свет.
- Пойдём-ка на воздух! Пурга наверняка утихла!
- Подёмо, дяинька.
Мы оторвали головы от тёплой, спутанной шерсти спящих зверей, поднялись, отряхнулись, переглянулись весело, взялись за руки и вышли на вольную волю.
Не верил я глазам моим.
Мы очутились в Раю.
Белый плат тундры обратился в слепяще-зелёный ковер, сплошь вышитый алмазами утренней росы. Посреди Райской длинной, водорослевой, колышущейся на ветру травы возвышались Райские дерева: висели на ветвях золотые, румяные яблоки, мандарины зрели, наливались золотом, мигали крупными сердоликами во тьме изумрудной листвы. Ветер играл листьями, листья шептались меж собой, трава шелестела, и в траве, Господи, кто спал, кто друг с дружкою играл, по разнотравью катался и валялся, кто навстречу нам брёл, кто перепархивал с ветки на ветку, царило, рычало, клекотало, заливисто, самозабвенно пело всё Живое. Медленно шли, осторожно, тихо, важно поднимая хищные лапы, золотые львы, играя хвостами; медленно бродили, в траву валились, улыбаясь и вываливая наждачные языки, волки, и серо-жёлтые шкуры их воинственно топорщились и сверкали на Солнце тысячью искр. Да! Солнце! Солнце!
Солнце испускало мощнейшие лучи, они вставали вокруг слепящего диска неснимаемой короной; жёлтая родная звезда лила лучи наземь белым, золотым молоком, молоко застывало, солнечные сливки замерзали и лежали в густой тёмно-малахитовой траве драгоценными слитками. Всё было драгоценность, а Солнце наипервейшее сокровище. Лежало оно в самой глуби синего небесного сундука! Распахнут сундук, и всем видать золотое счастье! Рай, ты счастье! Вдыхаем Райский Сад! Будоражат и утешают его ароматы, катятся к ногам его золотые цитрусы, и вот, вот оно, беспечное, весёлое яблоко. С того самого древа? Да, с того.
Я крепче сжал руку девочки. Её ладошка затрепыхалась в моей руке. Столько людей я разрезал на части, а вот всё никак не привыкну к трепету живой плоти.
Душа! Где ты, где ты, Душа!
- Что, милая?..
- Дяинька!.. спим ли!.. цо такое!..
- Рай...
Я скинул сапоги. Девочка скинула валенки. Опять взялись за руки и босиком пошли по Райской траве.
Зелёные стрелы, длинные зелёные змеи обвивали, ласкали наши босые ноги. Я пальцами, стопами, пятками целовал землю Рая. Сподобился! Ну, девчонка-то ладно. Она безгрешная. Ей положено. А я тут при чём? Душе, Душе моя, восстани, что спиши!
Вошли под сень дерев, под могучие раскидистые кроны. Неведомые заморские плоды качались, вспыхивали, таяли. Ничего этого нет: сейчас пройдём Рай насквозь, и исчезнет он. А может, переселится, перелетит по синим небесам в Иной Мiръ.
Обогнули толстый, в три обхвата, ствол. Резные листья шуршали вверху, пели над нами песню ветра. В траву упало огромное яблоко. Я еле поднял его. Наливное, бока жёлтые, красные полосы, будто кто кровавой пятернёй провёл. Изнутри сочится тихий свет, будто там, внутри яблока, свеча горит.
Держал на ладонях. Девочка глядела зачарованно.
- Оёй, дяинька... Тонь баско...
И это я, я сам протянул ей яблоко.
И ела она.
Откусила смачно, резко, весело острыми, лисьими зубками. Жевала. Зажмурилась от радости.
- Ух!.. Сладко...
Протянула мне надкусанное яблоко, и я ел.
Сладкий терпкий сок пролился в глотку, пьянил не хуже вина.
Там, в Мiре Иномъ, нами брошенном, в покосившейся на ветру деревянной часовне сама собою отворилась дверь, и все домашние звери вышли вон, таращились на сияние Рая, на мандарины в зелёно-угольной, глянцевой листве, на вьющиеся по ветру водяные, болотные волосья травы.
Я понял: есть Мiръ и Мiръ. Их два. А может, и побольше. Нам не все показывают. Рай, я увидал тебя при жизни, Рай; есть ли то знак, обязан ли я его прочитать? Запомнить?
Истолковать?
Но девочка... девочка...
Лица, лица, лица толклись незримой мошкарою близ меня, вокруг девочки, летали, окружали призрачной тучей, моросящей слёзной стеною, валящим из мрака снегом, а небо над нами так ясно синело, ни признака бури, ни намёка на снег, пурга сгинула, непогода умерла, мы шли по Раю, а зверьё наше шло за нами, и лица наши летели за нами, и опять девочка видела их, и пугалась и жалась ко мне, утыкалась лицом мне в тулуп, я расстегнул тулуп, жарко стало, бросил на траву.
- Сядем... отдохнём... в Раю...
Тулуп глядел в небеса всеми волосьями овечьей потрёпанной шкуры. Шевелился, как живой. Мы сели на шкуру; когда-то она была живою овцой, бегала, щипала траву, кричала тоскливо в загоне. Девочка опять грызла живое яблоко. Она не боялась его есть. Рядом со мной она ничего не боялась. Даже реющих в воздухе над нами чужих, перламутром плывущих лиц.
- Дяинька... то арханьделы...
- Херувимы да Серафимы, душенька.
Я всё ждал, когда сон оборвётся.
Рай тянулся и кончался. Шёл я и шёл. Длился и длился сон. Всё махала и махала мне ручонкой девчонка, прощаясь навек, и миновал я село, где избы-пятистенки, а оконца малюсенькие, как туеса. За селом на меня напали разбойники, они сидели верхом на голодных тощих лошадях, а один разбойник на ослице. Это был Гестас. Он ещё не знал, что его завтра распнут. Они затрясли копьями, вытащили из-за пазухи ножи, один сдёрнул с плеча ружьё: все, до одного, хотели меня убить. Это же не война, хотел я крикнуть, это же не война! Зачем человек убивает человека? Чтобы потешиться? Для услады сердца? Чтобы незнакомец первым тебя не убил? Бей первым! Не робей! Сумеешь ли защититься, враг?! Коли не сможешь - подставляй шею! Лик незримый подставляй!
Лица, лица, лица крутились перед мной. Надо мной. За моей спиной. Разбойники стреляли из ружья, махали ножами, но поражали лишь призрачные лица. Из окрестного воздуха на меня, на разбойников текла кровь. Они потрясённо озирались, трогали друг друга, ворчали, вскрикивали: чертовщина! Не понимали они: Мiръ Невидимый близок. Ближе, чем мы можем представить.
Я вынимал скальпель из контейнера, взмахивал им и резал воздух. Ветер. Я резал по живому, понимая: не рассечёшь плоть, не вспашешь землю чужой жизни защитным ножом, нет тебе больше Рая. Ни на земле, ни в небе.
Я резал и резал ветер, кромсал по живым невесомым летящим лицам, они метались, обливались небесной кровью, красной, а может, голубой, а может, зелёной, как Райская трава; лица сражались за Мiръ Иной, защищали его грудью, а я сражался за Мiръ земной, настоящий, ибо мне в нём надо было жить, и моим сомгновенникам жить, а похоронить друг друга мы всегда успеем.
Разбойники отступали, Гестас валился с ослицы в небесный снег, Дисмас гляделся в меня, в зимнее зеркало, я дрожал под старым овечьим тулупом, так дрожит цветок, пробиваясь из-под земли к золотому свету в Эдеме, василёк, ромашка, сияющий шиповник.
Я шёл и шёл, передо мной из тьмы возникали сёла, в них люди сеяли и жали, и заготавливали плоды земли на долгую зиму, и приходили другие люди и стреляли в них, как в зверей; птицы охотились друг за другом, и люди брали с них пример. Я шёл и шёл, а там, в Мiре Ином, приходили иные царевичи и иные генералы, и брали власть, и власть отдавали; за реку отбрасывали врага, и птицы, летя над боем, сверху видели, как падают убитые люди в траву, как вода в реке становится красной от крови.
Я шёл и шёл, и видел, как дикие звери, задыхаясь, переплывали реки и морские заливы, спасаясь от огня, от голода, от истребления. Видел, как в полях из-под земли вырастают мертвецы, посеянные в землю войной, и вспоминал мою войну, и видел: она точь-в-точь отражает войну любую. Я видел, как сажают человека в клетку, а человека того знает весь Мiръ, а я не могу сказать ему слово утешения, ибо он великий злодей, и на моей родной земле он много содеял непоправимого зла. Люди плясали около его клетки и визжали: убивал, теперь сам смерть вкуси! Око за око, и зуб за зуб, так жили люди раньше, так живут и теперь, и будут так жить; и я ничего не поделаю с ними.
Если уж, Господи, Ты поделать с людьми ничего не мог, какая же тут моя власть? Нет моей власти. Это я в Твоей власти. А во чьей власти люди, пусть они догадаются сами.
Я шёл и шёл, и на меня из пустоты обрушивался целый отряд, война в разгаре, а я иду, ноги идут, ноги идут, я не могу остановиться, я должен победить, я, одноглазый, худой, нищий, бездомный, и лечить уже не могу, и служить во храме уже не буду, могу только молиться, в пустыне, в тундре, в погибельной тайге, среди зверей и птиц, а люди бывают хуже зверей, я теперь знаю это, да что толку знать; надо любить, вот счастье - любить, даже если за любовь в лицо тебе плюнут. Они скакали, бежали ко мне, они целились в меня, они расстреливали одного меня, гудели машины, ржали лошади, звучали, схлёстываясь, страшные проклятия, а пули летели мимо, а лошади мимо скакали, спотыкались и на землю ребрастыми боками валились; а реки текли, полные крови, кровь била в берега, и люди, спасаясь от возмездия, бросались в кровь, спасались вплавь, уходя от пуль, гранат, огня, ножей и сабель. Переплывали красную реку - а на том берегу ждали сабли, ножи, огонь, гранаты и пули. Острия и разрывы! Война, она идёт! Она и не кончалась. Душа моя, ты видишь? Ты всё видишь! Что остановит войну? Победа? Но ведь победа - на время. Пройдёт Время, и победа проживёт жизнь, ей назначенную, и умрёт. И люди больше не смогут идти вперёд. Их, как овец и коз, хворостиной погонят назад. В стойло.
Я шёл и шёл, и видел я в разных местах земли, то в домах, сквозь отверстые двери и окна, то на улице, на свежем воздухе, на ветру, на горах и в лесах, во сугробах и в песках, на песчаных берегах рек и в разнотравных лугах, сидящих на табуретах и стульях, а то просто на берёзовых брёвнах, на сваленных старых дубах в три обхвата, спокойных молчаливых прях; они молчали и пряли шерсть, пряли светлые и тёмные нити, нити тянулись, как живые жилы тянутся по рукам и ногам, нити были сами жизни, и одна из нитей, что неведомая Арахна старательно и ловко вытягивала из комка овечьей шерсти, из густого тёплого руна, была моя жизнь; пряхи не смотрели на меня, не оборачивались ко мне, они не видели меня, они не видели друг друга, они видели только шерсть, только нить, только пряжу, только круговерть веретена. И я наблюдал их труд издали; мне хотелось встать перед ними на колени, до того эта работа озаряла меня изнутри переливами полнощного Сияния, его синими стрелами, алыми вспышками и зелёным мерцающим шёлком, и я понимал: женщина прядёт, ткёт и вяжет мужскую судьбу, детскую судьбу и всеобщую судьбу, и судьбу Мiра ткёт она, безымянная, молчаливая пряха. Я молился за прях. Мысли мои и слёзы мои текли бесконечными, тянущимися из хаоса в Космос нитями.
Я шёл и шёл, и всё сильнее билось сердце во мне, и всё горячее я думал про него, про то, как дух мой незаметно и верно становится моим сердцем. Как мысли входят в сердце? Как там живут? Где мысли рождаются? Мыслит мозг или же мыслит нечто иное, чему внутри человека имени нет? Василий Великий и инок Каллист, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст называли это иное духом; да ведь и Господь говорил про Дух, и как он ведёт вперёд человека. Шёл ли я сам, или Дух Святой, Параклет Утешитель, меня вёл? Двигательные центры, тепловые, дыхательные, вазомоторные, мы знаем, где они находятся в мозгу; но великой тайной остаются центры, где рождается чувство. Где рождается радость? Горе? Ужас? Печаль? Молитва? Работою клеток можно объяснить всё. Да не получается. Мы объясняем ощущения. А сердце и Дух работают иначе. Сердце, плавильная печь. Плавится в нём и становится жидкой и ослепительной крепчайшая сталь судьбы, воли. Сердце, безумно бьющийся, оплетённый красными волокнами и алыми хвощами кувшин, амфора столетий, больная, бедная живая чаша, крепкий кулак, он сжимается и разжимается, и всё никак не ударит, ибо не бить он хочет, а любить. Сердце рождено любить. Зачем мы посылаем его воевать? Но если не оно победит, так кто же?
Я шёл и шёл, и открывался мне секрет победы: зерно погибает, уходит в землю, прорастает, воскресает Бог. Бога убили - а Он победил. Ты идёшь назад - а назад, как вперёд. Тебя окружат со всех сторон - а ты взовьёшься и полетишь. Твой полёт! Твой народ! Я шёл и шёл, и видел мой народ, любимый, до слезы родной, и мой народ шёл по земле со мной, рядом, впереди и сзади меня, справа и слева, надо мной и подо мной, везде шёл, неизбывно шёл, и это не он со мной шёл, а я с ним шёл, я шёл его дорогой, повторял его слово, пел его песню, веровал его верой, умирал его смертью.
Воскресал его Воскресением.
Я шёл и шёл, и уже не знал, как меня зовут, ведь я сражался со всеми, с кем суждено мне было сразиться, я нападал сам, не ждал, когда на меня набросятся, ибо сзади и впереди, с боков и в небесах, под землёй и среди звёзд, со мною шёл Господь мой.
ГЛЯДИ Я ВЕЗДЕ ИДИ ЗА МНОЙ НЕ БРОСАЙ МЕНЯ
Господи, нет! Господи, я с Тобой! Навсегда!
ГЛУМЯТСЯ НАД ТОБОЙ СМЕЮТСЯ НАД ТОБОЙ ГОНЯТ ТЕБЯ УБИВАЮТ ТЕБЯ А ТЫ ИДИ ЗА МНОЙ
Иду, Господи!
НАКИНУТ НА ШЕЮ ПЕТЛЮ ПОСЛЕДНИМ ДЫХАНЬЕМ МЕНЯ ВОСХВАЛИ
Последний выдох мой Тебе, Господи.

ФРЕСКА ЧЕТВЁРТАЯ. ЗАПАДНАЯ СТЕНА
АЛЕКСЕЙ
Я шёл и шёл, и с места снимались народы, и сшибались армиями и лбами, поднимался Восток, умирал дряхлый Запад, и я сомневался, устоит ли сам человек, выживет ли он, останется ли он жить на земле, отторгающей его, отвергающей. Так возлюбленная отвергает нелюбимого: уйди! Так иерей молится, отвергая диавола: изыди.
Неужели в последние времена мы живём? Господи, но я вижу иные времена за горами Твоих земных страданий! Если Ты - это мы, то Ты страдаешь вместе с нами. Слепая зараза, мельчайшие существа пожирают людей. Война та же зараза; раз начавшись, она разрастается, не излечивается, и, если не иссечь страдающий член, воспаление перекинется на весь организм. Операция должна быть сделала вовремя. ВО ВРЕМЯ. ВО ВРЕМЕНИ.
Во Времени, Господи, а не в ледяной вечности.
Грань Последней Войны отсвечивает режущим алмазом. Последняя Война режет стекло зеркала моего. Тает амальгама, исцарапанная птицами, кошками, волчьими когтями. Умирает полная чудес могучая природа. Мы, люди, можем кончиться в одночасье. Сами не заметим, как это произойдёт. Я шёл и шёл, и говорил себе: ничто не закончится! Ибо Ты, Господи, не попустишь. Машины нас не победят. Не их победа, нет. Они не могут думать. Не могут рождать живое. Не могут слепить человека из железа и наречь его живым. Им только чудится, что они всё это могут. И людям чудится.
Я шёл и думал: если конец человека близок, тогда зачем Бог создавал его по образу и подобию Своему? Что нам назначено сделать на земле, а чего мы не сможем сделать никогда? Надо ли всех, скопом, стирать громадной звёздной ладонью с лика земли, или есть, есть выход? И откроется маленькая дверь деревянной обыдёнки посреди тундры, и выйдем мы на простор, сиречь во Страшный наш Суд?
Я шёл и шёл и плакал: Раю ты мой, Раю, неужели никогда не вернёмся в тебя?
Конец Света. Так часто видел я его. Земля перед главным событием её жизни разделяла поселенцев её. Овцы и козы! Как же я не узнал! Как же не понял... А теперь только, когда шёл и шёл по зимнему пути, узнал и понял.
Северная девочка гнала хворостиной их всех вместе. Вместе! И агнцев, и козлищ! Неразделённо!
Господь разделил... А она... не разделяла...
Так, стадом, и гнала...
Я шёл и шёл, я сам был бараном, сам козлом становился, сам прекращал говорить по-людски и только блеял, стонал, верещал, шевелил безмолвными губами. Ад ещё увижу. Не устрашусь его. В Раю побывал, да ещё и с Ангелом; и причащался чуду, сотворённому Богородицей. Что мы разрушили? Что впереди, в метели?
Шёл я, медленно подходил. Взорванный и сожжённый храм посреди снежной пустыни. Никого. На сей раз никого. Ни человека, ни скота. Мудрёно зимою встретить Живое. В Раю всё сущее живо. В Аду всё живое гибнет. А при Конце Света, Господи?
Овцы, вы добрые. Вы смирные, кроткие. Нежные. Шерсть ваша тонкорунная нежна, жарко и сладко в неё зарыться с головой. Смиренно всё примете. Первую смерть и последнюю смерть. Козлы, вы безумные. Вы злые, ненавидящие. Вы несёте под шкурою гибель, протыкаете рогами счастье. Овцы гуртом бегут в радость; козлы шарахаются во тьму, в средоточие страха.
Да разве это звери разделяются? Разделены народы.
Увязал я в снегу. Чуть позвякивали мои хирургические инструменты в контейнере моей памяти. Они всегда ко мне возвращались, кто бы их ни отнимал, где бы я их ни терял. Северная стена храма обвалилась. Белели, краснели битые кирпичи. В южной стене зияли огромные дыры. Изнутри сквозь них виден белый свет. Снаружи видны тёмные фигуры с золотыми нимбами, летящие по стенам в никуда.
Я подошёл, перекрестился широким крестом и вошёл.
Вошёл в убитый храм.
Внутрь мёртвого тела.
Внутрь разбитого дома Бога моего.
Я, врач, вошёл в Мiръ Бога моего и увидел его изнутри; и стоял, изумлённый; и не мог я излечить его, ибо не было на свете такого врачебного умения, и острых инструментов, и зоркого глаза, чтобы внедриться в него и помочь ему. Будь что будет! Умирай, Мiръ!
Вокруг меня, стоящего в разрушенной снарядами церкви, опять начали носиться лица, лица, лица. Они появлялись, обнимали меня, беззвучно кричали, и я видел их раззявленные рты, но не слышал крики. Овцы ли вы, бесконечные лица? Или среди вас затесались проклятые козлы? Зачем мы разделились! Зачем разорвали плоть едину!
Где же ты, Брачная Вечеря? Ведь я видал, слыхал тебя! Ведь я там тоже был, на брачном пире! По усам текло... а в рот не попало...
Конец Света. Конец Света. Я не разрежу страшную опухоль. Не удалю больше инородное тело. Всё. Отработал своё. Нельзя повернуть назад. И нас разрезали не зря. Господь не возьмёт обратно деяние Его. Если хирург разрезал живое тело, это уже необратимо. Вопрос в том, заживёт ли рана, прежде чем мы, обливаясь последней кровью, войдём в вечные врата.
Бог, Ты так решил! Разве я оспорю решение Твоё!
Козлища блеют оглушительно. Вон, вон они, их морды, среди летящих лиц. Я, с мешком за спиной, озирался во храме. Глядел туда, сюда. Всё летело вне меня, прочь от меня; и всё устремлялось внутрь меня, и всё гнездилось во мне.
На лбах козлищ я читал письмена; горели на них яркие печатки грехов и пороков, а бедные златорунные овцы сбивались в кучу, в плотный шерстяной стог, их во храм набивалось всё больше, из призрачных они становились настоящими, обступали меня, крепко прижимались ко мне горячими испуганными боками. Кричали. Их крики овечьи превращались в человечьи. Я тихо плакал, слушая последние вопли и стоны Живого.
Разрушенный храм глядел на мои слёзы.
Кто я? Адам? Адам, вечным сладким яблоком накормивший Еву? Я был единым. Господь разделил меня на мужчину и женщину. Где ты, Душа моя?
Где наш Рай?
Мы прошли по Аду босыми стопами; неужели мы Рай не получим в награду?
Но, дитя моё милое, молчал убитый храм, и молчала дыра в южной стене, куда втекал белый день, и беззвучно кричали лица, лица, лица, виясь вокруг меня белой страшной метелью: Души мои Живыя.
И я раскрывал им объятия, и они входили в объятья мои, и я чуял, какие они тёплые, телесные, души мои, хоть и невидимые; и скинул я наземь с плеч котомку мою, развязал её, и стали лица, лица, лица падать в неё, набиваться в неё, мзобильно падали туда, в мой пустой мешок, и исчезали, без возврата, не вылетали обратно, не видать никого, а новые всё летят, и от чего они спасались в моей дорожной холстине, от чего прятались? Они ещё не знали: от Страшного Суда не спрячешься.
Были единым, стали двойным. А Христос нас собирал, собирал! Вот я здесь. В расстрелянном храме. Я вижу то, что завтра будет. Нет! Это уже происходит сегодня. Мы, все, живём на земле в наши последние дни.
Лица, лица, лица! Вы что, святые? Нет, вы простые! Вы все простые люди! Вы страдаете, молите меня: исцели нас! Вылечи! Ты же можешь! Умеешь! Разрежь нас и вынь из нас больную тьму! А я мотаю головой: нет! Не могу! Вам суждено болеть и умереть! Вам суждено лететь прочь из Рая! Рай, он не спасение! Он просто видение! Он память! Он мечта! Он сладость внезапного чуда! Да сворачивают после пира скатерть-самобранку! И вы летите в бездну! Только в последнем, страшном полёте не отрекайтесь от Бога! Не отрекайтесь!
Лица, лица, лица! Толпы клубящиеся, многоочитые, крылатые! Диавол никогда не будет прощён. Времени уже нет. Да и воли Бога нет на то. Не покаявшийся никогда не будет исцелён! На то моей, иерея, воли нет, ибо я Апостольский служитель и волю Господа исполняю. Иное единство обнимает!
А как охота помиловать... простить...
Бог создал весь наш Мiръ. Он выше, сильнее и больше Его творения. И Мiръ делимый, он весь из частей; а Бог неделим, лишь Он обладает последним единством. Души Живыя влетают в котому мою, а люди всего Мiра влетают в протянутые им Господом руки. Обними! Не покинь!
Почему диавол затевает войну? Хочет так измотать воюющих людей, чтобы они воскликнули: хватит крови! Объединимся! Обнимемся! Единой сделаем землю! А Бога, Бога с земли изгоним! Земля есть новый Рай! Сами мы его сотворили! А Бог пусть Себе живёт на небесах! Там Ему место!
Я стоял в руинах храма и озирался, и видел пустоту и ничто.
Лица, лица, лица заслоняли от глаз моих взорванные стены, разбитую конху, паруса и барабаны. Лица хотели меня взять к себе. Погодите, милые, ещё приду. Недолго ждать.
Здесь, здесь собор. Последний собор. Стою, и надо служить. Кто мне сослужит? Кто сойдёт со стены?
Я обернулся и посмотрел на западную стену. Она была сохранена Богом и Временем.
Ушанка упала с моей головы.
С нагою головой я стоял, и котомка, жадно раскрывшая холщовый рот, валялась у ног. Я глядел на то, на что глядеть смертному было нельзя.
Вот, я видел последнее бытие.
Оно явилось.
Оно, в страшных муках, родилось из чрева Времени, так долго беременного нами.
...вихрь поднимал и нёс вдаль тела. Они сталкивались, вращались; бились по небесному ветру нищие и роскошные одеяния, расшитые смарагдами шелка и затрапезные тряпицы; бархат и ветхая рогожа разрывались, внезапно раздирались надвое, натрое, на множество лоскутов, и в дырах, в разорванных тканях вспыхивали тела людей, тесто их плоти, их животы и груди, ноги и руки, шеи и ключицы, они валились вниз, опять взлетали высоко, взмывали в зенит, летели завитками дыма от рыбацкого ночного костра, и Вселенский ветер раздувал клочья безвременного дыма, уносил безвозвратно: летели и новорождённые дети, ещё в крови и родильной смазке, могучим ветром выброшенные из бедных зыбок, и голые возлюбленные, что сцепились, слились тесней, чем икринки в брюхе сумасшедшей, на нересте, рыбы, в умалишённом последнем, огнём пылающем объятии, и тяжёлые бабы, они орали недуром, летели, задравши ноги, животы их торчали подобно заснеженным холмам во полях, в отчаянии они вцеплялись пальцами-крючьями, клали дрожащие потные ладони на раздувшиеся без меры животы, и беспомощные старцы, нагие, в улыбке челюсти голые, без единого зуба, щёки в морщинах, висят, собачьи брылы, колючая серебряная щетина предсмертной щёткой топорщится, больные колени не сгибаются, мелко дрожат, и дядьки под хмельком, крепкие, мрачные, плечи шире оглобли, избычась, глядят исподлобья, железными шарами перекатываются под кожей задиристые мышцы, а хищный мрак наполняет тёмным вином радужки будущих убийц; тут летели и владыки в красных атласах и златых коронах, зубцами сходных с крестьянскими граблями, сжимали в ладонях башню скипетра и круглую землю державы, слепящие лучи веерами расходились от парчи, расшитой кровью и золотной нитью, от горностаевых шкур, накинутых на царственные плечи, пестрящих мёртвыми лапами и чёрными, на снеговой белизне, запятыми мёртвых хвостов, и владычицы в жемчужных ожерельях, в лазуритовых серьгах, заря их широких, на пол-Мiра, улыбок мгновенно обращалась в уродство неудержной паники и смертной боли; и земледельцы, обнимающие связки моркови и грязную картошку, несущие за пазухой огурцы и яблоки, и видны были плоды великой земли сквозь их расстёгнутые, перепачканные землёй рубахи, и незримый нож разрезал фрукты, овощи и ягоды, и лился живой сок, сладкий, горький, капли падали вниз, на мощные полночные сугробы и чёрную весеннюю пашню, на солому темно молчащих, нищих изб, на грязь просёлочных дорог и метельное бездорожье; и площадные попрошайки, они летели и на лету курили, торчали жалкие окурки, с мостовой подобранные, в углах их губ, в зубах с грозовой молнией фиксы, они летели и резались в картишки, и ветер вырывал карты у них из пьяных рук, и летели карты по ветру, по всеобщему безумию, по осени последней; и ребятишки летели, вихрились и клубились, кувыркались во льдах иглистых звёзд, подскакивали, вертелись юлой, катились колесом, раскатывались свёклой и репой, и мальчишки свистели оглушительно, скаля беспризорные рты, кулаками махали, чая крепко ударить незримого супостата, а то и одним сильным ударом убить его, навсегда умертвить, а девчонки тянули тонкие ручонки, раскрывая, как птенцы в гнезде, вопящие страхом рты, желая вцепиться в обод нефтяного облака, в пучок горькой травы, ветром вырванной из стонущей земли и ветром гонимой по небу в никуда, - а ветер не утихал, не умирал, юродивый ветер нёс безумных людей, и одетых и голых, всё дальше, дальше в широкие небеса, и нещадно, неутомимо катились в ночь живые полоумные колесницы, и небесные шестерёнки, зубцы, ножи и маховики перемалывали Живое, сдирая с тел роскошь царских мантий и последние жалкие тряпки; и вот, видел я воочию, нищая холстина сползала с плеч, и, цепляясь за голые плечи и груди, трясущимися руками прикрывая в ужасе срам, люди летели, крепко смыкали веки, чтобы не видеть ужас в лицо, орали, вопили, хрипели, плакали, смеялись без ума, летели, летели, летели, нагие, в пустоту, крутились над сурово молчащей внизу землёй, обращались в единую голую бурю, в один блаженный нагой ветер, в ловчую сеть последнего урагана, в бешеный раструб пылающей смерти.
И я стоял, задрав башку мою, и зрел, недостойный иерей: летят! Летят! Летят люди, да, летит мой озверелый, отчаянный Мiръ! Летят во дне, летят в ночи, летят над торжищем в лучах рассвета! Летят над последним сражением, где мы утонем в криках и крови! Летят над колючею проволокой, над белым медвежьим морем, над моим навсегда разрушенным храмом! Над ледяным, древним черепом святого камня! Летят приговорённо и стремглав, катясь по небесам, раскинув руки-ноги, колёсами вращаясь, и не остановить, срок пришёл, час назначенный пробил, вырвался из нутра последний страшный вопль; вот явился Господь судить нас, и подъял нас всех, грешных, высоко в небеса, а земля-то, она уже далеко, она уже катится прочь от нас, не поймать, не забыть, - и сотворил Господь так, чтобы поднялся и окреп громадный ветер, гневный вихрь, и сорвал с нас одежонку, как утлый стыд, и сорвал с нас ложь, как последнюю боль; и узрел Господь, какие мы бедные, слабые, жалкие, горькие, полынные, как все мы похожи, едины в несчастном умалишеньи нашем, в блаженстве нашем и в отчаянном общем вопле нашем - слуги, лакеи, владыки, нищие, разбойники, распутницы, монахи, нежные младенцы, изморщенные старцы: для всех нас одна была наша судьба, одно наше счастье и одно горе. Не накормишь ты грудью, Душа моя, последним голодом голодную жизнь. И не отвращу я лица моего, Господи, от великого последнего, в небесах, полёта земного, страдального, земляного народа Твоего!
Вот мы! Летим! Зри! Любуйся!
Конец Света ведь лишь раз увидишь!
Я прижмурил глаза. Склеил горячие веки. Выли на ветру, гудели костры. Медленно шли по глубоким колодцам небес алмазные планеты. В глотку мне вливался свинцовый огонь. Военный огонь. Я видел Судный Свет. По ветру летел изодранный плащ. Я сперва плащ увидел. Под ним хитон, в кровавых пятнах. А потом уже, сквозь развеваемые ветром тряпки - голое тело, исполосованное бичом. С хищных туч ветром сбиты оковы. Тучи несутся по ветру куда хотят. Бог улыбается, его уста сверкают молнией.
Тело Бога, ты само бич! Ты воздымаешься, падаешь со свистом: на подставленные спины, на мёртвый камень и на живую кожу. Валит толпа, вся в карминных, хмельных шелках и бархатах, люди пьяны, от отчаянья, от тоски; в метели бьют по ветру плетьми женские косы, обвитые алыми лентами, хрипят, скрипят, хохочут повозки, они везут наши гробы, они внезапно застывают посреди каменистой дороги в параличе; в овраге, осиянном синей Луною, страшно ухает сыч. Зима идёт снежными стадами. Звёздным многоглавым стадом. Распахивается зимняя бездна. Я над ней стою. Вижу толпу, множество безумных голов и безумных глаз. Толпа идёт по снегам, по огню, пламя медовое, пламя морковное, пламя красное, ягодное. Над огнём замер старик. Белая борода летит по безумному ветру. Все нынче безумные! А как иначе можно вытерпеть последний Суд!
Бородатый старик, ты моё зеркало! Отражаешь меня. Я себя ясно вижу в тебе. Я пророк, и ты пророк! Что мы с тобою напророчили друг другу?! Багровый гул! Глад и мор! Землетряс и великую волну с моря! Затопление земли! Крики и плач! Восстание огненных гор! Да, да, не отрицай! Всё это мы с тобой, старик, безумным нашим людям безумно кричали!
Отряси прах от стоп твоих. Небесная Корова взмычала. Ангел вострубил. Потекла по выгибу купола кровь звезды. Господь снова пошёл по водам. Народ валит в расписных понёвах, в бычьих, овечьих и оленьих тулупах, мальчишки вкусно жуют жмых и серу, сосновую смолку, от хода бесконечных поколений повыцвела торная дорога, любимая, столбовая, снеговая, и по ней в розвальнях катит, вознося двоеперстие над толпой, боярыня, живая, в слезах... и кричит, сжав добела горькие губы, из угольной черноты измученного лица - раскрытыми в небо очами: да, я не Федосья нынче! я Рахиль! Лия! Суламифь! Магдалина! А её не слышат. Орут, свистят, семечки грызут, снежками бросаются. День умирает, и ночь крылами за плечами встаёт.
Густоворот и колоброд людских слитков, орущих, потных. Я пытку любую вынесу. Я на тонкую лесу любовь нанижу. Хоть сегодня не знать, что всяк умрёт!
Лица, лица, лица. Пляшущая череда лиц. Роятся тяжёлым, густым, ярким роем. Без следа исчезают: за воем волка, рыком рыси. Время ставит на меня, на голую кожу мою нищие заплаты. Я пытался жить без страстей, врач, и не мог. Мало и плохо я лечил вас, люди! Мало и плохо любил! Если бы вернуть Время!
Люди забудут меня. Забудут друг друга. Вот ударил нам в лица последний свет, нездешний, ягодно-кровавый, досиня раскалённый, и встают мёртвые со славой под Судного Дня тяжкий полог. А я, кто я сейчас? Здесь и теперь? Мёртв я, ещё не родился я или жив я и страдаю последней мукой моей?
Я встаю в убитом храме не из земли. Не из гроба, его сиротской деревянной пасти. Стою в обтрёпанных одеждах моих, и в серебре и жемчугах метели, в разводах зимней парчи моя трудовая холстина, залатанная шкура. А кто передо мной? Ты ли это, Душа моя?
Красива ты как... Светишься улыбкой... Давно я не видел тебя. Очи твои любимые, синий, над землёй, поток! Синяя река Богородицына плаща! Золотым пламенем, маслом, мvром текут по спине, плечам, груди твои власы. Ты вся - мой родной народ. Ты зеркало, и отражаешь Богородицу. И весь народ отражаешь. Вбираешь. Любишь. И снова на свет рождаешь. Тебе ли, народ мой, воскресший в Душе моей, пугаться дикого Гееннского огня?!
Гляди, Душа моя, вот он, чугунный Крест! Вознёсся к звёздам в ночи, над бескрайними зимними полями. Тьма огней окрест раскинулась. Замерцала. Стою в разрушенном храме. В пустоту зияния в кирпичной кладке глядит звезда Сириус, в мои бешеные зрачки, их чёрную прорву хлещет чужедальнее пламя. Ко мне из мглы идёт грешник, дрожит на морозе. Старик, в пригоршне его мерцают леденцы, забытые сладости. Я не ребёнок давно, старик, я скоро тебе ровесник, и сласти мне ни к чему! Старик беззуб, страшен. Он сам себе Страшный Суд. Вон, гляди, за храмом блестит под звёздами замёрзшая вода. Засни, орешник, над озером!
Не могу отвернуться от западной стены. Росписи оживают.
Плывут косяками сельдей в ночи, нагло нагие и одетые в немыслимую роскошь, солдаты, попрошайки, богачи, оружейники, командиры, молотобойцы, они плывут на Страшный, на последний наш Суд. Вижу: Ангелы сшивают небеса с землёй ледяною иглой, летят, раздувая могучие крыла. С иглы на землю капает кровь. Я шепчу Ангелам: я не умру, ну, ещё минуту, ну, ещё немножко.
Дегтярный зенит, грозовой воздух, запах давно избытой гари лезет в ноздри, ударяет в глаза. Мне бы два крыла! Такие, как у Ангелов! А может, у меня они есть?
Потоки звёзд расчерчивают небо. Я не заметил, как наступила ночь. Судя по всему, это вечная ночь. Но я-то ещё не умер! Два крыла, хочу два крыла. А вот они, раскинуты во всю ширь надо мной. То Ангел Страшного Суда. Неужели я тебя вижу? Мне страшно!
Под густо текущими реками звёзд толпа вопит отчаянно, а потом умолкает и ждёт.
И вокруг меня роятся всё лица, лица, лица.
Вижу: слева от Креста плывёт плот любви; святые в цветных шёлковых мантиях, вокруг их затылков светятся нимбы, они превращаются то в чистое серебро пурги, то в косые дожди, заливая святые лица и святые руки; а за спинами святых шкурами песцов и горностаев лежат убитые, святые поля. А справа от Креста народ, мелькают лица, лица, лица, грубые, простые и тоже святые. Крепче, надёжнее нет этих лиц! Узнаю, родные! Крепки вы, как церковь, строенная без гвоздя! Фуфайки ваши замасленные! Майки ваши в дырах! Тулупы ваши, как и мой же, в заплатах! Блаженны вы, милые, и блаженна ваша благодать!
Зарево такой любви виднее зимою в завьюженных полях. Вы, нищие! Хрипя, леденея, побираясь, плача в подворотне, засыпая под забором, блаженны вы, мои нищие! Чем вы беднее, тем стозвонней. Уступы срываются, камень рассыпается в песок, разымаются отроги, затягивает мга, преграждает путь буреполом, к пучку соломы подносят пылающий факел, огонь бьётся на ветру хвостом убитой лисы, огонь жадно целует солому, и занимается сухостой, и вспыхивает сруб, и горит мой родной дом, и Содом ударяет в медную тарелку, зык идёт над пламенем, а дом полыхает, подыхает, мой дом, срубленный мною для жизни - умирает!
Ты был для жизни, а стал - для смерти!
Вижу: в огненный окоём, рьяно, рдяно бушующий, ветер толкает грешниц, вот монахини в рясах, вот сёстры милосердия в белых платках с красными крестами, вот учителки с книжкой под мышкой, вот крестьянки в туго завязанных на затылке красных платках, а зачем же вы в огонь собак да кошек бросаете, зверей пощадите, мы, люди, умереть согласны, да разве вместе со всем живым на свете?! Собаки визжат. Живьём сгорят! И нас, и нас с тобою, Душа моя, в огонь ветер толкает!
И нас с тобой вдвоём!
А где мы, Душенька?! О Господи... гляди... мы справа от Креста... на грязном, снежном одеяле... Мы попали с тобою в грешники! Нельзя было нам так любить! В таком съединении дышать и жить! Слеплять уста, сваривать горячим металлом сердца! Старый перстень, когда мы целовались, там, на берегу стального солёного моря, упал с твоего пальца и укатился в воду. Его проглотила рыба. Я, хирург, ту рыбу уже никогда не разрежу, чтобы твой перстень, Душа моя, добыть.
Вижу: красно полыхает Адова печь. Ад рядом. Он под ногами. Железно, ржаво её дикое пламя. А мы с тобой? Где пламя нашей любви? Нам розно ни сгореть, ни лечь. Гляди, вот летит в небесах царь. У него в руках скипетр и держава, а рот его распялен, и он кричит, да мы с тобою не слышим крика. Я понимаю: я скипетр, а ты держава. Нас в обеих руках держит кричащий Бог.
Всё кричит. Кричит труба в полях. Который Ангел вострубил? Ты считала? Я не считал. Забыл. Труба кричит о золоте, о крови и печали. Гроба разверзаются. Земля трескается вдоль и поперёк. Люди восстают из праха. Поднимаются в воздух. Летят. Почему мы с тобой не летим, а здесь, в убитом храме, стоим? Какие гири привязаны к нашим ногам?
Сверкают лица. Вьётся виссон. Звёздная телега влачится. Грешник, вон тот, мой сон, твой сон, гляди, он летит, пытаясь спастись, а на деле метит прямо в огонь, и вот он доплыл до брега огненного, волосы его трещат в пламени, лицо восходит слепой ожоговой Луною над смертной пеленой сияющего ночного поля, над изумрудным мафорием Сияния, над дёгтем купола, тает в крике и стекает в стынь и драгоценный хризопраз небесных белых Медведиц, в горящий рубиновый зрак ленивой древней Рыбы, в узлы ремней дыбы пытальной, заоблачной, и гаснет под орудием людской пытки белый угль пурги...
Доплыл ты?! Спасся?! Нет! Ты горишь. Встаёшь на колени на кромке берега, перед мощью моря. Наклоняешься. Хвать кусок заберега, ледяной ломоть. Суд, кострище из кострищ, нищий и щедрый равны перед ним, он есть воздаяние без обмана: цепляйся, бедная ладонь, бейся, царапайся в бессильи, жадная рука! Не ухватишься. Не выкарабкаешься! Горит предвечный огонь! Горит, крестись не крестись! Пей не пей рюмку за рюмкой! Не удастся нырнуть в забытьё!
Это последнее пламя.
Так больно горят грешники. Так ярко тают праведники. Вижу: святые люди возносятся, все, да не все, иной и срывается в огненную пропасть, и наряду с грешниками сгорает, то был их выбор, видать, не захотели они оставлять гореть одних родных своих, любимых! Горит восковой наряд взорванных храмов. Храмы расстреливали и жгли, как людей! Так что ж сейчас-то плакать! Когда всё, всё в последнем огне!
Вижу: сапфирами мерцают радужки. Белки глаз да зубы горят бирюзой. Ты, Душа моя, и в огне красива. Красивее всех закатов и рассветов небесных. Горят кошки, собаки, волки, лисы, коровы. Закипает вода в морях, и горят моря и океаны, ручьи и реки, сугробы и протоки, старицы и озёра. Горят рыбы в воде и черви в земле. Зимнею грозой набухает во мраке небесный свод. Господи, на ледяных власах Твоих - полярная корона, льются по лицу Твоему гранатовые слёзы с колючего венца. Падают на меня Твои красные слёзы. Льются мне по лицу, по телу. Струятся с колен моих, со ступней - во снег. Прожгу тебя стопой, лёд! Тебя, могила!
Душа моя, в Мiре сём я был с тобой. Ты любила меня в Мiре сём. Я тебя. И здесь, у Мiра на краю, следя очами святое последнее пламя, стоя в расстрелянном храме, а сквозь руины летит снег, летят одинокие звёзды, я молюсь иссохшими, жаждущими устами: Господи, воскреси и жить оставь там, потом, после Страшного Суда, когда царство Твоё придёт и продолжится тысячу лет, а иные мертвецы не оживут, спаси - не меня: её! Восстанешь ты, Душа моя, из щели земной. Из той могилы безымянной, куда мы тебя тихо положили. Забыл я твою могилу. Грешник я великий. Но ты, Душа моя, безгрешна. Встанешь ты из гроба, кости твои оденутся плотью, синие глаза поглядят в мои. Всё, я уже не хирург. И не священник. Я просто человек, беспомощный и нежный. Силы все мои на работу ушли и на преодоление мучений. Я раскутываю твой саван, пахнущий смолою, рыбой и ягелем. Я прижимаюсь живою яростью и живой любовью к твоим, Душа, устам. Где тело? Где Душа? Где Дух? А вот они, все вместе. В объятиях моих! Я, как воскресшего Лазаря, тебя обнимаю, снежные пелены с тебя совлекаю. Да это просто белый халат мой лазаретный, в нём я всегда оперировал. Прощайте, операции! Кто же оперирует во Страшный Суд! Припадаю голодным бродячим мальчишкой, беспризорником, к тёплому хлебу твоих плеч, вдыхаю запах хлеба, я тот пацан, которому я сам подарил тулуп с моего плеча. Я его отразил? Он ли зеркало моё? Всё равно. Плечи твои, Душа, укутаны в зверий мех. Не разберу, какой. Лисий ли, бараний, волчий, козий, медвежий. Слава зверям, что жизни отдали охотнику, чтобы сейчас, в последний раз, согреть тебя. Угрелась ты в шубе. А я раскутаю тебя. Я хочу прижаться к тебе и ощутить тело твоё. Вот и мой тулуп я сброшу с плеч. Пусть валяется рядом с мешком. Вот. Так! Хорошо! Душа моя! Тело моё! Голос мой, ты мною звучишь. Небесный самопал звёзд мечет над нами крупные самоцветы, взрывает блёсткие колёса. Катит Время. Не остановить. Сгорим вместе. Только обнимемся крепко. Как можно крепче. Тогда не страшно.
Нас кинули монетами в огонь, чтобы потом, после, сюда вернуться.
Всё возвращается. Даже смерть.
К нам протянута ладонь Бога нашего.
Я целую тебя. Так целую, будто нету смерти и не было никогда.
Она сгорела в огне Страшного Суда. Видишь? Видишь?
...и прижалось к земле Солнце, повинно выходя на холодный небосклон. И видело Солнце сгоревшую в огне землю, и прижались к Богу, горько и безмолвно сидящему на небесном троне Его, деды и внуки, матери и дочери, отцы и сыновья. Лица, лица, лица летели вокруг Бога и мимо Него, вихрились, вспыхивали, пылали. Плакали бедные праведники, видя сверху погибшую землю; и нельзя было в пепле отыскать выживших, и найти Души Живыя и Мертвыя, ибо смешалось всё в едином небесном котле и рассыпалось на тысячу горьких огней.
Солнце медленно всходило над тундрой, озаряя руины и снега, охотничьи тропы и рыбачьи перевёрнутые обгорелые лодки, белый атлас сугробов, красоту утра и уродство пепелища, счастье и ужас, боль и надежду, кровь и оружие, Мiръ и войну.
Беспощадно, лучами прожигая до костей, Солнце осветило старика, лежащего внутри взорванной заброшенной церкви; руки раскинуты, ноги разбросаны по каменным плитам, будто бежит, убегает вдаль, туда, где не будет ни болезни, ни печали, ни воздыхания, а только жизнь бесконечная. Ветер поднимал и тихо колыхал в снежных утренних сумерках его длинную сивую бороду. Ещё лучи осветили старый холщовый мешок, торчащую из него солдатскую жестяную флягу, выкрашенную краской цвета хаки, иззелена-медный, крупный крест на груди, в распахе рубахи, на суровом гайтане. Ещё ласково, медленно ходили тонкие лучи по стенам, на коих тускло, робко пробиваясь сквозь расколы, выбоины, слои осыпавшейся извёстки и людской жестокости, тихо, нежно горели старые фрески. Фигуры летели над землёй, златые нимбы сияли над головами. Прокопчённые, цвета уже не разобрать, плащи, затянутые забытой гарью тёмные скорбные лица освещало тихое сусальное золото. Это катились над чёрной землёй золотые планеты. Жалели её. Крестили её. Плакали над ней.
Угас Конец Света.
Начался новый свет, новое небо и новая земля.
Они нашли меня не знаю как. Но нашли.
С собаками, без собак, всё равно.
Я сам поставил знак равенства между собой и Мiромъ.
Если я есмь Мiръ, меня уже никто не сожжёт, кроме Бога.
Девочка моя, чудненькая, ласковая, светлая, а потом меня били. Что плачешь? Не плачь. Мне разбили снова лицо моё, лицо, лицо в кровь. И сильно ударили меня в другой глаз, вспухло подглазье, Время шло, ползло и летело, а всё не рассасывалась гематома; я уже думал, осумкуется, а потом воспалится, а потом абсцесс, а глаз ведь входит в лицевой треугольник смерти, это мы так, хирурги, область лица называем, где если что воспалится, так гной летит с током крови сразу в мозг. И поминай тебя как звали. Нет, абсцесс не возник, зато от ушиба стала стремительно развиваться глаукома; а она неоперабельна, дитятко, нет, её уж никак нельзя взрезать и выпотрошить.
А ещё люди меня били, били и разбили мне левое плечо, оно раскололось внутри меня на части, и я знал: надо обложить плечо гипсом и так долго ходить, таскать гипс месяца три, четыре, а то и полгода, тогда заживёт. Гипс мне, конечно, никакой накладывать на перелом не стали, никто меня в родной лазарет не отвёл, чтобы лечением утешить. Спросишь, а где же прятался мой демон, мой напарник, мой соперник, мой горемычный, военврач мой, узник, как и я же, доктор Николай? Где скрывался от меня?
Меня сперва, после того, как крепко избили, бросили не в барак, а в пустой холодный, нищий, громадный собор, он стоял ближе всего к воде. Там на всех четырёх стенах, на северной, южной, западной и восточной, не мерцали никакие фрески. Их все давно сбили-сколотили молотками, содрали мастерками и финскими ножами. Только на одной, восточной стене, там, где раньше находился алтарь, просвечивала одна фигура. Единственный мой глаз затягивался плевой глаукомы, и я не мог её хорошенько разглядеть. Но подходил близко, и водил по росписи бедными глазами, одним вытекшим, другим тающим, как лёд по весне, пытаясь различить, кто там намалёван. Изображение, дитя, самое важное зеркало. Тебя, не зная тебя, рисовал художник. Он рисовал тебя не здесь и сейчас, а таким, каким ты, человече, будешь через тридцать лет, если жив будешь; через сто лет, когда помрёшь и косточки твои в земле сырой сгниют; через тысячу лет, когда на камне, где застыл твой бедный лик, и отпечатка от тебя не останется.
Мне казалось, я узнавал на обшарпанной стене Богоматерь в алом хитоне и небесном плаще.
А может, это глядела на меня Мария Магдалина в синем хитоне и в кровавом плаще, не знаю.
Краски мешались, стена кренилась, глаз косил, я падал, пьяный от созерцания Святого.
Святая Святых! Пустой Распятский собор на берегу, до смертной белизны омытый дождями и посечённый снегами, как кости динозавра, только и ждал меня. И вот я пришёл. И я, дитятко, проповедовал в том соборе - для кого, и сам не знал, никто меня не слушал. Я говорил, говорил, говорил и сам слушал мой голос; голос звучал хрипло, тяжело, как у смертельно раненного, и сам себе казался я ожившим ружьём, бряцающим прикладом.
Охранники являлись каждое утро, выхватывали из толпы, спящей вповалку, жертвенных агнцев. Люди вопили, рыдали, не хотели идти на смерть. Их гнали взашей. Мы слышали выстрелы. Я накладывал на себя крестное знамение. Люди матерились, многие дрожали и обнимались. Прощались. Детонька, сколько же раз человек прощается с человеком на земле! И когда отъезжает в далёкие края, и когда сильно хворает, и когда разлучается в любви, и когда умирает. Всюду разлука. На каждом шагу. Вот ты, скажи, ты уже прощалась с кем-нибудь? А я ведь скоро буду с тобой прощаться, радость моя. Час мой близок.
Да и час всея земли близок. Помни это. Не страшись.
Прощание - это молитва. Самая тихая, самая тайная. Самая горестная. Ты ведь больше никогда не увидишь того, кого целуешь перед разлукой. Разлука большая, разлука океанская; разлука глядит волчьей мордой, переливается Сиянием, бьёт в лицо тебе вьюгой. Перейди разлуку. По воде, аки посуху. Будет встреча. Ты вернёшься домой. Я тебе обещаю.
Я лежал в Распятском соборе, говорил-говорил и умолк, проповедь мою слушал маленький лемминг, он приполз в храм в поисках съестного. Я скорчился, скрючился так, чтобы во всём походить на зверька. Я тоже маленький, и я тоже голодный, и мне дом тундра, и я показываю зверьку зубы и мелко-мелко стучу зубами: гляди, лемминг, я это ты, а ты это я, я твоё зеркало, и тоже хочу есть, а не дают. Лемминг смешно дёргал крошечным носом. Я неотрывно смотрел на него. Вот кто понял бы мою проповедь. Лемминг, ты не ранен? Могу тебя перевязать. Нарезать осокой полосок из моей кожи. И заштопать твою.
Тут услышал я: топ-топ, топ-топ, кто-то приближался ко мне. Перешагивал через людские, ещё живые брёвна. Топ, топ, топ. Встал. Я сначала увидел сапоги. Хорошие, добротные, щедро смазанные ваксой сапоги. Сквозь туман перевёл я выше, выше одинокий глаз. Мутно и смутно качался передо мной человек. Шуба расстёгнута. Под шубою белый халат.
Лемминг порскнул прочь. Я разогнул спину. Лёг на спину, глядел одним глазом вверх. Человек протянул мне руку.
- Алексей. Это ты. Вставай.
Я руки ему не подавал. Лежал и смотрел.
Пальцы над моей головой согнулись и разогнулись.
- Ну что ты. Встань.
Он наклонился и сам схватил мою руку, и стал тянуть меня вверх, мол, давай, шевелись.
И я не стал его отвергать. Драться с ним, как встарь. Нечем драться было. Выпило горе силы. И моё, и общее.
Уцепился я за его руку, он с натугой поднял меня с каменных плит собора.
Мы стояли рядом, голова к голове. Я пошатывался.
Мои круглые очки давным-давно сбил чужой кулак с моего носа, они откатились в яму памяти, потерялись в густом снегу. Зачем мне теперь очки?
Половина лица врача Николая была закрыта белой марлевой маской. Сто раз кипятили бедную марлю. Разлезается на глазах.
И я не знал, улыбается он мне, скалится зло или сложен его рот в неудержном рыданьи.
- Алексей. Я тебя нашёл.
- Спасибо.
Солнце пригревало. Снаружи звенела капель, скатывалась вода с дырявой крыши собора, я слышал звон. Он теперь вместо колокольного. Умерший храм - зеркало. Он отражает бессильную злобу заблудившихся во Времени людей.
- Что спасибо. Идём отсюда.
Мы пошли к разбитым дверям, и он поддерживал меня за локоть.
И я не сопротивлялся.
Мы шли по снегу, по Солнцу, по небу. Наст хрустел и проседал под ногами. Шаг, ещё шаг. Мне шаги давались с трудом. Я отражался везде. Я был всюду. Я видел иным, неземным зреньем, вроде как сверху: вот идут по снегу двое мужчин, один старик, другой молодой, а ведь ровесники. Когда молод ты был, ходил ты свободно везде, куда хотел, и сам препоясывался, и ел и пил, что сам желал. Когда состаришься ты, тебя чужие руки препояшут, и в рот тебе будут толкать, чего ты не желаешь ничуть, и поведут тебя туда, куда не хочешь ты. Так сказано в Писании.
Он привёл меня не в дом. Не в барак. Не на берег моря.
Он привёл меня в лазарет.
Мы медленно поднялись по лестнице наверх, Николай взял меня за руку и ввёл в нашу операционную, и я осторожно, будто в операционной волки сидели, переступил порог.
Я просто боялся споткнуться и упасть.
Николай подвёл меня к столу и усадил на табурет.
- Алексей. Слышишь. Я сохранил все твои инструменты. Они теперь мои. Я ими оперирую. Я вырос, ты знаешь. Правда. Умею то, чего раньше не умел. Это тебе спасибо.
- За что?
- Ты меня научил.
- Это я учился у тебя. Ты смелый. А я задумчивый. Медленный. Я всегда уповал на Бога.
- Послушай. Я хочу тебе сказать.
Замолк. Отошёл в сторону. Я слышал, он гремит стекляшками и железяками.
Подошёл.
- Это без градусов нельзя. Вот спирт, вот вода. Давай, как настоящие хирурги. По-нашему. Я без спирта не смогу.
Я видел сквозь слёзный туман, как он разливает спирт по мензуркам, разбавляет водой из пузатого графина.
Ждать я не стал.
- Такое страшное? Давай. Не боюсь.
- А чего тебе сейчас-то бояться. Перебоялся уже.
Он втиснул мне в пальцы мензурку. Она льдом обожгла мне ладонь.
Взял свою.
Лица, лица, лица полетели между нами. Души Живыя.
Простите, родные, не успел я вас всех собрать в мою котому.
- Умер твой сын.
- Твой...
- Пусть мой. Не смог без матери. Не выжил. Скажи молитву твою, как это там у вас, заупокойную.
Я глядел на мензурку в моей руке. Глаз различал хрустальную белизну жидкости в сосуде, а вот риски на мензурке уже не различал.
- Господи Исусе Христе, Боже наш, Владыко живота и смерти, Утешителю скорбящих! С сокрушенным и умиленным сердцем прибегаю к Тебе и молюся Ти: помяни... Господи, во Царствии Твоем усопшего раба Твоего, чадо мое Алексия, и сотвори ему вечную память. Ты, Владыко живота и смерти, даровал еси мне чадо сие! Твоей же благой и премудрой воле изволися и отъяти е у мене... Буди благословенно имя Твое, Господи.
Я выпил. Выпил и он.
Спирт глотку обжёг.
Отдышались.
У меня с ветхих валенок тёк на пол растаявший снег.
- Вот так-то.
- Со святыми упокой, Христе, душу раба Твоего Алексия, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь безконечная.
Николай следил, как я крещусь.
И тут, дитя моё, произошло странное.
Не мог я объяснить тогда, да и теперь не могу.
Бог то ведает.
Врач Николай поднялся с табурета и встал передо мной на колени.
Закинув лицо, будто к небу, глядел на меня.
- Окрести меня, пожалуйста. Пока ты ещё... пока твоя рука... и твой глаз...
Он был прав. Рука моя ещё двигалась, и глаз мой ещё видел.
- Хорошо. Пойдём на берег.
- Сейчас?
- А медлить зачем.
В виду ледяного моря я совершил обряд крещения над рабом Божиим Николаем. День был ясный. Солнышко повернуло на весну. Скоро прилетит ширококрылой чайкою тундровое суровое лето, и Солнце будет гореть над Мiромъ неугасимой лампадой. Человек с Востока и человек с Запада встретятся грудь на грудь. Войска пробьют небо, пойдут через горы, воды и снега. Виновных накажет безжалостный хлыст. Явится гроза людей и оживит преисподнюю. Новые вожди произнесут с высоких трибун новые речи. Старые газеты сожгут в печи, и люди будут жить без газет, перекидываясь мыслями. Зарядят дожди, и будут идти так долго, что начнётся новый потоп. Растают все льды в океане, он хлынет на сушу людскими слезами и затопит дома и сердца. Молоко, кровь и лягушки низвергнутся с небес. Снова придёт чума, и я, врач, буду ходить с маслом розы и мазать рты и ноздри зачумлённых. Кто воскреснет, а кто умрёт. В устьях рек случатся грандиозные кораблекрушения, а с неба упадут железные колесницы без колёс, без руля и без ветрил. Братья будут сидеть за столом и пировать, и вдруг безумный гнев охватит их, и швырнут они в лица друг другу кружки с вином, и вытащат из-за пазухи ножи, и будут резать и колоть друг друга, затеяв жестокое сражение, и окрестные люди будут их разнимать, но бесполезно. Пожары станут пожирать жилища, и внутри каменных громад задохнутся и сгорят дети и старики. Тиран заучит наизусть письмена святого. Войско, где тьма тем народу, будет освобождать осаждённую крепость. Владыки Мiра будут мириться и ссориться опять. Люди будут умирать от таинственного удушья и рождаться с семью пальцами и двумя головами. Прогремят ужасающие морские битвы. Огонь пойдёт по земле волной. Звери, птицы и гады сгорят в бешеном пламени, а люди побегут, стараясь его опередить. Взойдёт в ночи огромная, как дом, звезда, разрастётся и превратится в небесный город. Из тучи цвета смолы выйдет два Солнца. Человек, как волк, будет выть в лесах. Собаки, кошки, куры и петухи вдосталь напьются крови, а убийца проникнет во дворец, взмахнёт ножом, и назавтра властелина найдут мёртвым близ его размётанной постели, и рану вдоль всего тела на нём. Высоко над угрюмым дворцом будет стоять днём и ночью страшная звезда, и у неё вырастет сверкающий павлиний хвост. Трое юношей будут не на жизнь, а на смерть драться за свободный престол. Змея величиной с кита выползет из моря на берег и будет пугать малых детей. Юродивый старик будет беззубо хохотать на берегу, наблюдая, как торжественно в зените парит белый орёл, и увидит он, как налетит стая птиц и орла заклюёт до крови, до смерти. Заплачет старик. Безумная царевна, тоненькая девочка, подойдёт к старику и тихо его за руку возьмёт. Скажет: не плачь, ещё есть надежда.
Но это всё ещё будет, а сейчас есть берег моря, снег под Солнцем, глядеть больно, какой резучий; даже мои глаза, и слепой и зрячий, ножами белый свет режет. Щурюсь. Стою. Пешнёй мы с Николаем разбили лёд у кромки песка. Николай стоит босиком на снегу, укрывшем сырой песок, раздетый догола. Я говорю святые слова, совершаю всё, что нужно, всё, что помню, ибо память моя дрожит и путается, и заранее я у Господа прощения попросил: прости, Жизнедавче, если что не так. Купель крещаемого - море. Елей мой в лазаретном пузырьке, у меня в руках, - растопленный тюлений жир. Крест на груди моей, вот, на гайтане. Николай стоит передо мной у самой воды, а я гляжу на восток, я уже помазал члены крещаемого елеем, он входит в воду, и я, босой, вхожу за ним, мы идём в воде, мы идём по воде, мы идём над водой, заходим в холоднющую светлую воду по колено, по грудь, дух захватывает, я кладу ладонь на темя Николаю.
- Крещается раб Божий Николай, во имя Отца, аминь.
Легонько нажимаю на голову крещаемого. Он приседает. Я давлю сильнее. Он погружается в море с головой. Я ослабляю нажим. Он пулей выскакивает из ледяной воды. Вода стекает по голому телу его серебряными струями.
- И Сына, аминь.
Опять нажимаю. Опять он ныряет вниз, в воду, с головой.
- И Святаго Духа, аминь.
Ещё нырок. Ещё течёт и плачет вода.
Стоит человек на холоду, обтекает его ветер, обласкивает Солнце чистыми лучами.
Бездвижно стоит. Слушает.
Холод терпит.
- Блажени, ихже оставишася беззакония... и ихже прикрышася греси. Блажен муж, емуже не вменит Господь греха, ниже есть во устех его лесть. Яко умолчах, обетшаша кости моя, от еже звати ми весь день. Яко день и нощь отяготе на мне рука Твоя... возвратихся на страсть... егда унзе ми терн. Беззаконие мое познах и греха моего не покрых, рех: исповем на мя беззаконие мое Господеви, и Ты оставил еси нечестие сердца моего.
Терпит непосильную работу. Терпит наготу. Терпит смерть жены и сына. Терпит далёкую войну. Терпит голод. Терпит неизвестность. Терпит бесчестие. Терпит новое горе. Терпит всё, что можно вытерпеть. Бог не даёт страдания не по силам.
Не отвергнем страдание: оно дано нам как награда.
Я наклонился, поднял с тающего на Солнце снега одежду Николая и протянул ему.
Он стал одеваться, дрожа на ветру.
- Облачается раб Божий Николай в ризу правды, во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа, аминь.
Оделся. Глядел на меня.
Я ни у кого, никогда, ни у одного человека не видел таких глаз.
И больше не увижу.
Никогда.
Николай, святитель, доктор великий, делатель чуда! Чудотворче, Угодниче. Разве не стоял ты тогда на берегу морском рядом с нами? Николай, врач от Бога, зачем же ты от Бога бегал всю жизнь? Бог нас на войне спас. Тот, кто войне жив остаётся, даже и не веровал, уверует. Солдаты в бой идут, впервые в жизни молясь. Николай сам с собою чудо совершил? Нет. Господь совершил. Я, Алексий, Божий человек, его просьбу исполнил? Нет. Я лишь скальпель в руке Бога. Бог мною, живым, разрезал чужое сомнение, глум и неверие.
Хирург не тот, кто только режет, кромсает больную плоть. Хирург тот, кто вырезает из человека и удаляет зло.
Война разрезает тело человечества и удаляет опухоль ненависти. Хотя сама она есть ненависть. Кто, если не ты, в руке скальпель держащий? Кто, если не Бог, делящий нас перед Последним Приговором на овец и козлищ?
Там, далеко, идёт война. У нас тут своя война. У рыб своя. У зверей в тундре своя. У тюленей и моржей в море своя. Нет покоя. Вражда, можно ли её когда-нибудь радикально отсечь от тела земли? Выздоровеет ли бедный человек? Затянется ли страшная рана?
Я хотел напророчить нам обоим судьбу - и не мог. Мне казалось это кощунством. Зачем глядеть внутрь себя? Внутрь ближнего твоего? Да, всё предрешено. И много чего прозорливого мог бы я спеть нам про нас обоих, да и тебе, дитя моё, про тебя. Да не стану. Не всё можно изъяснить словами. Слова часто семечки, шелуха. Слова вылетают из тебя и улетают по солёному ветру, утекают ручьями по холодной земле. Их сгрызают малютки лемминги, как мелкую рыбу из моря, хватают чайки.
Живи без знания о будущем. Оно и так придёт.
Дитя моё, я часто слышу над собою голос Души моей. Она шепчет, я внимаю. Слова хорошо различаю. Вот недавно она сказала мне такое: война, любимый, да, злодейка. Но она же испытание нам. А испытания, ты всегда это говорил, посылает Бог. Вот я простая медицинская сестра. Сестра милосердия! Так называли нас давным-давно, так нас и сейчас называют, и впредь будут так называть. Потому что выше милосердия нет ничего. Спасти живое! Надо ещё дорасти до того, чтобы не убивать, а спасать. У нас на войне было так: ты врага спас, значит, ты сам враг! И убить тебя! И весь сказ! А что будет на будущей войне? Враг ранен, а ты наклоняешься над ним, и ты накладываешь ему на кровоточащую руку, ногу жгут, и ты бинтуешь его распаханное осколком брюхо! Кто ты такая после этого, дрянь ты, а не сестра! Разве можно врага жалеть! Его надо убить!
И шепчет моя Душенька: врага - да, надо убить. А раненого человека - да, надо перевязать. Кто пленных пытает, бьёт, режет ножом, а кто пленных кормит-поит, раны им йодом поливает, разговоры с ними ведёт. О войне. О том, кто и почему её начал. И почему мы войну убиваем войной.
Так говорит мне моя Душа, как несмышлёнышу, повторяет: мы войну убиваем войной. Мы правы. Мы идём вперёд. Победим. С верою и правдой.
И я шепчу ей: Душа моя!.. сим победиши.
А она-то слов таких и не знает, и не знала никогда, Душенька моя, из Священного Предания. Она простые слова знала. Хлеб, вода, море, песок, кровь, жизнь, смерть, любовь. Хочешь есть? Хочу спать. Устала! Щи крапивные будешь? Рана моя болит. А разве ты ранена, Душа? Ещё как ранена! Я тебе только не говорила. Всё некогда было. Я ушла на войну слишком юной. Я потеряла детство. Я, ребёнок, уже воевала. И я солдата от смерти на поле боя спасала, на плащ-палатке в лазарет волокла, тяжко мне было, задыхалась, а тут меня и шлёпнуло. Осколок! Да, я тебе не говорила, Алёша, милый, никогда не говорила, и не хотела говорить, а теперь вот с небес говорю: здорово меня тогда накрыло! Боль адская. Осколок под ребро воткнулся. Кровища ручьём потекла! А я бойца на себе тащу. И он раненый, и я раненая. Думаю: а вдруг кто из нас умрёт. Пусть я, так думаю о себе, пусть не он! Я себя на войне забывала, Алёша. Напрочь забывала! На войне - нет меня! И вот, смерть сама нашла меня. И тут же сжала зубы крепко, до боли, до искр перед глазами, и думаю так: нет, врёшь, смерть, ты меня сейчас не возьмёшь! Я ещё послужу Родине моей! Жить буду! Спасать ребятишек буду! Вот солдата сейчас до лазарета - дотащу! И не охну! И тащу, обливаясь кровью. Дикая боль. Зубы так стискиваю, аж крошатся. И вдруг вижу себя и солдата на брезентухе будто бы издалека. С небес. И я вроде не я, а чистая вода. Теку рекой! Чистой такой, серебряной рекой. А боец вроде как в лодке лежит. Плащ-палатка обратилась в лодку. Плывёт. И я её, ту лодку, на себе качаю. Это как любовь. Странно так. Или это земля качается под нами. Алёша! Ты мне говорил, у тебя была жена и детки, ты от них ушёл на войну. Что ты почувствовал тогда? Что война сильнее семьи? Что они и без тебя проживут? Где они теперь? Ты не знаешь? Вернее, знаешь, но сказать мне не хочешь? Боишься? Смерть любит молчание. Если они умерли, скажи тихо: в жизни есть только смерть; перекрестись и помолись за них. И я, как могу, слова молитвы за тобой повторю. Я молитв не знаю, Алёшенька. Никто меня молиться не учил! Меня учили так: Бога нет! А вот ползу по кровавому полю, тащу на брезенте бойца, и стала рекой, и хоть воду из меня пей, зачерпывай в пригоршню и пей, утоляй жажду, окунай лицо, умывайся, плачь, а я твоя синяя, чистая вода! Разве это не чудо! Чудо ведь, Алёша, чудо! Ну скажи, ведь чудо!
И я говорю Душе моей: чудо, Душа, чудо, самое настоящее чудо. Дотащила ты бойца тогда до лазарета? Она смеётся, я с небес слышу: да, дотащила! Ко мне, вижу, люди бегут, а я уже сознание теряю. И успела только сказать: у солдата ранение в живот, полостное, быстро на стол, обработка, наложить швы, кетгута если нет, шейте рыболовной леской... и всё, ничего не помню.
А ещё я пела солдатам колыбельные! А ещё я в атаку однажды взвод подняла! А ещё я помогала тем, кому руку правую ампутировали, домой письма писать. А ещё я утешала в ночи плачущих. А ещё я кормила солдат моих с ложечки! Как детей! А ещё я их всех помнила по именам! У каждого, у каждого я имя спрашивала! А у кого, кто постарше, и отчество. А они мне шептали: сестрица, у тебя в глазах солнечные лучи! У тебя в глазах небо синее! Небесной Сестрой меня звали. Да, так и звали! Вон, кричат, Небесная Сестра идёт! А я тебе не говорила? Ах, я, плохая! Забывчивая... Да нет, просто я стеснялась тебе себя хвалить! Зачем выхваляться! Ты и без того меня любишь. А я тебя с небес, как на войне моих раненых, сейчас утешаю! Утешаю лучами, утешаю синевой. Синевой обливаю! Синевой обнимаю! Ты же видишь, я в небесах над тобой рею! Я там живу и тебя жду! Я твой Рай. Ты во мне живи! Не умирай! И я тебя не забуду. Я тебя дождусь. Сколько угодно буду ждать. Так вышло, что я в драке нелепой, страшной погибла, как на войне, внутри взрыва, внутри ненависти. А родилась в любовь. Ты мой последний солдат, Алёшенька! Ты мне Николая прости! А он пусть простит тебя! Давайте все простим друг друга! Простить, это самое лучшее на земле. Я навеки твоя сестра милосердия из твоего лазарета! Не забывай меня!
Дитя моё. Видишь, не могу говорить, слезами заливаюсь.
Так и шепчу ей: Душа моя, ну как я могу тебя забыть. Прости меня. Прости меня.
А синева какая за окном! А Солнце какое!
Вижу сердцем весенний свет.
Подойди к окошку, детонька! Распахни створки! Пусть воздух войдёт в палату, ветер.
Сим победиши, промолвил Евсевий Памфил, изъясняя нам жизнь римского царя Константина. Тогда, дитя, тоже была война. Царь увидел на небе крест. Предзнаменование. Знак победы. А я сердцем вижу только синеву.
Налетела бешеная весна, растворялись снега, как соль в кипятке, явилась Пасха Господня, и мы с Николаем целовались троекратно, как положено.
Вокруг нас празднично блестели стеклянные лазаретные шкафы.
- Христос воскресе!
- Воистину воскресе!
Серебряно горели скальпели и корнцанги в дымящемся контейнере: инструменты только что прокипятили.
Кипяток, всюду кипяток, свет обжигает, чифир обжигает, будто кипятком обдали мой теряющий зренье глаз, а пустая глазница болела неимоверно. Пойдёт инфекция в мозг, кому мне исповедаться, если смерть меня пристигнет? Самому себе?
Мы день за днём лечили узников, они сами, горемычные, приходили. Кто не мог ходить, тех охрана расстреливала сразу. Не цацкалась.
- Николай, а я ведь побывал в Раю!
Он не смеялся.
- Верю.
- Знаешь... там изумрудная трава. И мандарины... такие золотые.
- Хотел бы я хоть одним глазком...
- Ты будешь в Раю. Обещаю.
Николай не знал Евангелия. Николай, милый друже мой! Врачу мой! Дисмас мой. Так всё и будет.
Господь, не гневайся, не святотатец я, я не обижу Тебя.
Просто у каждого свой Гестас и свой Дисмас.
Ибо каждый распят бысть.
А Пасха для всех. Все воскресают.
Сын мой, Душа моя! Воскреснете и вы, любимые. Я просто не знаю, когда. В какую земную, небесную Пасху.
В дверь просунулась голова юной санитарки.
- Гляньте, дохтура, как сонецко пылаеть! И лампы не надоть. Гляньте, внизе больной лезить! На брюхо залуецца! Стонеть! Плацеть!
- Хорошо. Сейчас спустимся.
- Для операцыи лампу-ти сготовить?
- Залей керосину. Солнце к закату клонится. Если оперировать, будем уж потёмну.
Я не мог построить храм из брёвен и досок. Я мог возвести его только мысленно.
На камне я служил Литургию мою, дитя. На большом валуне у воды. Море лизало мне ноги. Передо мной на валуне лежали Святые Дары: пайка хлеба и в мензурке клюквенный сок. Я освящал Дары и плакал от радости. Слёзы текли из единственного глаза. Я уже почти ничего не видел. Только слышал море. Я его отражал. Оно отражало меня. Вечное солёное зеркало.
Передо мной, за мной вставал народ. Доносились запахи моря. Водорослей, рыбьей чешуи, сырого песка. Толпы шли, надвигались, били в меня прибоем.
- Кресту Твоему покланяемся, Христе, и Святое Воскресение Твое поем и славим: Ты бо еси Бог наш, разве Тебе иного не знаем... имя Твое именуем. Приидите вси вернии, поклонимся Святому Христову Воскресению: се бо прииде Крестом радость всему миру! Всегда благословяще Господа, поем Воскресение Его... распятие бо претерпев, смертию смерть разруши...
Народ весь был один причастник. Весь стоял передо мной, чтобы я его причастил. Нет, я не сходил с ума, деточка, я просто по-иному стал чувствовать мой народ. Шли, и шли, и шли толпы, шли Души Живыя, рабочие и крестьяне, солдаты и генералы, врачи и учителя, кузнецы и пастухи, богомазы и малеванцы ярких плакатов, оружейники и поэты, иереи и бандиты, рыбари и костоломы, дети и старцы, бабы и герои.
Они все шли прямо на меня, и я видел их, медленно шли, грозно, в шинелях серого сукна, в лаптях и онучах, в зимних военных формах, подбитых пёсьим мехом, кто зряч, кто слеп, как я, вас ещё вижу, братья мои, - шли, с изжелта-зелёными страшными лицами, кто пережил в бою газовую атаку, кто слышал приказ: ни шагу назад!.. - крестьяне, в грубых тяжёлых руках вилы, грабли, лопаты, а кто вон и петуха несёт, к животу прижимает, - красного, ослепительного, кукарекает оглушительно, сумасшедше... то не петух, то огонь, им подожгут и спалят ближнюю деревню, да нет, сто деревень, тысячу, тьму, - петух, жги, жги, кричи на весь Мiръ, дух горящий!.. - сто усадеб растоптали, что церквей повзрывали, а вот он, мальчонка, один, и хлещет дождь, и прячет он, от бури и дождя, под обтёрханное пальтецо иконку, позолота стёрлась с оклада, через лик Спаса трещина бежит, изогнутая молнией... шли матросы, в тельниках, в бушлатах, эй, кто там держит железную кружку в руках, глотает горячее питье, и слышу ледовитый звон зубов о кружку, и кричат матросы: кончен бал, погасли свечи, и в тюрьме моей темно!.. да, кончен бой великих времён, наш корабль торпедирован, наш боцман - Бог, наш штурман - нежный Серафим, а вместо ног у него огни, огни, великие костры... а кто наш лоцман, кто же поведёт нас?.. убили лоцмана, снарядом попали, упал на доски палубы, близ расчехлённой пушки, кровью обливаясь, - шла пацанва, что ела крыс в подвалах, шли девчонки, твои ровесницы, дитя, что на вокзалах, в пельменных, в чепках дешевле гадкого вина продавали свою жизнь; они рядом шли - беспризорник, в кулаке краденую винтовку стискивал, всё шептал: десять пуль, десять пуль!.. и бедняга с волчьей пастью, воришка-щипач, и пахан, много таких я навидался и здесь, на северах, и в столичной темнице; шла мать, закутанная в чёрный платок, у неё сына убили на войне, и она шла сама как покойница, а жить надо было, и идти надо было, всё вперёд и вперёд, а сын жил лишь тихой молитвою под языком её; все на меня надвигались, все, нищие, голые и босые, на морозе без рубахи, лишь кресты нательные мотаются, а кто из толпы падал под ноги идущим и катился под гору, под откос, к белопенному морю, шли и шли, кто в офицерском кителе, кто в царских эполетах, кто с кровью на груди, пуля навылет прошла, а они воскресли и идут, и кричат: да будет свет!.. - и опять падают на снег, крася кровью свадебную белизну, а из-под сомкнутых век у них течет горячее стекло; шли бок о бок обходчики железнодорожных путей, наблюдатели рельс, тащили в руках молотки и кувалды, а за ними шли бабы, как по морю корабли, несли громадные тяжёлые животы, подхватывали их обеими руками, а дети жили внутри, глухи и немы, там, в кромешном мраке живых белых трюмов, в тёплой морской воде плодородного брюха: эй, белуга, говорят, ты умеешь громко кричать, так давай вой! реви! живи за двух! жизнь живо оборвётся, не успеешь оглянуться!.. бей не бей отчаянною башкой в молчащую землю... шли в мерлушковых шапках, в хромовых сапогах, в чёрных овечьих катанках, в смешных лапоточках, в грубых надёжных кирзовых сапожищах, в сетках от комаров, от хищного таёжного гнуса, в грязных, простроченных толстой ниткой фуфайках, в промасленных заводских робах, в казачьих папахах, за валом вал, за рядом ряд, шли и шли, так ночь идёт за днём, а день катится за ночью, всё шли и шли, и все на меня, и сметали с лица земли всё, что я знал и любил, все мои жалкие детские погремушки, все мои зеркальные сны, все мои скальпели, чтобы рассекать, и иглы, чтобы крепко, на всю жизнь, зашивать, всё растаптывали, а оставляли мне только себя, и я узрел мой народ, мой великий народ, моё счастье, моё чудо, я, лишь умеющий резать и шить человечье тело, я, не знающий человечью душу, а всё-таки безмерно, безумно верящий в неё, так же сильно, как я веровал в Бога; я, лишь плясун близ операционного ложа, для кого смертного одра, для кого родильной лодки, я, безумец, врач, иерей, урод, отверженный моим народом, а потом крепко возлюбленный им; и я упал наземь перед моим народом; и я раскрыл для крика рот, а не слыхать было громкого крика, волна взлетела под облака, а потом обрушилась на меня и смела меня; Время всадило в грудь мою двуострый меч по рукоять, свеча Солнца сожгла до дна, народ подмял меня под себя, жестоко пройдясь босыми и обутыми стопами по моей белой груди, по белому халату, по белым раскинутым рукам, по белым живым крыльям моим, а я-то и не знал, что я крылат, и перья мои жестоко хрустнули в снегу, меня чужие ноги вмяли в снег, и мой незримый храм надломился, я покатился по насту, мне в спину впечаталась военным огнём голая ступня, вражья или родная, всё равно, и я чуял, как рёбра мои прорастают в землю, как льётся на белый хлеб снега моя кровь сладким и горьким вином, и кость от кости я стал, и плоть от плоти я стал жестокого, единого и единственного народа моего, и стал я в голодуху голодному - ломоть, узнику - свобода, забытому - память, убийце - прощение.
И понял я, кто я такой.
И понял, кто такие мы.
И понял, кто идёт за нами вослед из тьмы безумной, кромешной.
И протягивал я народу моему Святое Причастие, протягивал золочёную лжицу, зачерпывая Тело и Кровь Христову из потира - маленькой алюминиевой кастрюльки, стащенной Николаем для меня в кухонном бараке; и пресуществлялись скудная пайка и клюквенный северный сок во Святые Дары, и подходили и подходили люди, и причащал я их и причащал, и так счастливо было мне, так сладко, так слёзно, так высоко, я парил на облаках, я дышал грозою и огнями комет, а народ всё шёл и шёл, всё шёл и шёл, и улыбался мне, и плакал передо мной, и стонал, умирая от ран, и рожали бабы, сначала дико вопя, а потом нежно плача от высокого, занебесного счастья, да, это было Причастие, какого у меня во всю мою жизнь ещё не было, и кто же это шёл в могучей толпе там, там, еле видно, в тумане, в сизой пелене, я ещё не видел его лица, а может, уже не видел, а вокруг вспыхивали, шевелились, мерцали и гасли всё лица, лица, лица... и он подошёл, подошёл ближе, вот он уже рядом, вот он глядит на меня, ах, Господи, кто это, тайну открой!
Почему это лицо человеческое так больно, нежно знакомо мне!
Он шагнул ко мне, вздохнул, чтобы слово сказать, а я уже знал всё.
- Сынок...
- Да, отец.
Мальчик стоял перед мной. Не мальчик уже. В волосах седая паутина. Голубиные лапки морщин в углах ярко-синих глаз. Глаза матери твоей! Души моей! Да разве ты жив, милый! Да разве она умерла!
Не верю... ни во что не верю... всё может измениться всякий час... я слишком хорошо знаю, что маятник... он качается... и качнётся...
- Причасти меня, отец!
Я поднёс ко рту его лжицу со Святыми Дарами.
Тысячи тысяч людей причащал я, а Дары всё не кончались.
Он проглотил Тело и Кровь Христову жадно и быстро - так голодные дети глотают вкусное яство.
- Кто ты, сын мой?
- Я солдат, отец.
Я глядел в небесные глаза.
- Как ты...
Я не мог выговорить: умер.
- Я погиб на войне.
Я плакал, глядя в глаза ему.
- Я думал, сынок, ты младенцем ушёл в небеса.
Он улыбнулся.
- Нет. Времена сместились. Ты знаешь...
- Я знаю.
- Отец! Погляди туда.
Он указал рукой.
Я посмотрел в клубы сизого небесного дыма. Весна. Холодная поморская весна. Кто там шёл, далеко, чуть качаясь, будто ветер путника колыхал, летящего в тумане над людским морем?
Я изо всех сил щурился, жмурился, приставлял ладонь, сложенную в трубочку, к ещё зрячему глазу. Напрасно. Я смутно различал фигуру, но даже не понимал, идёт она ко мне или от меня. Сердце перестукнуло и встало. В полнейшей пустоте я ощутил, что моё тело снова наполняется, обретает силу и радость страсти. Воли. Судьбы.
И я крикнул на всё небо, на весь Мiръ:
- Душа моя!
Она шла и шла. Даже не обернулась.
И вдруг остановилась.
Постояла немного. И стала поворачивать голову. Ко мне.
Мой сын крикнул:
- Не смотри!
Я смотрел не глазом. С такого расстояния и зрячий охотник, выстреливающий в красный глаз тетерева, ей в лицо не попадёт. Я смотрел сердцем.
У меня ещё оставалось сердце.
Во мне ещё билось сердце.
Кровавый мешок. Усталый насос. Дом Бога. Храм на Крови.
Меня ещё можно было убить, принести в жертву чему угодно, а потом скальпелем разъять грудную клетку, погрузить руки в чудовищную полость жизни, в её опасный механизм, где шестерёнки вращаются, сплетённые из перевитых сосудов, а рычаги поворачиваются со скрипом и хрустом суставов, а маховик работает при помощи вдоха-выдоха.
Но я совсем не ожидал вместо лица моей Души увидеть красное, страшное пятно. Кровавая грязь, слякоть расползлась, облепила то, что было когда-то её лицом: раздавленные кости, щёки всмятку, лоб и губы разбиты в лепёшку. Она не могла смотреть из-за сгустков крови, свисающих со лба, запекшихся на переносье, на бровях, склеивших ресницы. Такую красную маску увидишь, человек, и перестанешь верить в Бога.
Неужели не упокоилась ты, Душа моя? Я исправно читаю по тебе заупокойные молитвы. Я чту смерть твою и поминаю тебя, и сердце моё помогает мне, иначе я бы упал на землю, обнял бы её рыдающими руками и застыл в бессилии. Из какого ты Зазеркалья? Иди мимо. Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое!
Мне не надо было даже глядеть.
Она шла сюда.
Ко мне.
К народу моему.
Видела ли она народ наш, толпами идущий ко мне из всех градов и весей, с берегов далёких морей, с полей и луговин, с отчаянно-пылких и медленно-царственных рек, зеркалами блестевших на погибельном Солнце? Я не знал этого. В горле пересохло. Не надо ничего спрашивать. Живое само знает, сколько ему жить и когда надо уйти.
Она, страшная, в красной маске смерти, шла ко мне, а мой сын её глазами, цвета неба или моря в солнечный день, восхищённо глядел на неё.
Он не видел сгустков крови. Шрамов. Запекшихся струпьев. Рваных ран. Он видел только мать.
И, когда она подошла уже слишком близко, опасно, я подумал: мы обнимемся, несчастные, и в нас выстрелят, в нас обоих, и это будет смерть на Солнце, на Мiру, посреди приморской Литургии, посреди оглашенных песцов и оленей и верных птиц, гагар и чаек, зато хоть на миг соединятся во мне моё сердце, моя вера и моя Душа.
Она стояла, да, уже близко. Очень близко. Страшнее лица я не видел.
Будто его били, разбивали тяжкими кузнечными молотами в горячем цехе.
Ничего уже не поправить. Не починить.
Только стоять и смотреть.
И терять от полынных слёз последнее зрение.
- Погляди на неё. Подольше. Запомни её. Ты сможешь, сынок. Я не выдержу. Разум могу потерять.
- А ты веришь, что она настоящая, отец? И всё это правда? Ты же сам учил: жизнь пронизана зеркалами, виденьями, обманом и сном! И Божий сон надо уметь отличить от диавольского. Мы заглатываем наживку! Клюём на вкусную приманку!
Я не договаривал. Это могло быть видение Мiра Подземного.
Я пророчествами моими обнимал три Мiра, Верхний, Средний и Нижний, но я никогда не видел, чтобы живую Душу расстреливали, чтобы ей колёсами, гусеницами в лепёшку раздавливали лицо, чтобы поседелые её волосы наматывали на руку: за волосы волочь её туда, откуда возврата нет.
Я зажал себе рот рукой. Одним слезящимся глазом глядел на неё.
- Душа моя! Ты ведь умерла!
- Я бессмертна.
Как знаком её чуть хриплый, тихий голос, так часто заходившийся в мучительном, диком кашле! Влажный, нежный, глубокий, как колодец, в её голос нельзя было заглядывать, голова кружилась, и ты тонул во тьме, плеске и блеске далёкой небесной воды.
Я увидел, что она становится меньше ростом. Сжимается. Становится нежной, юной, тоненькой. Девочкой. Дитя моё! Становится тобой!
Тобой. Тобой. Тобой!
Ты слышишь? Понимаешь ли?
Да, да, киваешь ты, я всё, всё понимаю. Всё сущее. Да если на свете хоть один человек, что понимает всё сущее? Всю Вселенную? Я думал, такого человека нет. Я прооперировал тысячи людей, и во всех жила душа. Сердце билось. Сердце, оно бьётся внутри души. Это матрёшка. Улитка в ракушке. Сердце, оно глубже души, оно прочно и навеки спрятано в неё. Моя Душа всё уменьшалась, стала маленькой и худенькой, совсем девчонкой, и беленькие коски корзиночкой были заложены у неё на затылке, и вдруг лента развязалась, и коски вырвались двумя пружинами и ударили по плечам. Ты стояла передо мной, Душенька, инфанточка, принцессочка, княжна, царевнушка, и вместо красной дикой лепёшки у тебя опять было нежное, светлое, любящее лицо, и улыбка чайкой летела, и я тебя уже не видел, а только отражал, ибо я пресуществился в зеркало, в простое зеркало, оно висело на срубовой стене лазарета, там, в родной операционной, где столько тел разрезал я, а родной Души больше не нашёл.
О нет! Нашёл! Вот счастье. Дитя, это ты. Щёки разрумянились твои! Дослушаешь ли ты слепца! Я зрячий. Вижу я всё. Только никто об этом не знает.
Я, знаешь, как пьяный. Слушают моё бормотание и не понимают ничего. А тот, кто понимает, сразу замирает. Внимает.
Я Господа голос повторяю. Вонмем!
Так стояли на берегу, близ весеннего моря, тающих льдин. Ты и я. Девочка и старик. Душа моя и сердце, что спрятано внутри Души. Запомни меня! Прошу тебя! У детей память хорошая, цепкая. Не помни мои страдания! Помни, что я - всех - лечил! Во славу Божию!
Зачем же ты поворачиваешься? Идёшь прочь?
Ты уходишь от меня. Идёшь по берегу моря и уходишь! Да нет, всё сон, всё отражение моей боязни, страха в смертный миг остаться одному, без тебя. Не уходи! Нет. Идёшь. Не оборачиваешься. Маленькая, как белый песец. Течёшь, утекаешь по насту, по снегу сырому, по солёному льду. Уходишь вдаль! Закрываюсь от Солнца ладонью. Провожаю тебя единственным глазом. Уходишь. Я ещё вижу тебя. Твою спину. Твои маленькие ножки, худые, быстрые. Ты уходишь босиком по льду. Идёшь по воде. По солнечному, яркому водяному ковру. В затрапезке твоей лазаретной. В этом платье ты подметала палаты, выметала бумаги, грязные бинты и иной мусор. Сжигала его потом в печке. Не сожги память обо мне! Уходишь? Иди. Солнечный день какой! Я ослепну!
Босиком, напролом, наискосок. Я лежу в палате, а ты вышла из палаты, вышла из Зазеркалья. Идёшь. Не оглянешься. Я лежу. Мне уже не встать. Я тебя вижу: ты идёшь на восход Солнца, туда, где оно раскидывает по небу осьминожьи, травные, водорослевые, полынные лучи. Солнце всё обнимает. И меня. И тебя. Я остался внутри зеркала, а ты вышла и идёшь по весенней, настоящей земле. По широкому небесному морю. Я лежу на смертном одре, я не хочу прощаться с тобой, ведь мы встретимся, зеркала отразятся в иных зеркалах, и бесконечность раскинется, разымется и забьётся живой артерией под резиновой скользкой перчаткой.
Ну, иди, иди, погуляй. Отдохни. Подыши воздухом. Я тоже отдохну. Посплю. Клонит в сон. Не бойся, я не умру. У меня нет на то причин. Ни канцера. Ни чахотки. Ни перелома позвоночника. Ни красной волчанки. Ни сыпного тифа. Ни злокачественной опухоли мозга. Нет ничего, от чего умирают. Поэтому я спокоен. Исчезновение - не такое уж страшное дело. Гораздо страшнее видение. То, что видел я, не дай Господи увидать никому. И я это вынес, и я остался цел.
Спать! Деточка, я утомил тебя. Иди, иди по хрупкому, опасному льду в открытое море. Там гуляй на просторе. А я буду спать. Не бойся, ты ещё найдёшь меня живым.
Я уснул, и снился мне сон.
Страшный сон. Космос раскрывался раковиной, внутри неё шевелились звёздные змеи. Я стоял на земле, а ночь плясала вокруг меня.
Люди-пауки, люди-черви, люди-стрекозы, люди-жуки ползли, летали, жужжали вокруг меня. Свивали хороводное кольцо.
Таких существ изобрели люди, на горе себе; человек-червяк ползёт, глядит бешеными глазами, думали, он будет собою вскапывать плодородную землю, а он заползает в постель ребёнка, обвивается вокруг его горла и душит его.
Скрестили человека и гада, и я видел подобных чудовищ в моём сне. Я не мог вынырнуть из сна, и гады торжествовали. Человек-крокодил шёл ко мне, переваливаясь на коротких уродливых лапах. Он разевал длинную зубастую пасть и глядел хитрыми глазами: эти зрачки читали буквы и слова, эти уши, зелёные пельмени, различали человеческую речь. Человек-скорпион воздевал чёрный блестящий хвост, похожий на разорванное железное кольцо. Ядовитая игла на конце хвоста тихо дрожала. Искала жертву. Скорпион, ты же всё понимаешь! Тебе не жить. Чёрные губы растягиваются в ухмылке: ещё как жить! Это вас всех не будет на земле, а я буду!
Человек-змей слишком гибок. Он сбрасывает узорчатую кожу. Он извивается, лебезит, изгибается вкрадчиво, подобострастно. Он весь исходит патокой и превращается в сгусток лести. Он лицемерит, чтобы через мгновенье вонзить зубы в чужую плоть, нет, в чужую душу и излить в неё смерть. Убить ведь так просто! И какое же это удовольствие! Возненавидеть. Отомстить. Втоптать в грязь.
Я глядел на человека-змея во сне, и я не верил, что всё так и будет.
Хирург будущего! Что ты будешь делать с живою кровью? Как станешь сочетать несочетаемое? И, главное, зачем?
Зачем ты пойдёшь против Бога? Зачатие - Божие дело. Зачем ты изучишь, украдёшь, повторишь его?
Человек это человек. Зверь это зверь. Змея это змея. Зачем ты будешь соединять их в преступной пробирке твоей?
Хирург неведомых времён! Ты знаешь: человек смертен. Не все операции спасают. Не все лекарства оживляют. Но зачем, зачем ты упорно, зло, страстно, обречённо всё ищешь и ищешь для человека бессмертия?
Бессмертие. Какое оно? Ты, врач грядущего, о, ты догадался. Ты решил восстановить человека из клетки его. Даже из мёртвой ткани, срезанной с останков, истлевающих во гробе.
Вот мельчайшая частица человека, и вот одна его копия, другая, третья, десятая, сотая, тысячная. Армия людей, как две капли воды похожих друг на друга. Кто они такие? Кто, врач, ответь!
Кто они такие друг другу?
А кто они такие Времени?
Да Время просто смеётся над ними.
Для Времени их нет.
Я спал тяжело и беспокойно, мне снились кошмары, я бродил по лабиринтам довременной тьмы, я проклинал себя, я вцеплялся зубами себе в кулак, чтобы не закричать, я терял последнюю надежду - там, далеко, увидеть человека; но я видел там чудовище.
Я проснулся. Никого не было со мною рядом в палате, и тебя, дитя, тоже не было. Молочный рассвет лился в окна. Я перепутал времена. Пасха Господня уже отзвучала или ещё только летела к нам по синему небу?
Чтобы себя успокоить и развлечь, одинокого, на моей пустынной койке, гремящей панцирной сетке, я стал петь себе псалмы. Псалом изумительная вещь, детонька моя. Как он рождается? Никто не знает. Его не было, и вот он есть. Всё живёт во Времени. Без Времени ничего не кровит ранами-письменами и ничего не растёт - ни на земле, ни внутри тела человека, ни внутри его души. Вот пою, пою, а записать некому. Ах, врач несчастный! Бросил бы врачевание, ходил бы по дорогам, собирал бы в котомку Души Живыя и пел, пел. Вот твое занятие! Ты, оказывается, уличный певец! А ты думал, ты хирург! А ещё ты думал, ты иерей! Ох, ох. Монахи вон и в кельях поют. Тропари, кондаки, ирмосы и стихиры, иногда духовные песни.
Я пел так: вижу, пока не сомкнулись мои очи, большой огонь будет падать с неба на землю три дня и три ночи. Высоко воздымется нос корабля, накатит волна, и задрожит земля!
Клятвы ничего не стоят: стоят лишь поцелуи, что мы друг другу даём, любя, желая, плача, тоскуя. Дни превратятся в недели, потом в месяцы, потом в года и столетья, а нас, родная, не будет, тогда уже не будет на свете.
Пройдёт двадцать лет, а может, двадцать веков, пройдёт двадцать тысяч лет, разобьётся чугун оков, а власть останется та же, всё те же будут мелькать во тьме белые лица, и мне моё пророчество то ли свершится, то ли приснится.
Ах, сны, мои зеркальные сны! Придут люди с Востока, они поют песни Луны. Они населят преисподнюю и небосклон, они покорят Африку, Алтай и Аквилон.
Мы когда-то жили, Душа моя, под водой. Я был Красная Рыба, золотой был и молодой. Я царил, могучий, на всём синем просторе, когда последнее горе бурею поднялось на суше и на море.
Планеты катят по роковым орбитам. Юпитер, Сатурн, Уран, вы нами забыты. Летит прочь от Солнца, одинокая, планета одна. На долгие века вернутся к нам страшные времена!
Всё такие же убийства царей в тронных залах. Всё такие же яд, петля и нож, а вам мучений мало? Всё такие же материки - морями глядят, как иконы. Я вижу смех земли с марсианского небосклона.
Я вижу, Господи, страдания большого народа. Я вижу: нет закона, нет красоты, нет свободы. Нет сегодня, нет завтра и нет вчера, зато нашли богатые залежи нефти, злата и серебра.
Я вижу, Господи, бунт поднимают! Я вижу: посреди площади стоит женщина немая, и объясняется жестами, а на нее с небес синий снег валит и валит, а все мимо идут, а она плачет, ещё не мёртвая, ещё живая.
Жизнь моя, жизнь моя! Какая крошечная, мне непонятно! Жизнь, на Марсе каналы, на Луне коревые пятна! Жизнь моя, земля, море, тюрьма, ветер и небо, и острый скальпель в руке, и в кружке чифир, и кус ржаного, с опилками, хлеба...
Жизнь моя, жизнь моя! Я знаю, что я изменюсь, преображусь, ну и пусть. Жизнь моя, я к печали больше сердцем не прикоснусь. Ангел на небесах, как белую лошадь, под уздцы ведёт Луну. Боже мой, я же перед смертью глаз не сомкну.
Я буду всё глядеть и глядеть в небо, разбивать сердцем рёбер клеть, я буду, Душа моя, в тебя до дна слепыми глазами глядеть. Я буду целовать тебя, Душа моя, войной и болью окровавленным ртом, и мы с тобой, обнимаясь, никогда не узнаем, что же, что же там будет потом.
Умасти меня молоком и мёдом! Принеси мне благую весть! Дай мне до полночи, до восхода твою упованную Псалтырь прочесть! И упаду, бездыханный, от счастия пьяный, лицом на страницы жёлтые, все в узорах жучка: этот одр деревянный, этот вор окаянный без лица, без слезы, без пола и потолка.
Это праздник, Душа моя! Вечная Пасха! Я отчаянием рисую радость мою! Я всё вижу: нежно и ясно, я у моря стою на краю. Тихо, тихо. Никого нет убитых. Никого казнённых, сожжённых нет. Только Душа моя в моё сердце влита. Только в глазах моих слепых звёздный Господень свет.
Вот лежу я тут, лежу. Так же человек будет лежать во гробе. Лодкою плыть. Я лодка, милая, я просто лодка из плоти и крови. Сколько людей переплыли во мне с того света обратно на этот свет! Бессчётно.
Стук двери! Нет. Это не ты. Это старая нянечка входит со шваброй, мыть полы в палате. Охает, ахает. У старого человека особое дыхание.
- Ить, милай, дохтур. Неможецца тибе? Пуссяй с тобою слуцицца цюдо.
- Чудо? Да, чудо. Чудо, нянечка, это редкая птица.
- А ты молися, молися.
Я длинная лодка-долблёнка, сосновая, вёрткая, через пороги пройду.
Я зеркало. Я сам удивляюсь, да я уже привык. Отражаю, во мне ходят тенями отражения, серебро вспыхивает, тьма его слизывает, поглощает. Внутри меня, зеркала, живут материки, они движутся. Я отражаю людей, я чую их кривизну. Их прямоту.
Мне немного осталось. Спешу вышептать, выбормотать. Я вода, всего лишь текучая вода. Сквозь меня можно глядеть, и на дне моём увидишь гладкие цветные камни, гранит, гальку, кабошоны сердоликов, куриный бог с дыркой, в неё можно свистеть, или камень тот на бечёвке носить на шее. Нет. На шее надо носить крест Господень.
Врач Николай! Я тебя окрестил. Чудо должно случиться!
Чувствую. Чудо люди чувствуют. Я врач, я батюшка, у меня, как у охотника собачье чутьё на уток, чутьё на чудо.
О, ты уже не врач, и ты уже не батюшка, ты просто слепой умирающий старик на железной койке в лазарете для бедных узников, и тебе даже не подадут пить: тут мало персонала, старая нянечка, два молчаливых мужика, они приносят сюда корзины с едой, да ещё ты. Ты.
Девочка моя. Незабвенное дитя моё.
Если меня спросит Господь: что ты более всего любил в жизни?.. - отвечу ему: когда жажда, пить воду из кружки, поднесённой любимыми руками. Так ты, деточка, подносила мне воду после операции, чтобы жажду я, усталый, утолил. Так подносила к пересохшим, бредовым губам моим холодную колодезную воду в кружке, когда я тифом захворал, несчастная Душа моя.
Я сам вода, меня давали пить больным, мною обмывали новорождённых младенцев и моего родного младенца тоже. Мною заваривали крепкий чай, такой крепкий, что можно было опьянеть и сердце довести до приступа тахикардии, а то и ритм сердечный сбить, заработать экстрасистолу. Я лился, ласкал, рассыпался в брызги, ластился морем, его солёным, ледяным призраком, мощью его торосов к снежным грудям берегов.
Я музыка. Я песня. Я молитва. Я звучу. Неужели, когда я умру, я не буду звучать?
Я зренье, и я слепота. Они примирились во мне. Я их путаю. Они обе спят глубоко во мне, их уже не разбудишь, не вытащишь наружу.
Я не вижу, это печаль моя. Я вижу иным зреньем. Я слеп, и это благо моё. Когда ты слепой, зрение начинает жить в тебе особой жизнью. Ты прозреваешь. Этой судьбы ты у Бога не просил.
Любая судьба, где тебя ждёт слепота, тяжела и прискорбна. Сам себе я не смогу сделать операцию. В город меня никто не повезёт: слишком город далеко, а ведь мы на Острове, и тут только развалины Распятского храма да наш лазарет - каменные здания, остальное всё дощатые бараки да сараи, что дышат на ладан.
А я превратил боль во благо.
Да, слеп! Зато я больше никогда не увижу уродцев, не увижу злого блеска у людей в глазах. Не увижу скалящихся ртов. Не увижу перекошенных от ненависти лиц.
Зато я увижу наш Мiръ внутри себя - тот Мiръ, что ещё придёт.
Куда же ты пропала, девочка моя?
Я Время. Я просто Время. Не оставляй меня.
Тебе ещё во мне жить.
Знаешь, девонька, когда живёшь среди многих людей, всего навидаешься. Гораздо торжественнее, гораздо спокойнее жить в затворе: твое зренье и слух направлены внутрь тебя, ты там, внутри себя, слышишь голоса, шумы, музыку, ты видишь Мiры, а тот Мiръ, в коем живёшь, забываешь. Я ничего не забыл. Ни мелкого, ни пошлого, ни подлого, ни чудесного. Такова странная память моя: она всё вбирает, всё приемлет, на всё надеется, всё терпит. Терпи! Терпеть - великий удел. Я тысячи операций сделал, и люди иной раз без анестезии лежали, терпели. Заканчивается новокаин. Заканчивается эфир. Остаётся одна великая боль.
Лежит человек под моим ножом, и в его глазах, на меня глядящих, остаётся одна великая боль.
Любовь. Да. Любовь.
Над любовью теперь смеются. И над теми, кто её исповедует.
Сердце теперь не нужно: важно думать, а не чувствовать.
Чувство, дитя моё, это не центральная нервная система, это не рецепторы под кожей и не вздрагивающие в мозгу нейроны. Чувство это сердце. Иное сердце, не то, кровавый кисет под рёбрами. Я разрезал грудную клетку, сначала прямо по ходу грудины, потом вкось по ходу ребра, из этого разреза добывал сердце и в руках сжимал его, гладил, тискал, делая сердца прямой массаж. Когда я это делал, я думал: где ты, где ты, любовь?
Помню, однажды заключённые цыгане на площади перед бараками вдруг начали петь и плясать. Узники столпились, подбадривали плясунов, хлопали в ладоши. Стояла весна, вот как сейчас. Нежный свет заливал снега. Цыгане босыми ногами шлёпали по площади, ударяли пятками в лужи и разбрызгивали грязную воду, все перепачкались, но так веселились! Это было веселье отчаяния. Радость и отчаянье одновременно. Я это понимал. И все это понимали. Гомонили, кричали, цыганам подпевали. Разбойники тут тоже стояли и хлопали в ладоши, в нашей толпе, рты в улыбке растягивали до ушей. Человеку нужна радость, как хлеб. А цыгане? Их сюда гуртом гнали, как скот. Поселили в отдельном бараке, он зовётся цыганским. Говоришь, ты их видела? Поют ли они до сих пор? Или умолкли?
И вот пляшут они, пляшут, и один цыган вдруг согнулся, наклонился и схватил что-то с земли. Держал в грязной руке. Окурок! Сокровище для курильщика. В бараках курильщики, мучась, курили всё что угодно: травы, сено, жмых, остатки, в кисетах у солдат, военной махры. И вот цыган, рассмотрев на ладони окурок, уцепил его двумя пальцами и высоко поднял: вот, мол, чудо! кому надо! а может, сыграем на него, на окурочек! Вкуснятина ведь! Кто веселее спляшет цыганочку - того и курево!
Я в той толпе стоял. И вот выходит вперёд врач Николай. Он в той толпе зрителей тоже пребывал. Плясать будет? Доктор лазаретный? За окурок? Я готов был поручиться: нет, никогда! А поди ж ты. Жизнь велика и странна. В ней происходит то, о чём ты и не мог помыслить. Николай меня не видел. А если видел, то в мою сторону не поглядел. Вышел в центр площади. Скинул сапоги. Босые его ноги осязали первую весеннюю грязь.
И начал он плясать.
Плясал так, что сердце моё захолонуло. Я вспомнил деревню нашу, и отца, и братьев моих, и цыган, что по деревне шатались, и цыганки плясали и гадали, и бабы гнали их со двора, взмахивая полотенцами, а цыганки пронзительно кричали: давай, золотая, я хоть курам твоим погадаю! А мальчишки плясали вместе с цыганами, когда они веселье своё затевали.
Вот так же плясал сейчас Николай. Эх!.. пошёл-распошёл... эй-нэ-нэй, не с того боку зашёл... Гей, ромалы, жги-жги-говори!.. Цыгане пели громко, хрипло, пеньё переходило в отчаянный, надсадный ор, а Николай плясал, всё плясал, всё быстрее и злее, всё чаще по грязи перебирал босыми ногами, портки его изгваздались в грязи, брызги грязи покрывали его весёлое оскаленное бритое лицо, а наглая пляска шла и шла, летела, обнимала бедный свет, Николай закладывал руки за голову и шёл гоголем, сгибал ноги в коленях и резко хлопал себя по ляжкам, вертелся волчком, дергал плечами под старой брезентовой курткой, и все мы дивились той пляске, а пуще всего цыгане, переглядывались, кричали: наш, наш!.. - и сами хлопали в ладоши, воздух раскалялся, и я в ладоши хлопал, и я скалился и хохотал, и это праздник пляски, в грязи, под ярким бешенством Солнца, я никогда не забуду.
Врач остановился. Пот тёк с него в три ручья. Вожак, по виду цыганский барон, в синей щетине, с серьгою в мочке смуглого уха, подошёл вразвалку к Николаю, неся впереди себя толстое пузо, и протянул ему на ладони окурок. Николай, с мокрым лицом, глядел и не понимал. Он уже забыл, зачем та пляска была.
Да! Вспомнил. Окурок из руки вожака взял. Кто-то заботливый уже огонь поднёс. Николай стоял посреди площади и курил. Жадно курил. А мы все молча смотрели. Узники. Цыгане. Я, барачный хирург.
Зачем я тебе эту байку рассказал, про окурок? Чтобы ты лучше, сильнее поняла, что такое чувство. Пляска та вихрем всех людей захлестнула. И на миг сделала всех нас - свободными. Свобода, это же как вино! То Райское вино. Девчонка, пастушка, его не допила. А я допил. А Николай тот окурочек плясовой - докурил. До полоски бумаги. До последнего вдоха. До конца.
Вот и я, дитя, жизнь докурю до конца. Я не курильщик. Я просто так сказал. Не плачь.
Утрись углом простыни. Поплакать иногда надо, знаешь. Николай вон говорит: а то пересохнут слёзные канальцы.
Я из всего пережитого сделал лишь один вывод: люби, даже если не любят. Прощай, когда бьют! На войне убивают врага. Убив, молятся за душу его. Чтобы там, на том свете, он, скитаясь по мытарствам, успел попросить прощения за содеянное и покаяться. И я, воин, чтобы у Бога попросил прощения за содеянное и покаялся. Бог для того и создал Мiръ, чтобы мы эту истину поняли, затвердили. Покаяние - для всех. Не мни себя лучезарным праведником. У любого праведника есть тёмные родимые пятна и криво заросшие рубцы. И любой грешник может стать святым. Таков закон единства Духа.
Дух гуляет по материи, гуляет по сырому песку, собирает на берегу цветную гальку, рыболовецкие блёсны и окурки, пляшет на людной площади. Дух, душа и сердце едины.
А плоть? И плоть с ними.
Только человек выше плоти. Он чайкой парит над плотью.
Любовь есть всепрощение. Нынче я прощаю всех, кто меня замучил.
И легко мне. И светло мне.
А ты знаешь, я давно не видел врача Николая, крестника моего. А ты? Ты видела? Что, что? Повтори, я не расслышал. Ах, на войну уехал? Говоришь, он ко мне заходил, а я спал? И он пожалел меня и не разбудил меня? Ах, жаль, жаль. Я бы напутствовал его. Благословил, обнял бы. К сердцу прижал. Детонька, дай руку. Положи сюда, на сердце. Слышишь, как бьётся? Ещё бьётся. Я ещё поживу на свете, да, да. Я вижу белые коски твои сердцем моим. Какая красивая ты! Что смеёшься? Я правду говорю.
НИКОЛАЙ
Меня послали на войну. Я воспринял это как счастье.
Всё под приказом. Все под приказом. Приказали - сделал. Мною распоряжались и раньше. И я исполнял чужую волю. Меня уже давно не удивляют приказы. Жить внутри приказа естественно: другого пути у тебя нет, если ты живешь в обществе. Если ты уходишь жить в пещеру - тогда другое дело. Ты ни с кем не связан. И с тобой - никто. Блаженство? Сомнительно. Человек без другого человека - дикий зверь в лесу. Человеку нужен человек.
Я собирал пожитки в вещмешок, и вдруг засунул руку за пазуху и нащупал мой нательный крест.
Врач Алексей, что же, благодарен я тебе. Да и себе немного. Себе - что отважился. Тебе - что не отказал. Какой священник откажет мирянину в крещении? Да никакой.
Раннее, светлое утро. Все хорошие верные дела совершаются утром. А все тяжёлые, печальные - ночью. Человек умирает ночью. Да и рождается - ночью. Ночью рожала Душенька. Стоп. Не вспоминать.
Я надел сапоги, шинель, взбросил на плечи вещмешок. Дора стояла у причала, я знал. Спуститься до пристани от бараков - раз плюнуть. Пять минут.
Надо зайти к Алексею. Попрощаться.
Он в лазарете. В палате. Совсем слепой.
Я учусь молиться. И каяться. Мне было очень трудно встать на колени. Но я встал. Перед иконой, в нашей с покойной Душенькой комнате висят иконы, она сама повесила. Я встал на колени перед иконой Богородицы, не знаю, как называется, у Богородицы много имён, я знаю, и попросил прощения за то, что ослепил батюшку. Мы с ним дрались два раза. А третьего-то не дано. Батюшка сказал: третье сражение произойдёт на небесах, и не наше друг с другом, а Сил бесплотных, под предводительством ангела, или архангела, имя забыл, простое такое имя, битва, короче, с чёртом. Чёрт, Бог! Запутаешься. Но я учусь различать. Мне, главное, во всех этих божественных штудиях про врачевание не забывать. Алексей сказал: чем больше веруешь, тем вернее оперируешь.
Я много о чём хотел бы расспросить Алексея, но посторонних вопросов я ему не задавал.
Мне бы с самим собой разобраться.
А потом следующий шаг.
В коридоре лазарета стоял плотный запах вчерашних кислых щей. Я прошёл сквозь щи и толкнул дверь в палату. Все койки заняты. Коек не хватает. Люди лежат на раскладушках, сундуках, даже в лодках: с берега лодки рыбаки приволокли, на этаж заволокли и по углам палат рассовали. И больных в лодки кладём. Смех один. А вот нашли же выход. И тряпки необходимые отыскали, подстилать и укрываться. Человек букашка приспособляемая, всюду нужное найдёт.
В ближайшей к двери лодке проснулся мужик, сонно, бессмысленно поглядел на меня. Растревожил я его. Ничего, мужик, лежать не работать, выспишься.
Я подошёл к койке Алексея. Он спал. Сном праведника. Или младенца.
Спал и спал.
За моей спиной, я чуял, мотается на срубовой стене зеркало. Кривится, мигает, косо падает. Что за чушь! Нет, не оборачивайся, сказал я себе, не оглядывайся назад.
Было тут зеркало вчера? Не было? Никто не знает. А знает, не скажет.
А я на ту стену даже не посмотрю.
Я стоял перед койкой и смотрел на спящего Алексея. Он дышал беззвучно и ровно, ни сипов, ни хрипов. Так тихо, неподвижно лежал.
Как мёртвый, подумал я, и больше не стал об этом думать.
Так он сладко спал. Крепко. Я не смог его разбудить.
Не захотел.
Постоял-постоял ещё пару минут. Поклонился низко, до земли, рукой половиц коснувшись. Охватил глазами его спокойное лицо, запоминая. Повернулся и пошёл к двери. У двери остановился и тихо, не оборачиваясь, сказал:
- Спи. Я ещё вернусь.
И я вернулся.
Но сначала была война. И новая она как старая. Она всё такая же. Падают и умирают люди под потоками огня, под волной снарядов. Пчёлы пуль кусают тела, и человек, если не вытащить из него железную пчелу, умирает, затрачивая на этот процесс минуты, часы, дни, недели, неважно, здесь мы играем в игру кто скорее: хирург или смерть.
Война была всё такая же тёмная, чёрная, с огнями трассирующих пуль, с хищными бомбами и волчьими самолётами. Бойцы наставляли стволы зениток в небо. Истребители летели то низко, у самой земли, то резко и страшно взмывали в небо, растворялись в нём, и я терял их из виду. Прифронтовой лазарет был набит ранеными, они лежали в коридорах на расстеленных шинелях. Лазаретной площади не хватало. Главный врач лазарета приказал немного прибраться в разбомблённой церкви, тут, рядом с передовой, и размещать раненых там. Так сделали. На обход я, после лазарета, являлся в храм. Приседал перед раненым, ощупывал его, прооперированного, оглядывал. Кому как везло. Кто шёл на поправку почти сразу после операции, у кого развивалось воспаление. Объяснимо. Цветущая антисанитария. Я просил санитарочек стирать белье в мутной речонке хоть золой, хоть щёлочью, хоть цветком мыльницей, но стирать, ополаскивать и отжимать. Иначе, я кричал, сдохнем во вшах!
Бои шли тяжёлые. Я бы даже сказал, тяжеленные. То ли я от войны отвык, то она, матушка, перешла в страшную фазу. Перевязочная наша дымилась. Я тоже на перевязках, но, если нужен как хирург - всё бросаю и бегу к столу.
- Наркоз! У нас есть ещё наркоз?!
Чёрт, путаю ведь всегда, как этих операционных сестёр зовут. Галя, Глаша, Зина, Нина.
- Так точно, товарищ военврач!
- Эфир?!
- Хлороформ, товарищ военврач!
- Так, ну...
Огнестрельное. Бедро и плечо. Артерия перебита. Плюс перелом. Большая потеря крови.
- Переливание, сёстры! У кого группа крови первая?! Да ведь, чую, почти у всех?! Популярная кровушка... У тебя? У тебя?!
Они, все три девчонки, согласно и испуганно кивали.
- Отлично! Готовим трансфузию!
- Ой, тащ военврач... нет, нет...
- Кто сказал нет-нет?!
Я орал как в лесу.
Белокурая сестра, худенькая, плоскогрудая как щепка, в ужасе мотала головой.
- Пока готовимся, конечность омертвеет... и начнётся гангрена... Сами знаете... Я...
- Что ты предлагаешь?!
- Ампутацию!
- Шутишь?! Рука правая!
- Если гангрена... ну вы сами знаете...
Я, к сожалению, всё сам знал. Лучше, чем эта козявка.
- Готовим ампутацию! Скальпели. Корнцанг. Пинцеты. Ножницы. Не швейные, чёрт бы вас, ножницы Купера! В том шкафу. Ампутационный нож! Распатор! Ретрактор! Нет ретрактора?! У него что, ножки выросли, он сам убежал?! Ага! Нашли! Пилу! Лезвие! Рашпиль! Кусачки!
- Кусачки... не вижу...
- Да вы ослепли! Вот!
- Спасибо... простите...
- Биксы с бинтами и марлей! Вату! Бельё!
- Белья давно нет, тащ военврач... Вата - ещё есть...
- Проклятье!
Раненый подал слабый, как из подземелья, голос.
- Доктор!.. а что вы, это... ну... руку мне?..
- Да! Отниму! Или помрёшь. Ни за понюх табаку.
Белело лицо раненого под густой многодневной щетиной.
- Правую-то... Да я ж теперь... да я же...
- Баба есть у тебя?!
- Есть...
- Не пропадёте.
- Так стыдно же... она меня кормить будет...
- Ещё неизвестно, кто кого... кормить... Глянь, боец, рука-то твоя скапустилась. Посинела. Как зимородок. Не могу тебя такого эвакуировать. Сепсис в пути явно начнётся. И поминай тебя как звали.
Солдат глядит на меня полными слёз глазами, и мне как по воздуху, как воздушно-капельная инфекция, передаются его слёзы.
- Так нельзя сохранить?
- Нельзя, дружище.
- Ну... давай... кромсай... перебьюсь как-нито...
Жгут. Нож. Разрез до кости. Раненый дикими, круглыми глазами смотрит на нож.
- Доктор... эй... погоди, повремени... уже больно страшон...
- Не страшнее жабы или змеи, боец.
Эфирная маска на его перекошенном от страха лице. Сёстры льют эфир. Я стою и жду.
Ну, всё, уснул. Если проснётся - заорёт на весь лазарет, напугает всех.
Нет. Спит.
Вот теперь работай, верный скальпель.
Сестра, белее снега, ухватила щипцами кость, я пилю. Я дровосек. Я ещё могу на это всё смотреть и во всём этом ковыряться, скажите спасибо.
Вижу, сестра вот-вот в обморок около стола грянется. Этого допустить нельзя.
Сосуды перевязать. Нерв усечь. Всё как по-писаному. С моих действий хоть учебник пиши. Алексей был написал. Чёрт, у него же есть рукопись, в сундуке хранится, в бараке, он же мне сам сказал. Называется, вот чёрт, забыл. А, вспомнил. "Операционная техника военного хирурга". Если он умрёт, надо найти и сберечь. А потом издать. Чтобы люди читали, врачи. А то узники сожгут в печи, примут за растопку.
- Сестра, сестра! Жгут ослабляем! Так!
Второй сестре кричу:
- Зина! Дай ей нюхнуть нашатырь!
- Я не Зина, я Нина.
- Да чёрт с тобой, Нина!
Спохватываюсь. Я, крещёный, чертыхаюсь на каждом шагу. Непорядок. Кощунство. Я не хочу быть кощунником.
И впервые в жизни, да, вот так она, чёртова жизнь, сложилась, шепчу себе под нос, пока сестра протягивает мне зажимы, и я зажимаю мелкие сосуды, а кровь из артерий всё бьёт вверх, вот они, маленькие красные фонтаны жизни, ещё зажим, ещё один, зажмём всё, что кровит, тогда можно бойца и в дорогу, а в это время шепчу, шепчу, я и слов-то таких никогда не знал, а вот поди ж ты, говорю их теперь, будто знал всегда:
- Господи, помилуй, Господи, прости, Господи, прости и помилуй меня грешного.
Когда перевязываешь прооперированного человека, будто бы готовишь его к торжеству. К свадьбе. Вот тебе белый марлевый праздничный костюм. Да ведь младенца тоже обворачивают белым. Пелёнки. А мертвеца? Саван же тоже белый. Везде вокруг нас зима. Вечная зима. Не выбраться из снегов. Но снега это жизнь, и только вечные снега это смерть.
Наложил повязку. Устал как конь на пашне. Сёстры втроём переносят, кряхтя, спящего бойца на койку и облачают в его потную, просолённую, окровавленную гимнастёрку.
- Засучи ему рукав! Чтобы видать повязку! А вдруг закровит! Всех прооперированных собирайте в палату около кухни! Я ещё раз всех осмотрю. Главное, не пропустить гангрену!
- А кого-то мы тут оставляем? Или всех отправляем в город?
- Ну как вы считаете! У нас здесь лазарет! Первая помощь! А их в городе по госпиталям рассуют!
Ночь. Подводы стоят во дворе лазарета. Я курю. Наконец-то. Курить, это всё равно что на свадьбе пировать. Когда у меня будет свадьба? И с кем? Я после Душеньки не хочу ни на ком жениться. Была жена. Был сын. Где они теперь? Где буду я, когда меня не станет?
Всех наших раненых увезут. Куда? Где они будут, когда война окончится? Да ведь она не кончится никогда. Это всем ясно. Она может только утихнуть, а потом опять вспыхнет.
Выкурить эту папиросу, распоследнюю. Пачка, она не безразмерная. Я хочу вернуться на Острова. Туда, в мои бараки. Там слепой Алексей лежит в голой палате и смотрит внутрь себя. Больные говорят о том, о сём вокруг него, а он лежит и молчит. Иногда к нему приходит девочка-санитарка. Белокосенькая такая. Не заключённая, нет; наверное, чья-то дочь. Кого-то из офицеров, из начальства. А может, ссыльная, да взяли в лазарет санитаркой, пожалели. У людей много чего строится на жалости. Любовь могут забыть, а вот жалость навалится и прошибёт. Насквозь. Девочка приходит к Алексею, садится на край койки, он говорит тихо, невнятно, еле слышно, а она слушает. Слушает этот дрожащий воздух, почти тишину.
В тишине звучит дальняя речь. Так говорит душа. Сердце так бормочет.
Докурил беломорину. Кинул бумажную измятую соску на землю. Как я сегодня устал. Не мышцы даже - кости болят. Боже! Помоги мне.
Я пошёл к начальнику лазарета. Надо было что-то важное сказать, весомое. Чтобы туда, на севера, хотя бы на время отпустили.
- Товарищ начальник, хочу отпроситься, мне к родне съездить надо. Бои в нашем квадрате утихли, сами видите.
- К какой такой ещё родне?
- На Север, в Кемь. Потом на Острова.
- На Острова? Эк вашу родню куда занесло. Мать-отец там, что ли?
- Да. Отец.
- Ну... что же. Оформлю вам отпуск в виде длительной увольнительной. Попробуйте только не вернуться.
- Я вернусь.
- Слово держите. Это война.
Бумагу заимел, вышел. Пошёл по жизни. Машина. Город. Вокзал. Поезд. Дорога. Тряско. Страшно, когда бомбят. Война, да, ты бесконечна. Тишина очень маленькая. Она живёт у тебя в кулаке, война, а ты всё крепче, сильнее сжимаешь безжалостный кулак.
Ехал и спал. Ехал и всё забыл. Ехал и приехал. По земле пылающим платком, вышитым золотыми цветами и малахитовыми травами, раскинулось лето. Тундра ликовала. Странной, немыслимой казалась война отсюда. Я переправился на старой скрипучей доре на Остров и шёл по травам, и мне казалось, я шёл по Райской мураве. О траве, цветах и яблоках в Райском Саду рассказывал мне Алексей. Он видел Рай, а я ещё нет. Он слабо улыбался: ты веруй, и однажды увидишь.
Не видел, не видел, а вот нынче увидел! Настоящий Рай. Высокое бледное небо, и льёт чистый золотой свет, светом нежно землю целует. Море затянуто серой шёлковой рябью, тихо плещется, прозрачное, цвета слезы, земля им, морем, тихо плачет и смеётся. Цветами усыпана вся тундра, россыпи самоцветов, скань на окладе травной иконы, вся земля чудотворными очами глядит из цветочной вышивки, смешались перлы, изумруды, эти, синие, как их, сапфиры, да названий самоцветов я не знаю, я обнаружил, я много чего не знаю в том тайном участке жизни, что ведает настоящей красотой, нежностью и любовью. А вот Душенька ведала. Да Душенька сама была отсюда родом! Из Рая! Да она здесь и осталась; никто её из чудесного Рая не изгонял. Она тут, она его навечная Душа. Везде она. Ступлю шаг - ландыши возле сапога: она. Ступлю другой - глядят на меня из-под куста огромные стрекозиные оранжевые глаза морошки: она! Ягодой меня угощает! Ступлю третий - выпорхнет из-под ног пятнистая тяжёлая куропатка, взовьётся в синеву, то ли собакой лает, то ли девчонкой хохочет! И я поднимаю глаза в синеву, и меня обдают кипятком радости синие радужки: она! Глядит на меня! Так иду, и Рай двигается, шевелится, вспыхивает, бьёт прибоем, идёт вдаль и вперёд вместе со мной.
И опять же, первый раз в жизни шёл и молился. Своими словами. Ну да ладно. Пускай. Чьими угодно. Мне это всё в новинку, но вот тянет! Ощущение, как у алкоголика: тяга. Нет, это я грубо сказал. Больше похоже всё-таки на любовь.
Люблю, и тянусь, и иду, и стремлюсь, и опять люблю. Вот так бывает.
Шёл-шёл, и упал в траву. На спину. Руки раскинул. И так лежал. И в небо глядел.
А в небе медленно, торжественно плыли громадные, величиною с целую жизнь, облака.
И я лежал. И облака плыли.
И что мне было делать, как не шептать первую мою молитву, не улыбаться, не плакать?
- Многих я разрезал и сшил... а многие умерли, не спас. Господи! Помоги мне! Работать, жить! Дышать! До последнего дня. Всю кровь мою людям отдам. Это значит Тебе. Ты же ведь и есть все люди. И всё умение моё. И всю мысль мою. Острую, как скальпель. Не постыжусь перед Тобой. Всё как можно лучше буду делать. А война, что война. Она идёт и пройдёт, Господи. И пусть начнётся потом, опять. Выживем! Солдат наших вылечим. Врага одолеем. И смерть одолеем. Она первый враг. А если не враг? А если смерть не враг, Господи, тогда...
Я обрывал шёпот. Вдыхал всей грудью цветочный, ягодный дух тундры. Земля источала жар и холод. Изнутри земли медленно поднимались робкие ростки, я слышал, как растут цветы и травы. Облака падали на меня с небес мощными снеговыми горами, и я закрыл глаза. Губы продолжали шептать, а что, я уже не помнил.
Я боялся, когда шёл в лазарет. В ту палату. Мне сказали: батюшка ослеп полностью. Дохтур слепенькай напроць, и силусек лисаецца, хоросо, Николаюска Петровиц, прибымси, зывова застали дак.
Да. Боялся я этой палаты. Боялся Алексея. Боялся слепых. Боялся прошлого. Призрака Душеньки боялся. Того, другого, третьего боялся. Чёрт, я так-то ничего не боялся, я пуганый, стреляный воробей, это не страх, что-то другое. Не могу назвать. Порог переступил. Боялся зеркала. Ну да, зеркала. Это странно, не могу объяснить. Двойника. Мне казалось, Алексей мой двойник. И что он меня всё это время, все эти годы, после того, как я стрелял в него, а угодил в подушку, там, у врага в логове, на войне, да, всё это время он меня незримо сопровождал. Маячил у меня за спиной. Иногда я ловил себя на том, что вполголоса разговаривал с ним. Когда приходилось оперировать сложного больного. Или когда тяжко на душе было. Так тяжело, хоть волком вой. Я не выл, а с ним разговаривал. Не сознавал этого сначала. Когда понимал, что происходит, замолкал. Себя костерил. Смеялся над собой. Но это повторялось. Зря? Не зря? Зачем?
Вот приехал я сюда. Приехал. Сто земель преодолел. То ли на побывку, то ли с войны удрал, дезертир, но как же удрал, начальник меня отпустил, и бумагу подписал. Двойник, говоришь, сам себе говорю, двойник! Чай, мы не в детской сказке живём. Во взрослом мире, и чёртов взрослый мир весь передрался, перецарапался. Ну что, Алексей, встань передо мной, как лист перед травой.
Ахти мне, не стаёть нонце батюско, помирати ноценькой станеть.
Переступил порог палаты. Медленно к его койке шёл, как хромой.
Подошёл. Лежит. Неподвижно.
Вытянулся под простынёй, как мраморный. И вдруг улыбнулся.
Я гляжу и вижу: не он лежит, а зеркало.
Койка зеркало, и человек зеркало, и весь воздух палаты вокруг койки и вокруг меня - зеркало.
Вот он дышит. Ещё дышит. Это я дышу. Ещё носом сопит. Спит. Это я сплю. Незрячая глазница уже рубцами кожи грубо, уродливо заросла. Затянулась. Это мой выбитый глаз еле зажил. Вот веко целого глаза дрогнуло. Это я, я сейчас другой глаз открою. И ничего не увижу. Ничего.
Смерть. Это смерть. Она отражает жизнь. Так всё просто.
Не надо сокрушаться, выть и причитать, отчаиваться. Так суждено. Отражаться. Отражать.
Зеркало плыло и уплывало лодкой. Плыла лодка койки в небеса. В чудеса. Я закусил губу. Алексей спал и улыбался во сне. Он меня почуял. И отразил.
Я стоял. Точнее, лежал. Сейчас я проснусь, потянусь, встану и на самого себя одним глазом весело погляжу.
Что с его рукой? С плечом? Загипсовано. Перелом? Я не знал. Кто сломал? Зачем? Упал? Избили? Порезали? Вывихнули? Пытали? Мы же не на войне. Мы на Родине! Вечная война идёт. Всех со всеми. Мы, народ, тоже путаем своих и наших. Нам кричат: враги народа! - ну мы и бежим с ними воевать. Худо это? Хорошо? Трагедия была, есть и будет. Но мы такой народ, что умеет радоваться и внутри страдания. Петь и веселиться и внутри отчаяния. Да, такие уж мы. Не сломать нас. Мы перелом моментом загипсуем. Срастётся.
Я ближе шагнул. Прямо передо мной, в живом зеркале, маячило, моталось лицо Алексея.
Он лежал неподвижно. Улыбался. Улыбка льдом застыла.
Неужели умер? И я не успел. Нет. Дышит.
Тихо дышит, еле слышно. Еле видно. Редкий вдох. Беззвучный выдох.
Сколько народу наш народ поубивал на войне, а сколько мы с тобой, отец Алексей, народу вылечили. Прооперировали и на ноги поставили. И опять на войну отправили. Тот, кто пережил, перешёл вброд свою смерть, уже герой.
И опять пошёл смерти навстречу.
Роды! Смерть! Да, так всё просто. Не надо слов. Одна кровь. Она льётся. Человек кричит. Не хочет умирать. Не хочет рождаться. Не хочет быть. Хочет - не быть. Ничего не хочет. А кто тогда всё это хочет за него?!
Алексей ответил бы: Бог. У него один ответ на всё. Богом за всех и вся отвечает.
Я теперь крещёный, и я должен верить, что это верно.
Я верю.
Но зеркало! Зеркало!
Оно сонно, невидимо висит, так чую, посреди палаты, на срубовой изжелта-карей, мощной сосновой стене. Корабельные сосны для сруба откуда-то завезли. С материка. На Островах сосны не растут. Говорят, раньше росли.
Скос зеркала, летит, кренится, дрожит. Я хочу его поймать, а то упадёт и разобьётся. Чистое стекло. Искрится алмазом. Да испод в чёрных пятнах. Амальгама старая. Потёрханная. Тает свет. Летит опять. Птица, и светится крыльями. Крылья широко распахнуты, всё отражают. Всё, что могут отразить.
- Я пришёл, - говорю тихо.
Я знаю, он меня слышит.
Только ответить не может.
Подай мне знак, что слышишь. Подай мне знак.
Мой двойник на койке пошевелился. Единственный глаз разлепился, открылся. Заросшая уродливой кожей глазница проваливалась внутрь черепа. Глаз глядел и не видел. Ни себя, ни меня.
А Бога? Бога видел?
- Ты пришёл, - говорю я Николаю. - Я ждал тебя. Я знал, что ты приедешь. Господь привёл тебя. Спасибо. Благодарю Тебя.
За койкой, за никелированной её спинкой с блестящими стальными шишечками, Он стоял. А может, это просто огромное зеркало висело на стене и нас отражало; кто приволок сюда зеркало, я не знаю, честно, не знаю, дитя моё, мне никто не сказал. Дитятко! Как прекрасно быть отражённым. А зеркалом ещё прекрасней быть. Ты молчаливый, ты бесплотный. Стеклянный? Нет. Ты серебряный, и, чем дальше Время птицей летит, тем сильнее и бесповоротней ты обращаешься в свет. Стать чистым светом! Об этом все богословы, об этом все мудрецы. Я не богослов, не мудрец. Я просто врач. Но зеркало! Время. Это Время. Я всю жизнь отражал Время в видениях моих и возвращал его людям, вынимая из ямы смерти их. Пришла пора. Нынче Время отражает меня. И Господа рядом со мной. И ещё одного меня; второго меня; я приехал, чтобы стать мною, который уходит. Сейчас уйдёт. Порог зеркала переступит.
Там, внутри зеркала, отражений нет. Бог не отражает. Он вбирает. Он впитывает, пьёт до дна, обнимает, принимает. Прижимает. Всю жизнь твердил, кричал, шептал: где ты, любовь? А вот она. Вот - Ты.
Всё, что мы делаем на земле, всё единственно. Зеркальная поверхность - не поверхность. Она движется, шевелится, дышит. Скользит. Играет. Она живая кожа. Живой горячий, нежный, влажный, речной поцелуй Души моей. Вот её щека прижимается к моей. Да разве это смерть? Зря мы боимся смерти. Вспомни, как ты рождался. Излились серебряные воды. Открылось живое жерло. Ты всунул голову в яму. Пошёл головою вперёд. Во тьму. В смерть. Страшно тебе было умирать. Но ты умирал. Ты шёл. И на войне так же. Ты идёшь вперёд. Бежишь. В атаку. Ты рождаешься. Тебя рожают. Рожает Мать-Земля. А может, Богородица. Она всеобщая Мать. Она всех младенцев родила. Не только Бога.
Всех людей. Это знание хранится внутри зеркала. В Зазеркалье. Наступает час, и об этом узнаёт человек. Слишком поздно. Каждый уносит последнее знанье с собой. Туда. В свет. Свет дорого берёт за то, чтобы сиять: жизнями. Тут ничего не поделать. Так устроен Мiръ.
- Ты приехал.
- Я приехал.
- Вижу.
- И я вижу.
Слепоты нет. Она исчезла. Перед светом все равны. И люди, и звери, и слепота, и прозрение. Меня били, это значит, благословляли. Меня бросали за решётку, значит, отпускали на свободу. Всё отражает всё. Последний Приговор есть Великое Прощение, а Страшный Суд есть великая Брачная Вечеря. Эй, за тобой стоит Душа моя, врач Николай? Душенька. Не отходи от койки моей! Видишь, я тяжело дышу! Это значит - легко! Видишь, не двигаюсь! На самом деле лечу. Лица, лица, лица! Ты видишь Рай, Николай? Ты идёшь по Райской мураве? Вокруг нас Души Живыя. Не упусти их. Запомни. Излечи. Всё больное хочет исцелиться. Дай новую клятву Гиппократа. Старую мы с тобой давали. Знаем. Новую скажи. Такую: да буду я зеркалом любой болезни и любого несчастия, происходящего с людьми на земле, всё отражу, всё вберу, всё прощу, всё излечу. Всю чужую боль обниму, от человека себе возьму, из плоти его боль вырежу, прочь отброшу, а вместо боли и ужаса в человека вставлю, вживлю свет. Свет! И да станет человек, мною излечённый, к жизни воскрешённый, зеркалом Света!
Что... что, думаешь, неправду говорю... чушь несу... предсмертный бред...
Двойник мой! Милое зеркало моё! Где Душенька наша? Наше зеркало? Где её дитя? Оно, мёртвое, стало другими детьми, живыми, ныне живущими. Ты тоскуешь по ней? И я тоже. Перед смертью понятно, зачем она явилась, зачем любила и рожала, зачем рано ушла.
Мы гневаемся на смерть. Зря. Давай лучше поглядим в зеркало.
Я, слепой, увижу там...
Я, зрячий, увижу там...
Давай поглядим в зеркало. Зря мы гневаемся на смерть.
Перед смертью понятно, зачем Душа явилась в нам, зачем любила и рожала, зачем рано ушла. Ты тоскуешь по ней? И я тоже. Где Душенька наша? Наше зеркало? Где её дитя? Оно, мёртвое, стало другими детьми, живыми, ныне живущими. Душа. Милое зеркало моё! Двойник мой!
Зеркало на стене наклонялось всё сильнее.
Два пространства являлись вокруг нас. Одно вымышленное. Его не было никогда и быть не может. Однако вот оно есть, здесь и сейчас. Наша мечта, наше вечное недостижимое счастье. Второе настоящее. Сидят в палате лазарета пряхи, прядут время. В северных нарядах, в холщовых юбках, в красных понёвах. В белых снеговых, вышитой строчкой живой крови, фартуках. Рукава засучены до локтей. Руки грубые, ловкие красны. Прядут. Наклоняются вбок, взад и вперёд. Приноравливаются к движению, струению, к бегу быстрой нити. Пряхи! Вечные бабы-пауки. Вечные Арахны. По полу клюква болотная щедро рассыпана, босые пряхи ходят и стопами давят ягоду. Алые пятки отпечатываются на скоблёных дожелта, чистых половицах. Там, далеко, на дальней стене палаты, на брёвнах старого сруба, висят ковры. Они вытканы усердными пряхами. Люди ходят по палате, нянечки, доктора, узники, рыбаки, начальники, операционные сёстры, их фигуры сливаются с шевелящимися вдали цветными пятнами ковров. Ковры, цветочное покрывало земли! Вами была укрыта земля Райского Сада. И вот вы здесь. Во смертной палате. Как хорошо! Близко я вижу прях. Они сидят, трудятся. Веретёна быстро мелькают, жужжат. Ткётся нить. Нить пурги. Нить заполярной вьюги. А вон цветную нить выдернули безжалостно из полнощного мафория, из Северного Сияния. Что сильнее, Мiръ выдуманный или Мiръ подлинный? Выдумка теряется перед Истиной.
Двойной наш Мiръ, и тяжела тайна Двойного, но мы в ней живём, и нам в ней жить и впредь. Трудно в лицо правде смотреть. Но ведь смотрим. Вон сияет посреди тьмы праздник, а вон в углу палаты горько, прижимая ладонь ко рту, чтобы не слышно было людям, плачет страдание.
Мы работаем всю жизнь. Ткём, прядём, кирпичи кладём, доски пилим, дрова рубим, хлеб сеем, в уголь подземный врезаемся, самолёты строим, по небу летаем. Мы работаем, а другие вкушают наслаждения. А невзрачная Арахна, паук бессонный, ткачиха в холщовой понёве всё прядут и прядут. Всё ткут и ткут. Ковёр нашей жизни огромен. Кто поручится, что именно твою, человек, фигуру вышьют вон там, в самом тайном, никому не заметном углу ковра?
Пряхи, они соревнуются друг с дружкой. Кто быстрее! Кто умелее! Кто сноровистей, ухватистей! Пряжа - тот же операционный кетгут. Иглу сюда! Я буду шить. Зашивать разрез на теле больного. И больной будет жить. А всего лишь тонкая нить! Откуда вы тут, в моей последней палате, пряхи? Я вас не звал. А, понял! Вы работницы Времени. Вы работаете на Время. Оно ваш хозяин. Оно вам платит. Ах, вы без денег? Просто так? Сами по себе? Вы нам, грешным, дарите ваше ткачество? Мерное, утомительное, сосредоточенное действие, монотонная работа, пряжа. Прясть и прясть. Усердно. Молча. Не отвлекаясь ни на что. Гремит война. Убивают людей. Кричит народ от горя на широких площадях. Летят в воздух цветы и огни на великих праздниках. А ты сиди и пряди, пряха. Гляди на веретено. Время тебя накажет, если нить порвётся. Отнимет у тебя единственную радость твою.
Грязь, масло, кровь, лимфа, зелень трав, сок морошки, ключевая вода. Жизнь не кончится никогда. Кончусь только я. Нет! Зеркало! Я отражусь. Я там останусь. В зеркале. Внутри.
Я много лет учился, чтобы овладеть искусством врачевания. Вот я умираю, и я не поручусь, дитя моё, что я мастер своего дела. Я подхожу к столу так же робко, как тогда, в тот день, когда мне, мальцу, лазаретному санитару, умирающий от пули хирург всунул в руки скальпель и промолвил: режь! Ты всё знаешь! Я никогда не хотел славы. Почестей. Залитых ярким светом залов. Заморских яств. Сладкой музыки. Дорогих нарядов. Я хотел овладеть хирургией так, чтобы можно мне было за руку человека, что одною ногой ступил на звёздный ковёр смерти, вывести оттуда, из царства мёртвых, обратно на землю.
А зачем? Зачем я их оживлял, всех людей?
Зачем за них во храме молился?
И молился перед сном, и поутру, и среди белого дня?
Затем, что земля - это небо. А небо - это земля.
Отражают они друг друга.
И кто знает, любимые мои люди, Души мои Живыя, что там будет, за гробом.
Вот я скоро узнаю. Сейчас.
...вот я скоро узнаю. Сейчас.
Зеркало, его прозрачный призрачный скос, ледяной скол всё быстрее летел ко мне, всё ближе и любовнее отражал меня, и я понял: сейчас оно меня раздавит, а может, ударит, а может, со звоном разобьётся об пол, и меня ранят тысячи серебряных осколков. Я попятился, а отступать было некуда, зеркало было везде, оно дрожало вместо стен, плыло и кренилось палубой вместо пола и нависало надо мной вместо крыши, и я понял, крышка мне, и даже весело мне стало, краем сознания я по-врачебному думал, остро и скептически: так, схожу с ума, пьян, а вроде не пил, ни спирту, ни браги, ни клюквенной настойки с приездом, да умерших помянуть, у начальника лазарета, - и все зеркальные стены, дальние дали содвинулись, тесно сжали меня, обожгли холодом, льдом, захлестнули солёным вьюжным морем, я раскинул руки, пытаясь отодвинуть зеркала, а руки мои свободно прошли сквозь стекла и амальгаму, вдвинулись в невидимое, и я обнял отражающий меня мир, обняв всё сущее, и узников, и войну, и весь родной народ, и Алексея, и Душеньку, и моего мёртвого сына, я стал одним объятием, радостным, прощающим, благословляющим.
Из глубины зеркал полетел на меня лик Алексея. Он приблизился ко мне, вдвинулся в меня, проник в меня, я сам не заметил, как я принял его, телом моим и душою вобрал его.
Я стал им. Он стал мною.
Умер.
Родился.
Я стоял в палате один.
Я лежал на койке один.
В палату вошла девочка, одна.
Белые коски белыми верёвками топорщились у неё над плечами.
Она ближе подошла к койке. Надо было что-то говорить. Не молчать.
- Дитятко моё, - тихо сказал я, - может, ты голодна? Попроси нянечку, она тебя покормит, на лазаретной кухне варили сегодня кислые щи. С треской. Утром треска, в обед трещочка, вечером трещица.
Девочка осторожно села на край койки. Я сверху видел её затылок. Косички мелко дрожали, будто она плакала. Но она не плакала. Опустила голову низко, до ключиц.
Я хотел погладить её по острому локтю, по плечу, по острой коленке под застиранным халатом, он велик ей был, не по росту, с чужого взрослого плеча. Я не мог дотянуться.
...а назавтра мне пришлось делать тяжелейшую операцию, вот я попался, с войны да как кур в ощип, раненого привезли, моряка, их сторожевик принял неравный бой с тяжёлым крейсером врага, много моряков могилу нашли в ледяном океане, а кто спасся, качался в шлюпке, раненый, истекая кровью, тех рыбаки подобрали. Сюда доставили. Легенды о нас ходили; болтали языками: мол, в бараках-то, в лазарете, такие два хирурга, чудеса творят. Ну, чудеса так чудеса. Согласен. Вносят раненого на носилках. Два дюжих парня, крепкие поморы, брови хмурят, несут. На лицах у парней написано: не выдюжит. Ну, это мы ещё посмотрим, кто кого! Мы смерть или она нас! Дёргается раненый на носилках. Вопит.
- Бросьте меня! Бросьте! В море! Больно! Захлебнусь!
Портки порваны. Вместо ног красная каша. Он дёргает ногами, размахивает кулаками. Борется с невидимым врагом. На ноги сестра уже наложила жгуты. Парни подтащили носилки прямо в операционную, сгрузили раненого на стол. Операция срочная. Каждая минута дорога!
- Сестра! Грелки! Живо!
Нет. Не помогли грелки. Трясся. Дрожал. Чуть не плакал. Зубами стучал. Вместо правой ноги мясное месиво. Левая не лучше. Кости раздроблены. Обработать раны и загипсовать? Или обе ноги отнять к чертям собачьим? Что ты думаешь? Как поступишь?
А ты?
А ты...
- Марлю! Эфир!
Сон. Сон, это тоже зеркало.
Сон снится, зеркало отражает жизнь. Потустороннее зеркало.
Ты всё делаешь правильно?
А ты?
А ты...
Больной спит. А я не сплю.
И я не сплю.
Удалить повреждённую ткань мышечную. Костные отломки.
- Бинты! Гипс!
Гипс наложили. Роскошно всё. Просто здорово. Я прямо возгордился. А вот никогда не надо гордиться собой на операции. Плохо это может кончиться.
- Маску снимаем!
Сняли. И тут началось. Моряк бил кулаками. Будто в рукопашном с врагом сражался. Орал недуром. Загипсованной ногой пинал воздух. Бился в судорогах. Я, санитары, сестра держали его изо всех сил. Куда там! Он дёргался неистово. Как в падучей. Санитары навалились ему на грудь. Руки ловили. Он одного парня в скулу кулаком саданул. Гипс весь во вмятинах, расползается на глазах, как мокрая глина.
- Давление! Падает! Адреналин! Быстро!
Я сделал укол адреналина в сердце.
Сердце, я закрывал глаза и видел, как оно бьётся. Внутри человека, а как снаружи. Оно везде. На земле. На небе. Сердце, винный кровяной мешок, пьянящий кисет, корзина жизни, оплетённая смертными, смиренными ветвями. Красное паникадило. Тело человека живая церковь, вот почему церковь изобрели. Её строят, как бабы рожают. Церковь, младенец. Цветной, золотой, белокожий, деревянный, суровый, заполошно на ветру орущий всеми колоколами.
- Переливание крови!
Темнеет. Темно. Проклятье. Опять свет тусклый, как волчий глаз! Опять подстанция ток не даёт!
- Эй! Керосиновую лампу сюда! Кто принесёт?! Скорей!
И тут девочка вошла. Медленно и тихо. Она несла в руках горящую керосиновую лампу, держала высоко. Над головой.
Операция идёт. Операция падает. Рушится. В пропасть. Не спасти. Не удержать. И входит свет. Керосин горит, бьётся, тлеет. Разгорается опять. Вот так и жизнь. То затухает, то опять вспыхнет.
- Глюкозу! Спирт!
Девочка, белые коски, красный платок на лбу, тугой узел на затылке, стояла рядом с операционным столом, маленькая нянечка, высоко держала лампу, внимательно глядела, не на меня, не на больного, не на гипс и раны, а вперёд, в пространство, и мне казалось, оно в разные стороны расходится, растекается перед ней, и в пустой прогал можно войти и там идти, и прочь уходить, и больше никогда не вернуться.
Операция, зеркало жизни. Я отвел от керосиновой лампы слепые от боли глаза. В зеркале на стене я увидел себя. Нет. Не себя. Да. Себя.
Там отражался иной доктор: ряса до полу, белый халат на тесёмках у горла, резиновые перчатки, борода, седая, серебряная, тающий прибрежный лёд, круглые совиные очки, нательный крест поверх халата.
Врач Алексей.
Я.
Собственной персоной.
Там, в зеркале.
Я, батюшка Алексей, стоял у стола и оперировал, медленно вводил больному в синюю, как небо, вену спирт с глюкозой, а девочка медленно шла ко мне, приближалась, вот совсем близко подошла, поставила лампу на пол. Погоди! Постой! Пусть отразит тебя зеркало. Одно зеркало, другое, третье, множество их крутится вокруг тебя, они отражают друг друга и уводят тебя из моего Мiра. Или меня от тебя; это всё равно. Красивая девочка, дитятко милое! Нянька лазаретная! Острые локти! Крошки веснушек! Проходит мимо нас наше Время. Катят волны тысячелетий. Нам отпущен слишком маленький срок. Не успеваем мы сделать, что хотим. Только молимся: Господи, дай силы успеть хоть немного. Все люди раненые, и все мимо идут, и все навеки уходят. Кто в гипсе, кто на костылях, кто выздоровел, кто умер. Я отпою умерших. Я благословлю живых. А люди всё идут и идут, всё мимо и мимо. Ты поставила лампу на пол. Ты очень рядом. Слишком рядом. Ты глядишь мне в слепые глаза. Я зеркало. Погляди в меня! Там увидишь не себя: Время.
Прощай или здравствуй? Я не могу с тобой проститься. Нам нельзя прощаться. Я понимаю, прощание назначено. Но давай мы его отсрочим! Давай сами Временем станем!
Войди внутрь меня. Это не страшно. Ты тоже будешь отражать святое. Молиться без слов, лишь светом одним. Войди в зеркало! Не бойся! Переступи порог! Видишь, какое чистое, живое серебро!
Девочка, улыбаясь, освещённая снизу мягким, медовым светом керосиновой лампы, встала на цыпочки и крепко обняла меня. И я положил руки ей на плечи.
Мы, в темноте, подсвеченные сбоку и снизу вечным светом, стояли, обнявшись, и тепло жизни и смерти текло в нас большим и малым кругом кровообращения: так вращался в зеркалах Мiръ, и так согревались мы внутри льда, тьмы, холода и безлюбья. Где ты, любовь? А вот ты. Рядом. Душа Живая. Душенька. Всё вернулось. Нельзя, чтобы не вернулось; невозможно. Одно перетекает в другое. Далёкое становится близким и родным. Серебро старинной амальгамы, полнощный праздник, Сияние. Трепещет синий, зелёный мафорий. Мерцает паникадило Луны. Солнце горит торжественной иконою Знамение. Это сердце моё. Оно же и твоё. Скальпель, вот он, уже не надобен. Идёт хирургия Духа и сердца. Моё сердце Солнцем освещает боль и смерть, оно восходит в ночи, бьётся под рёбрами всех тюрем, бьётся во чреве будущей матери плодом, ищущим выхода. Земля беременна будущим. Мы будем с тобою, дитя, принимать роды. Не бойся.
Дай мне маску. Перчатки. Зеркало круглое надень мне на лоб.
Возьми в руки лампу. Выше подними. Свети мне. Свети.
Больной на операционном столе стонет.
Я набираю в шприц дигоксин.
Белокосая девочка наклоняется, подхватывает с пола керосиновую лампу. Тусклое нежное пламя бьётся сердцем за тонким закопчённым стеклом. Будто в стеклянной длинногорлой бутыли, горит туманный, заоблачный золотой свет. Жёлтое вино. Далёкая позолота. Дальний рассвет. Девочка подворачивает винт, свет становится ярче. Она высоко поднимает лампу. С лампой в руках, высоко поднятой, подходит к столу, нежно смотрит на раненого.
Я слышу её тихий голос. Почти шёпот.
Почти выдох.
- Потерпи, милый, потерпи.
КОНЕЦ
Новые рукописи
- Берегите мужчин! Автор: Шелейкова Нина Жанр: Публицистика
- Утки Автор: Виктор Верин Жанр: Проза
- Долина царей Автор: Крюкова Елена Жанр: Проза
Книжные новинки
- "Осенние откровения" Ларисы Каменщиковой Автор: Информационная служба РОСА Жанр: Книги РОСА
- Заметки фенолога – 2024 Автор: Фирсов Геннадий Жанр: Книги РОСА
- Владимиров А.А. "Формирование микрогеометрии поверхности при вибрационном точении" Автор: Информационная служба РОСА Жанр: Книги РОСА
 Видеогалерея
Видеогалерея Фотогалерея
Фотогалерея Аудиогалерея
Аудиогалерея Магазин
Магазин