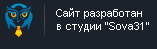Оборотень
Дата: 15 Февраля 2022 Автор: Крюкова Елена
Все имена, персонажи и события вымышлены.
Любое совпадение с реально существующими людьми случайно.
Не дадите святая псомъ,
ни пометaйте бисеръ вaшихъ предъ свиньями,
да не поперyтъ ихъ ногaми своими
и врaщшеся расторгнутъ вы.
Евангелие от Матфея,
глава 7, стих 6
Пускай земля обагрена кровью —
Луна сохраняет белизну своего света.
Виктор Гюго, "Отверженные"

ФРЕСКА ПЕРВАЯ. ВЕЧЕР У КАМИНА
Огонь в камине горит ярко, дрова громко трещат, так, что я вздрагиваю, старые и молодые друзья мои, спасибо, что собрались и что меня позвали, да, славное развлечение в наши страшные времена, вы от каждого гостя ждете историю, историю его жизни, это вы здорово придумали, рассказывать истории, да не вы первые придумали это, но это все уже неважно. Важно то, что я пока живая и пока могу рассказать вам правду, как оно все со мной было. Пока! Ну да, пока. Завтра я умру, и мне надо успеть рассказать вам правду. Но вы же не мой Страшный Суд, правда? Не мое строгое и справедливое судилище? Ах, все для всякого суд? Но это же человеческий суд, не Божий. А есть еще и Божий Суд. По крайней мере, так говорят. Говорили, простите. Говорили когда-то. Вы меня позвали, чтобы я здесь, у камина, на этой печальной, заброшенной даче, срубовые стены все в иероглифах жука-точильщика, ах, старинная красота, все заткано серебряной паутиной, на старом беззубом пианино горят мощные свечи в позеленелых шандалах, на столе чудеса из чудес, забытое волшебство, ах-ах, ноздри мои уже танцуют, слюнки текут, жареная утка в яблоках и хорошее красное вино, да, чтобы я здесь, при огне и давно погибших драгоценных яствах, может, они мне только снятся, рассказала вам историю, и этим приглашением, и этой невинной просьбой вы разбередили во мне рану. Она, старая уже, все еще свежа, и болит, и еще будет болеть. Будет ныть, болеть и ужасать меня до скончания века. Чьего? Моего? Или нашего, общего? Да плевать на меня! Кто я теперь такая! История эта не закончена, она длится и длится, так же, как длюсь и длюсь я, и, значит, я не имею права вам ее рассказывать до конца. И потом, она такая печальная! Такая ужасная! Вас оторопь возьмет. Ах, не боитесь? Правды моей не боитесь? Ну тогда вперед! Труба зовет!
Я развлеку вас! Повеселю! А что, печалью тоже можно повеселить. Старинный клоун, он ведь плакал на арене. А люди в цирке смеялись. Вот и вы посмейтесь. Смейтесь! Начинайте!
Вы думаете, я живая? Ну да, если хожу, дышу и бормочу, значит, живая. Это не так. Живая я была там и тогда, когда мерила крупными и веселыми, молодыми шагами мою родную землю в моем родном городе. О, какой это был город! Сейчас он разрушен. Скелет остался от него. Камни мерцают осколками и пылью, и плакать нельзя. А раньше в густо-синее, чертовски синее, о нет, Божественно синее мартовское небо взлетали с храмовых крестов стаи голубей, и купола за ними в зенит жадно, завистливо взмывали, слепя, обжигая зрачки и щеки нестерпимым, парчовым, царским золотом. А то еще, знаете, у церквей сверкали в кубовой сини купола алые, витые, оранжевые, полосатые, как ханские халаты! Как тигровая хищная, несчастная шкура! С нас со всех шкуры содрали. Мы давно уже - шкуры. Не люди. Кому надо, может меня, старую рухлядь, взять, на меховинки разрезать, разодрать, и в них закутаться. Из меня - себе шубу сшить. Нищая шубенка-то выйдет, да все согреет в мороз.
Ах, город мой! На горбе земляного медленного верблюда над широкой ледяною рекой! Башни из алого твердого кирпича, Божьи козинаки, зима не разгрызет, время не укусит, метелки голых тополей голое небо на ветру метут, а сугробы в марте так сияют - белые жгучие фонари в детском, леденцовом цирке. Людская жизнь, злой цирк! Клоунада! Вдоволь мы все накувыркались. Без лонжи. Без батута. Одна война, другая. Кто больше? Кто на кон еще одну битву бросит? Кости раскинет? Не хотите? Как хотите. А я так помню мой город - его небритых бродяг и его священников в черных, закопченных на огне молитв рясах, его молотобойцев, вразвалку идут с завода после тяжелой смены, его рыбарей, в бушлатах и забродных, до самых чресел, заляпанных илом сапогах, с кружевом сетей, пахнущих болотиной и мокрой чешуей, за могучими плечами... его музыкантов, что с футлярами, спотыкаясь, спешили, торопливо семенили на репетицию в филармонию, в сахарный дом со снежными, нежными колоннами, призрачными и прозрачными стражами на границе сна и музыки, а что там у них пряталось в черных футлярах, никто никогда не узнал. Сладкое созвучие? Желанный поцелуй? Общий, дикий, последний вопль до неба?!
Милые, я жила в этом городе, у меня был стол и кров, была семья, и я любила ее. И я любила свой город - иногда он оборачивался ко мне через плечо, и вместо синих небесных глаз и белых сугробных щек, нарумяненных ярким заречным закатом, я видела узкий разрез смоляных очей, широкие темные брови вразлет: это над холодной рекой летел коршун, а может, ястреб, а может, канюк. Степь глядела на меня из-за плеча, исподлобья. Я слышала жесткий, глухой топот подков. Древняя мертвая война бередила сердце, а в ночи кровью загорались неоновые вывески живых пельменных и танцующих ресторанов, надменных домов моды и шкодливых винных погребков, и ледяные манекены жестоко щурились на прохожих, держа в картонных пальцах на отлете крашеные сигареты, и ночные мои люди опять спешили, спешили жить и наслаждаться. Я иной раз хотела разделить их тревожную жажду сладкого, дымного и пьяного. Верность и судьба останавливали меня. Ты свое отгуляла, шептала я себе, так попостись теперь, иди вперед гордо, не оглядывайся. Не оглядывайся назад.
И шла я по городу, не оглядывалась назад, а мне глядели вослед, мужчины и старики, мальчишки и девчонки, дети и старухи, мой народ глядел вослед мне, и кто-то кричал мне в спину: шалава! - а кто-то хрипел: модница! - а кто-то плевался: нищенка! - а кто-то цедил: выскочка! - а кто-то восхищенно вздыхал: красавица!
И все это был мой город. И все это была я.
И, знаете, красные башни моего Кремля тоже глядели мне вослед пустыми глазницами, а ветер вертел на их островерхих шлемах старинные флюгера в виде стальных штандартов; менялся ветер, менялось время, менялась я, и ничего неизменного не было на моей родной и вечной земле.
Не явиси, душе моя бедная, стоцветная, по Твой, Боже Всезрящий, достойный совет... аще не разруши, лохань медная, мати многодетная, злообещанный, хитрости патокою зело улещенный, обесчещенный Адом завет. Ах, царя-государя, над костром петушишку изжаря, Господь топором обезглави за красную гордость, а тебя, сироту, во плясицыной паре да вовек не постигнет диавола злобность! А может статься, то злоба людская! и ее не измерити ни стадом, ни ладом, ни ядом, рыдая от края до края! И ныне, о друже, молюся: любовьюшка, светлый мой Рай, будь мне чистым духом... сияющим снежныим пухом... подобно Богу Господу твоему, на Кресте умирай... а потом оживай, воскресай...
Что, люди, говорю красиво? А что, красиво говорить - грешно? Спасибо, что вы меня слушаете. И, надеюсь, понимаете. Тише, тише, все вранье: я уже ни на что не надеюсь. Говорю красиво, потому что всю жизнь из смеха своего и слез творила красоту: сочиняла стихи.
Я пишу стихи, вот грех какой. Это так обычно. Так привычно человеку. Я их из древности вольно пишу, едва от любови дышу, из разверстой земли нежных времен, из горностаевых снежных пелен вырастают они, мои грешные, безбрежные ночи и дни. Красивая музыка, сама в слова складывается. Мир от века зарифмован, только не знает об этом. Каждый пишет стихи. В детстве, в юности. Потом прекращает их писать. Я навек осталась ребенком и писать стихи не прекратила. Стихи казались мне золотой горой: на нее надо обязательно взобраться, чтобы оттуда, с горы, увидеть мир, в котором живу. Потом я слушала, как стихи тихо текут в моей крови. Они толкались, вместе с кровью, в горячие пальцы, в кулаки, разрезали грудную клетку, взрывали лоб. Над моей ночной головой вставало ослепительное сияние, и я дрожала от страха и страсти, спеша записать слова - на чем угодно: на обложках книг, на обрывках бумаги, однажды торопливо, вслепую, черкала ручкой по старой рваной газете, впотьмах, а потом утром еле разбирала каракули, восстанавливая полночную музыку. Я сама становилась стихами, и это было то счастье, то горе, но я уже не была собой: я была всеми ими, этими словами, то беспомощными, то могучими, они мощным огнем выедали меня изнутри. Черкала так, черкала по бумаге, даже институт окончила, где на поэта учат, такой только в моей стране имелся, в столице, я в столицу поехала из своего веселого города на широкой холодной реке, в том институте испытания прошла благополучно и училась там шесть долгих лет. Ничему не научилась. Хотя учителям благодарна. Они были великие, мои учителя. Но - каждый сам по себе. А я сама по себе. Стихи мои сами рождались и сами умирали. Умирали те, которые я на стороне услышала, с чужого голоса старательно, ученица, списала. А мои-мои, самые-самые, кровные, дерзкие, услышанные внутри, а не снаружи, - оставались жить.
Оглядываюсь отсюда - туда: на себя. Странной сама себе кажусь. Думаю, в зеркало погляжусь, а это глядятся в меня. Глазом краснее огня: то ль кистеперая рыба, а то ли царский, пожарский гусь, от слез огнем-ладонью утрусь, гляди, мое зеркало, в живую, пламенную меня. Гляди, слепое зерцало, как, зрячая, жизнь начинаю сначала. Зеркало, на зимнем покрове босиком стою вечная я, сама себе небесная семья, яркая, жаркая буква Ять. Тебе - меня - не догнать.
А прежде чем начать стихи слагать, вы этого тут никто не знаете, так я уж вам скажу, я ведь музыкантом много лет была. Музыке меня родители учили. С малых лет. Купили черное мрачное пианино и поставили в доме, посреди гостиной. Я осторожно подходила к пианино. Оно казалось мне черным сараем: сейчас откинут крышку, втолкнут внутрь и замкнут на ключ. И поминай как звали. Я, едва дыша, подходила близко, близко и касалась пальцем клавиш. Они пели, гудели радостно. Я смеялась. Быстро играть научилась. Будто еще до рождения на пианино играла. Меча гневной музыки мне не отринути, из груди копия пламеннаго не вынути; во мраке диавол завидует искусному игрецу... а я, ослепши от чуда, мимо горя и блуда ко звукам, огненным мукам, иду, как к венцу... И в столичной Консерватории я на музыканта выучилась: на многих инструментах исполнять музыку могла, и на рояле, и на органе, и на клавесине, и на блокфлейте, и на челесте, и на гитаре, и петь научилась по всем правилам, вокалом со мной занимались славные певцы, и даже класс музыкальной композиции посещала, музыку пыталась сочинять, и обнаружила там, что законы рождения искусства одни: для черных, небесных ласточек, летящих нот, и для корявых, ржавых людских букв.
Знаки, буквы, буквы, знаки… все есть символ. Знаки горят, передвигаются, перемещаются, их слишком много, чтобы их вместил наш жалкий разум. Знаки постигаются не умом. Я сидела в темном классе за органом, это был малюсенький смешной, будто игрушечный органчик; рядом, по снегу лишь тропку перебежать, в Большом зале Консерватории возвышался громадный орган, ледяная гора, грозный айсберг, а я плыла, ненастная ученица, в своей маленькой лодке, отчаянно нажимала ногами на огромные деревянные клавиши, поднимала тяжелые весла регистров, елозила руками по скользким клавишам, черным и белым, в глазах моих стояли слезы, делая меня беспомощной, слепой, и не было мне пощады, потому что я знала: я должна звучать. Чем? Нотами? Иными знаками? А разве человек звучит написанным, нацарапанным? Он звучит только тем, что у него внутри. И никто никогда не слышит этой музыки. Все остальное - да! все! все, что вырывается из тебя вон! - это чепуха. Твою музыку слышишь только ты. И Бог. И в тот миг, когда ты ее слышишь, ты и есть Бог.
А потом ты забываешь, что услышал. И плачешь. Плохо тебе! Томно! Ничего не вернешь.
Любые знаки могли быть напечатаны. Оттиснуты. На бумаге в гремучих жарких типографиях; а еще в иллюзорном неведомом мире, что тогда красиво и хищно звался Сетью; мы все уже привыкли к ней, к Сети, будто она была всегда. Мои стихи печатали, их читали люди; кто хвалил, кто ругал, мне было все равно; мое дело было - записать, что слышу и вижу, и людям отдать. Живите среди людей! Плывите, летите, слова! Как вы там будете жить одни, без меня, это уже не мое дело.
Я стала, кроме стихов, на музыку похожих, писать еще большие толстые книги о том, о сем. О человеках, о богах, о мире, о войне. Даже о Граде Небесном Иерусалиме книгу написала; он мне снился, сияющий. Я записывала сны, но из редких снов я делала книжку. Записывая сны, я тайно запечатлевала Мир Иной. Он привлекал меня. Я не знала туда дороги. Я сама прокладывала ее. Одна из моих книг была посвящена Великой Блаженной: в этой книге Великая Блаженная ходила по дорогам земли и жизни и любила людей. Больше ничего не делала, только любила. И эта странная женщина в мешке вместо платья учила меня любить людей. Юродиво, пылко, велико. И я садилась рядом с нею, утомив быстрые ноги, под громадным, как звездное небо, дубом у дороги, и ела блаженный черствый хлеб и блаженно плакала вместе с ней.
О, Владыко Боже Святый! Убей аггелов проклятых! Царю вечный, Царю вышний, яко орля, над небесною крышей Ты лети! Твое величье в облацех поет по-птичьи! Так звенит капелью вешней! Слезкою по всех по грешных! Вышний чин Твой недостижный, недозримый, непостижный! Благость Твоя неисчетна... милость Твоя неизреченна... Окорми мя, Ты услышь мя, не дай умереть, Всевышний! А захочешь взять ко звездам - вбей в мои ладони гвозди! Вбей в ступни святую муку! Протяни из облак руку! Грешное, в крови, белье... Царствие подай Твое... Сердце Твое исцелую... Жизнью всей Тебя люблю я... Господи, на небеси... душу грешную спаси...
Подрастали наши сыновья, наши веселые мальчики, становились юношами, потом мужчинами, уезжали в другие города, возвращались, плакали, скитались, клялись и предавали, смеялись и исповедались, искали себя и снова теряли, а я все так же подходила к их кроватям ночью, и все так же крестила их, спящих, впередсмотрящих, и все так же тихо, неслышно, чтобы не проснулись, плакала над ними от великой любви.
Любовь! Куда она ушла? Где она была теперь?
А может, она была тут, рядом, только я не видала ее в лицо?
А может, видела, каждый Божий день и всякую Божию ночь, когда в туманное, серебряное зеркало слезно глядела...
Друзья мои, а вы что, разве не знаете, чем я занималась все эти годы, во все это страшное и прекрасное давнее время? Ну да, конечно, не знаете; вы меня не знаете. И я только льщу себя бедной, бешеной надеждой, что тогда, там, давно, меня знали. Нет! Не знали. Никто не знал никого, а мы не знали свою родину. Ведать не ведали, что она нам приготовит. Что состряпает, чем угостит нас наше время. Да ведь времени нет, его и не было никогда, а мы все только и делали, что пытались друг другу доказать: есть, есть! И время есть, и вечность есть! Оказалось на поверку - нет ничего. Ничего, за что можно было зацепиться хоть краем сознанья, краем сердца. Прежняя родина рушилась, истекала красными знаменами нашей дешевой крови, новая, дико визжа, в проклятых потугах продиралась на свет, и я, видя преждевременную смерть и преждевременные роды, пела о них невозвратные песни - о том, как моя земля гибнет, а новая нарождается и все никак не может родиться, и повитухи утомились, вспотели, в голос ревут, утирают щеки и мокрые лбы. «Не умирай!» - так назвала я книгу стихов, что сложилась в те годы. Откуда мы все вышли? Куда идем? Да разве вы не помните эти, вот эти мои стихи, их напечатали на желтых, старых, ломких, как печенье, страницах в те баснословные года не раз и не два, и чужие люди, завывая, читали их со сцены, да я и сама громко читала, с выражением, - да, в те поры я не только играла музыку на сцене, но и осмеливалась стихи свои читать, в микрофон или без него, голос мой громкий летел вдаль, летел над залом, надо лбами и затылками, а бывало, и над широкой площадью, запруженной народом: меня приглашали читать мою бродячую, скоморошью поэзию на цветные народные праздники, я сначала смущалась, отнекивалась, потом попривыкла, приближала лицо к опасной железяке и закрывала глаза, как перед поцелуем, будто хотела через тот нелепый, железный, горьким гулом гудящий огурец всех людей на гулкой, как море, площади - поцеловать.
Не помните? Да вот же, слушайте!
...останови! Замучились вконец: хватаем воздух ртом, ноздрями, с поклажей, чадами, - где мать, а где отец, где панихидных свечек пламя, - по суховеям, по метелям хищных рельс, по тракту, колее, по шляху, - прощанья нет, ведь времени в обрез! - и ни бесстрашия, ни страха, - бежим, бежим... Истоптана страна! Ее хребет проломлен сапогами. И во хрустальном зале ожиданья, где она, зареванная, спит, где под ногами - окурки, кошки, сироты, телег ремни, и чемоданы, и корзины, - кричу: останови, прерви сей Бег, перевяжи, рассекнув, пуповину! Неужто не родимся никогда?! Неужто - по заклятью ли, обету - одна осталась дикая беда: лететь, бежать, чадить по белу свету?! Ползти ползком, и умирать ничком - на стритах-авеню, куда бежали, в морозной полночи меж Марсом и стожком, куда Макар телят гонял едва ли... Беги, народ! Беги, покуда цел, покуда жив - за всей жратвою нищей, за всеми песнями, что хрипло перепел под звездной люстрою барака и кладбища! Беги - и в роддома и в детдома, хватай, пока не поздно, пацаняток, пока в безлюбье не скатил с ума, не выстыл весь - от маковки до пяток! Кричу: останови!.. - Не удержать. Лишь крылья кацавеек отлетают... Беги, пока тебе дано бежать, пока следы поземка заметает! И, прямо на меня, наперерез, скривяся на табло, как бы от боли, патлатая, баулы вперевес, малой - на локте, старший - при подоле, невидяще, задохнуто, темно, опаздывая, плача, проклиная... Беги! Остановить не суждено. До пропасти. До счастия. До края.
А-а-а-а-ах… ничего, что я так долго читала? Весь стих вам прочитала. Весь! Иначе вы, друзья мои, ничего в истории моей не поймете. Здесь надо, чтобы все знаки прочитывались до конца. А чуть споткнешься где, чуть не так улыбнешься - и все, пиши пропало, родится сразу уродливая двойня - ложь и осужденье: знаете, люди любят врать, судить и осуждать, что в те времена, что сейчас, люди всегда одинаковы. И в древности гуляли сплетни. И в старые времена - ненавидели. Да еще как. Люто. Как звери. Нет, злее зверей.
Самое страшное для человека - открыто любить, щедро прощать и говорить правду.
Ненавидеть, осуждать и лгать гораздо легче. Гораздо!
А что такое легче?.. легче легкого... птичье перо... улетает... тает...
А в те годы, страшные и прекрасные, когда одна родина гибла, а другая нарождалась, я вышла замуж, и вышла счастливо, муж мой, художник, добр был и ласков ко мне, а картины писал удивительные, я удивлялась им тогда, удивляюсь и сейчас. Он прикатил ко мне из Сибири, из Ворогова, от бурливого, бешено-зеленого даже зимой, в морозы, великанского Енисея, ото льдов и черных пихт в тайге, и картины его мерцали древним, первобытным огнем. Муж художник, я поэт, счастье есть, а денег нет! И вот пришли мы с мужем на выставку. Ходим среди картин. Глядим, дивимся, впечатлениями делимся. И вдруг из соседнего зала слышим тонкий женский голосок: незнакомка читает стихи! А может, знакомка! «Пойдем послушаем, - говорю я мужу, - кто-то из наших поэтесс, сейчас узнаю, чей голосок, да, Ветка, точно!» Вошли мы в соседний зал. И точно - посреди зала стоит она и читает стихи. Поэтесса местная. Виолетта Волкова.
Кудрявая; белокурая, а на солнце даже рыжая; копна буйных волос гуще Бахова парика; матрешечно-румяная; губки сердечком; морщинистая шея густо обмотана роскошным сверкающим ожерельем. В те времена о ней в бульварных газетенках писали, под ее кучерявыми снимками: «ВИОЛЕТТА ВОЛКОВА, СВЕТСКАЯ ЛЬВИЦА».
А муж мой прислушивается к голоску, а тонкий пронзительный голосок взлетает ввысь, тонкой сверкающей иглой прошивает душный воздух зала, и изумленно шепчет мне мой муж, и руку мне крепко сжимает, до кости: «Леля, стой, слушай, ведь это же твои стихи!» Как это мои, спрашиваю, почему это мои? «А потому, - отвечает муж, он-то все мои стихи уже знал наизусть, - что - твои! Только - переделанные!»
А голосок все выше и выше забирался, обращаясь на высоких нотах в щенячий визг:
...баулы и кули он волочил, толпой валил и забывал про милость, на край земли бежал что было сил, - народ, народ мой, что с тобой случилось?! Сорвался с места, бросил теплый дом, и - на вокзал, с котомкой за спиною, и в ожидальном зале, где Содом, в ковчеге спишь, ты весь подобен Ною! Как хищно рельсы зимние блестят! А ты с детьми, корзинами - все мимо… Остановись! - но крик мой ветром смят, и снова я кричу: куда, родимый! Кричу, но никогда не докричусь! Прерви свой бег! Отец и мать далёко! Опять вокзал, и слезы из-под век, котомку развяжи, так одиноко! Достань в пакете нищую жратву! Поужинай! Поплачь о наших детках! Сон посмотри кошмарный наяву: перрон плывет, в вагоне люди - в клетке... Кричу: остановись, куда, куда! Куда там! Ты бежишь, меня не слышишь! Народ, народ! Деревни, города! Бежишь ты по земле, бежишь и выше! Беги, пока бежать тебе дано! Пускай тебе стреляют в грудь и в спину! Ты победишь, народ мой, все равно! Ступая к трону иль ступив на мину!
Тонкий верещащий голосок оборвался, и, как в самолете, отложило уши. Люди захлопали в ладоши. Я все прекрасно поняла, ну вот все-все, сразу. А что тут было понимать?
Я почему-то, друзья мои, в тот миг страшно смутилась. Ну да, услышала, конечно, все знакомые ноты и все репризы; себя, как в зеркале, узнала. Будто бы я сама стих свой написала по-английски или там по-французски, а его взяли и ловко, за руку через ручей по шаткому мосту, перевели на русский. Обработали умело. Почему я смутилась, спросите? А стыдно мне стало за Виолетту. Жутко стыдно! Будто это я сама Виолетта, и я сама - у Ольги Ереминой - то есть у себя, ну, у меня, ну, вы поняли, - стишки украла и на иной мотив переложила.
Мне всегда за других бывает стыдно, если вижу какое непотребство. Человека не родишь обратно. Мама, роди меня обратно, так не бывает. Каждый на земле живет как умеет. И любит как умеет. И предает как умеет.
И что, спросите? А ничего. Тогда, много лет назад, все закончилось ничем. Я махнула рукой беспечно. «А, наплюй, - говорю мужу, - с кем не бывает! Ну, понравился ей мой стишок, ну, поигралась она с ним. Ну и все! Поигралась и забыла! Пойдем дальше картины смотреть!» Муж не унимается. «Но это же воровство!» - говорит. Я ему: «Не воровство, а подражание! Ну пусть, пусть немного поподражает Ереминой! На пользу ей пойдет!» Мы даже немного в том зале постояли, Ветке Волковой вежливо похлопали. За руки взялись, дальше идем по выставке, картины в нас летят жар-птицами. А потом отошли, и - в смех. Смеемся уже оба. До слез. Муж первым смеяться бросил. «Я бы, - говорит, - Лель, ей все-таки врубил. По первое число. Нельзя так! Погано это!» Я опять рукой машу: брось! Ерунда! Не плагиат же!
"Это хуже, чем плагиат, - обронил муж. - Это - подлее. Вот представь, вы две рыбачки. И стоите рядом, на одном берегу. И у тебя улов знатный, а у нее в ведре куча мелких рыбешек. И она на твое ведро косится. И ты отвернулась, а она - р-раз! - и лапу, пардон, руку в твое ведро сует! И твою крупную рыбу - цап! - и себе в ведро бросает. И другую, и третью! А потом взахлеб хвастается: ой, люди, глядите, сколько я-то наловила! На хорошем месте стояли! Обе! Рядышком! Благодатное местечко! Отменная рыбка!" Я слушала, не перебивала. "И вот то, за что ты платила потом, смехом, слезами, кровью, жизнью, в ее ведре становится - просто добычей. Добычей! Только добыла она ее не из реки жизни, а - у тебя в ведре. Понимаешь?"
Я кивала. Понимаю, шептала я мужу, но давай забудем!
Милые, люди мои… друзья мои… разве я знала, что потом-то будет…
Ветка, Ветка… издали я эту кудрявую тетеньку сто раз видела-слышала, помнила: в стихах ее изобильно, радужно и призрачно плясали самовары, сарафаны, гроздья рябины, балалайки и гармошки, избы и бани, ромашковые венки, белые березы, гой ты ширь моя родная, васильки цветут во ржи, лучше я тебя не знаю, ты мне правду расскажи, гульбище да ты мое разудалое, а я такая красивая-небывалая, пустись в пляс, в последний раз, ой, не могу, стою на берегу!
Лепешки из опилок… дайте настоящую хлебную плоть! И настоящий речной, рыбный дух! Хочу настоящего парного молока и настоящей земляники! Хочу настоящей, великой земли! Настоящей родины! Настоящей, святой боли и радости! Хочу правды! Искусная ложь, плакатная скука, яркая нелепица; на живых щеках и губах густые мертвые румяна и жгучая помада; крашеный обман на просторах чужих лиц и родных времен; не гневайся, не плачь и не тоскуй, спокойно гляди на бесконечные картонные баранки и бутафорские самовары и смиренно слушай бесчисленные фальшивые сельские хоры: пойте, ребята, голосите, наслаждайтесь, кто в лес, кто по дрова, каждый утешается чем может.
Много лет прошло. Или мало? Может, пять, может, десять, а может, пятнадцать, а может, и все двадцать. Кто тогда считал, кто считает теперь? Выстучи одним пальцем вечную колыбельную на рояле времени. Музыку я оставила ради нищих и царских слов, что писала то в столбик, то в строчку. Я любила огненное слово «художник». Художник, этим словом крещен был человек, свободно рождающий свободное искусство. Муж стоял в мастерской у мольберта, живописец за работой; а я сидела рядом за столом, и стол был завален рукописями, вспыхивал мутным экраном вездесущего новомодного прибора, в его железных недрах могло много чего храниться - от твоих сбивчивых, воробьиных признаний в любви до давящей мощи Всемирной Библиотеки, - а мы трудились, рождали на свет то, чего не было еще никогда; так мы, художники, отрабатывали Богу данный Им непонятный дар. Мне часто говорили: дар - крест! Я мотала головой: нет, дар - счастье.
В шкафах вставали на полках в ряд, как солдаты, книги мои. Муж возил картины по свету, выставлял их под пылающими люстрами в нарядных торжественных залах, и люди восхищались его холстами, а иные не понимали их и плевали в них. Всякое отношение мы видели к созданиям рук своих и сердца своего, и смотрели на это спокойно, хотя, конечно, огорчали нас плевки и поношения, но рядом вспыхивали пылкие признания и чистые восторги. Бренна людская любовь, кратко живет и людское поклонение. А людская злоба и ненависть? Сколько она живет? До старости доживает? И умирает своею смертью? Или злоба бессмертна? Я ничего не знала об этом. Я все время повторяла слова старинного поэта: но ты, художник, твердо веруй в начала и концы. Ты знай, где стерегут нас Ад и Рай. У нас родились дети. Один мальчик и другой мальчик. Как они росли? Не помню трудностей; помню только любовь. Дети взрослели, жили своей жизнью, а мы, внутри своего искусства и своей бедной мастерской, жили своим любимым искусством и любовью своею.
И никто не знал… никто… А можно, я красного вина глотну?.. немного… Вот так… спасибо… хватит. Полный бокал?.. да зачем полный… придется теперь весь пить… до дна… ничего, весь выпью?.. я пить хочу, жажду.
Трудный рассказ получится. Дайте жажду утолить. Это вступление, еще цветочки, горькие ягодки впереди.
О, мои пастухи словесных овец... о, благодарю, Создатель и Творец... за каждый алмаз, за всякий изумруд... словеса бессмертны, это люди умрут... Я вас, овцы мои, я вас тоже пасу... во звездных полях... в заоблачном, незабвенном лесу... хожу-брожу средь тучных полночных стад... дрожащими пальцами рву спелый виноград... топазы, аметисты, цитрины слов... вот сей же час во мраке найду золотую любовь...
...еще отойди назад. На шаг. Всяк человек, даже царь, бедняк. Ты просто спишь. Проснешься когда? Когда под рукой утекут моря, города. Ты просто в забвеньи. Ты просто забыт, древний язык, заклинанье обид. Ты древний народ. Вопишь из пелен. На площади наглой - сегодня - казнен.
Включила я как-то волшебный железный ящик, где вся память мира хранится под квадратным железным лбом, брожу по просторам тогдашней, призрачной Всемирной Сети, и вдруг натыкаюсь на свои стихи. И опять - на переделанные, источенные чужим червем, обданные чужим дыханьем, но - мои! Неужели я бы их не узнала! Да за версту! И читаю, читаю жадно, страшно, и погружаюсь… все глубже погружаюсь в ужас, вязну в нем, выбраться не могу…
Вот мои! Народ, терпения наберись! Мне - за них - не стыдно. Потому что они мои и только мои.
...в этой гиблой земле, что подобна костру, разворошенному кочергою, я стою на тугом, на железном ветру, обнимающем Время нагое. Ну же, здравствуй, рубаха наш парень Норд-Ост, наш трудяга, замотанный в доску, наш огонь, что глядит на поветь и погост Аввакумом из хриплой повозки! Наши лики ты жесткой клешнею цеплял, Мономаховы шапки срывая. Ты пешней ударял во дворец и в централ, дул пургой на излом каравая! Нашу землю ты хладною дланью крестил. Бинтовал все границы сквозные. Ты вершины рубил. Ты под корень косил! Вот и выросли дети стальные. Вот они - ферросплавы, титан и чугун, вот - торчащие ржавые колья… Зри, Норд-Ост! Уж ни Сирин нам, ни Гамаюн не споют над любовью и болью - только ты, смертоносный, с прищуром, Восток, ты пируешь на сгибших равнинах - царь костлявый, в посту и молитве жесток, царь, копье направляющий в сына, царь мой, Ветер Барачный, бедняк и батрак, лучезарные бэры несущий на крылах! и рентгенами плавящий мрак! И сосцы той волчицы сосущий, что не Ромула-Рема - голодных бичей из подземок на площади скинет… Вой, Норд-Ост! Вой, наш Ветер - сиротский, ничей: это племя в безвестии сгинет! Это племя себе уже мылит петлю, этот вихрь приговор завывает, - ветер, это конец! Но тебя я - люблю, ибо я лишь тобою - живая! Что видала я в мире? Да лихость одну. А свободу - в кредит и в рассрочку. И кудлатую шубу навстречь распахну. И рвану кружевную сорочку. И, нагая, стою на разбойном ветру, на поющем секиру и славу, - я стою и не верю, что завтра умру - ведь Норд-Ост меня любит, шалаву! Не спущусь я в бетонную вашу нору. Не забьюсь за алтарное злато. До конца, до венца - на юру, на ветру, им поята, на нем и распята.
О-о-о… Тяжко мне здесь, старой, сейчас, вам, молоденьким петушкам, эти старые стихи бормотать. Ничего, что хриплю? Извините. Старая глотка, изработанная. Сколько концертов… сколько сцен… и вот… себя как в зеркале я вижу, ха-ха… но это зеркало мне… льстит?.. или внезапно разбивается на тысячу осколков, и осколки те, мелкие, злобные, ледяные, впиваются в меня… да норовят - прямо в сердце.
...выбежать на улицу. Бежать по асфальту, как по острым камням. Поворот, и вспыхивают церковные купола, один грязно-болотный, другой густо-синий, по нему бегут, сшибаются в вышине золотые звезды, третий сладко-желтый, медовый. А четвертый слепяще-алый, а пятый весело-зеленый, зеленей бархатной травы. Я огибаю церковь, шаги мои становятся мельче, смущеннее, осторожнее, печальнее; наконец, я останавливаюсь, гляжу на купола, голову задрав, и медленно, стыдно крещусь. Господи! Люди, люди, да ведь мы тогда еще верили в Бога!
...а потом, закрыв глаза, срываюсь с места и бегу, бегу вперед, по узкой кривой, как турецкий ятаган, темной улице, вечереет быстро и бесповоротно, выбегаю на откос, и внизу светится серым, синим потусторонним перламутром моя родная река, широкая, как вся жизнь, и по левую руку мою в большую реку впадает река поменьше, другая, она светится иным, призрачным, бледно-золотым светом, и я гляжу на обе реки, ничего не вижу сквозь слезы, и мой город внезапно предстает передо мной каменным сундуком, полным восточных, ханских сокровищ, надо только отомкнуть ржавый тяжелый замок и оторвать, отбросить прочь жестяную, цвета земли и грязи, ржавую крышу, избитую дождями, поцелованную снегами, - а там!.. там чего только нет!.. накопили подарков за долгую жизнь, в боях похитили у врага бесценные сокровища: кольца арок, надетые на бешеные пальцы осеннего ветра, яркие, слепящие перстни фонарей, играют лучами и гранями, рубины и топазы намертво вбиты в ночной выгиб черного вечного купола, деревянные, грубо размалеванные травяно-зеленой масляной краской пристани вмерзают в первый, тончайший паутинный лед, по тому льду нельзя безнаказанно ходить человеку, только ангелу, - чугунные цепи тихо звенят на ветру на каменной тюремной груди, мелькают и плачут кресты, они птицы, распятые на отчаянных собственных крыльях, затерянные в грозовом небе, их пламенный смоляной ветер качает, перекатывает с крыла на крыло, а в этом году с запада - вот она, в зените! - идет последняя, страшная гроза, и уже ударяют вдоль зубчатых стен и краснокирпичных башен длинные золотые плети молний; а вот россыпи лестниц-бус, мраморных ожерелий, они связками обхватывают кудрявые головы гор, и костлявые руки деревьев обреченно тянутся: то ли обнять, то ли похитить, пока роскошный сундук беспечно раззявлен, распахнут в жадной ночи. Город восточных сокровищ! По большой реке издалека, с юга медленно движутся угрюмые корабли, плоские баржи, под завязку груженные щебенкой и углем, сонные, томные красавицы-лодки. Пыхтят смрадные катера. Все это было или еще только будет? Ночь, шепчу я, скажи, завтра-то у нас будет - или его больше не будет никогда? Мы не знаем завтра, ночь! Мы так хотим, чтобы оно пришло! Мы молим: умру, да, но только не завтра!
Я стою над моею рекой, и горит она серым купеческим срезом глазастого агата, царского гладкого халцедона, и отражаются в ней разом все, еще живые, мои купола; мои дворцы; мои лачуги. Мой город - столица ночи. Он несметно богат. Браслеты латунных трамвайных рельс и серебряных железных дорог обнимают его нежные дождевые руки и речную, текучую гибкую шею. Он дышит мне в лицо вонючим тоскливым бензином, и это самолучшие его, изысканные духи. Смог взлетает вверх и превращается в неслышный полет: то летят над осенними холодными крышами заоблачные души. Сколько людей здесь жило до меня! Сколько будет жить после меня! А что, неужели будет война?
И неужели все люди - все! - возненавидят друг друга?
И, главное, убьют, убьют друг друга?
А ветер? Ветер! Ты бьешь меня наотмашь, в грудь и в спину! Ты валишь меня наземь, чтобы не удержалась я за хвост черной, скользкой как стерлядь ночи и покатилась с откоса вниз, к реке, жалко и жарко крича! Ветер! Ты тоже сокровище. Ртом хватаю тебя. Сердцем. Сердце мое становится тобой, ветер. Сегодня я люблю тебя! Стань моими словами! Моей кровью! Моим хлещущим водопадом ханских, степных и вьюжных алмазов! Стань моим зеркалом!
...загляни в зеркало свое. Свое?! Чужое! Белокурое, снеговое, метельное, позёмное. Обовьет поземка ночи, вьюга накинет петлю на шею. Рвись не рвись, не вырвешься!
...в зеркало чужое, кривое... гляди...
...кривое?.. врешь, тоже красивое... сверкает инеем...
...ветер, рвешь ты мне сердце. Ты в сердце летишь! Из времен баснословных и славных. Над Кремлями, над скатами нищенских крыш и над стогнами гласов державных! Ветер-огнь, я кричу тебе: я вся твоя! Ты мой князь, монастырский мой трудник! Мой костер, приговор на краю бытия, льда секирного пламенный рудник! Мой тюремщик! Свободу в кострище спалю! Брошу в белое пламя разбоя! Мой полярный, жестокий, тебя я люблю, Ты мой Бог, я жива лишь тобою! Попрошайка и царь, и вельможа и смерд, ты из прошлых веков налетаешь! Мономахову видел ты скорбную смерть! Тебе кланялась Ольга святая! Не нужна мне свобода! Любить мне тебя - счастье то иль несчастье, гадаю! Ветер, вся ты моя ледяная судьба, вся - бессмертная и молодая! Я рубашку навстречу тебе расстегну! Грудь подставлю! Целуй! Нету страха! Ветер северный, любишь меня ты одну! А с тобой - и на трон, и на плаху!
***
Ну? Вы все поняли? И я тогда, давным-давно, тоже все, все поняла. Но если бы вы знали, как мне было больно! И как же мне было смешно! Ему и больно и смешно, а мать грозит ему в окно… откуда это? А, великий поэт сказал. И что же? Мы повторяем слова друг друга? Да, повторяем. У нас повторяются слова. У нас совпадают мысли. Жизнь, знаете, это вообще одна великая реприза. Все одинаково. Все узнаваемо. Даже музыку Моцарта можно скопировать. Что несчастный козел Сальери и делал. Очень, видать, Сальери Моцарту завидовал.
Оглянусь назад... погляжу вперед... все туман... Я вам тут говорю, говорю… а туман все гуще... налейте еще вина… да, вот так, чуть-чуть, спасибо. Не бойтесь, я не опьянею. У меня старая закалка.
Нет, я не пьяная. И не при смерти. В здравом уме и твердой памяти. А если меня сфотографировать в темной комнате, при хорошем освещении, правильном… свечку зажечь… или настольную лампу… я еще за молоденькую запросто сойду. Только не подходите близко. Я тигренок, а не киска. Морщины увидите. И седину. Зимнюю, ледяную, страшную мою башку. Тигренок… киска… а это кто написал?.. а кто у него это - украл?..
Листаю на экране жесткой железной машины, ловящей в страшную вьюжную Сеть чужие мысли и жизни, призрачные страницы... дальше, дальше. Вижу воочию стихи свои - исковерканные, перекроенные, накарябанные чужою рукой - и цепенею. И знаете, какая мысль мелькает? Простая: лучше бы я умерла, и у меня, мертвой, все бы это безнаказанно тащили. И к своему лбу, животу и заду - горделиво клеили. Ведь это же так просто… ну, тащить, воровать… сломай ребра, запусти в живую тьму руки, сердце чужое вырви... давай, тащи... живое, бьющееся, в живой липкой крови…
Читаю… дрожу… Руки, знаете, похолодели. Будто я уже умерла.
И вот еще один свой несчастный стих прочитаю; слушайте; он был мне из самых моих любимых, кровно выношенных, я написала его сразу после рождения моего сыночка, первенца, и, царапая бешеным пером по бумаге, так горячо, плотно переродилась, переселилась в стародавние времена, почувствовала себя молодою царицей, вольно перетекла в ее шкуру, под ее холеную белую кожу, - и вот я на царском ложе, под присмотром царских повитух, в белой длинной снеговой рубахе, сына рожаю… а он потом - погибнет в бою, на войне…
...ноги маленькой церквушки моют ясные ручьи. На горячечной подушке - щеки жаркие мои. Я рожаю. Неужели Святки, сани, Страшный Суд, колыбели и купели - все вот к этому ведут?! Раздерут парчовый полог руки толстых повитух: - Ох, царица, день недолог - примем, примем сразу двух! Заволокнут слепотою, как окошком слюдяным, белый свет. И надо мною - Из кадила - белый дым. Что, никак уж отпевают?!.. Медь оклада жжет губу… Больно - я еще живая! В простынях, а не в гробу! Глаз смолою застывает. Яблоком - в росинках - лоб. Нарастает, опадает тела бешеный сугроб. Не хочу уже ни счастья, ни наследья, ни венца - умереть бы в одночасье, чтоб не видели лица! И в последней смертной муке, бабе данной на роду, простыню отжали руки, как крестьянка на пруду! И скользнула жизни рыбка из глубин моих морей! И взошла моя улыбка, как у Божьих Матерей! - Покажите мне, - хриплю я. Повитухи машут: - Кыш, дочку краше намалюешь, как по маслу, породишь!.. Но и сын твой тож прекрасный!.. А тебе не все ль равно?.. Был царевич темно-красный, как заморское вино. И заморский важный лекарь, как на плахе, весь дрожит, над рожденным Человеком старым Богом ворожит. Об одном молиться буду и в жару, и в холода: "Смертны все... Яви же чудо - пусть он будет жить всегда!" Но над миром трубы грянут. Про войну приснится сон. И в глаза мои заглянут очи сорванных икон. Тот комочек вечной плоти, что когда-то жил во мне - в чистом поле, в конском поте умирает на войне. Кинутся ко мне: - Царица!.. Волю бабьим воплям дам. И на площадях столицы много золота раздам. И руками, как окладом, закрывая черный лик, вдруг услышу где-то рядом колыбельный резкий крик.
Отопью глоток… Ах, сладко... горько... Слушайте, слушайте… вот опять в иное зеркало гляжу... глаз не отвожу... а-ха-ха!..
...в старой сказке - город княжий. Снова день сменяет ночь. С болью я совсем не слажу: нынче я рожаю дочь. Русь - иконы, Святки, сани, князь уехал далеко… Гляну слезными глазами! Боль близка, как молоко! Стоны, вопли и рыданья, слепну вновь от боли я! Как овечка на закланье! Крики - вся моя семья! Тычут мамки мне икону да к искусанному рту: я целую среди стонов Богородицу - в поту… «Помоги мне, Мать!» - хриплю я. Господи, Твоя то Мать! Важный лекарь дует-плюет, знать, ума не занимать! Но и пред очами Бога, на пороге бытия, дума о врагах - вас много уничтожит месть моя! Отомщу врагам за мужа! Раздавлю их и сожгу! А рубаха белой стужей застывает на боку… Дочь иль сын?! Не знаю! Тужусь! И на свет явилась вдруг дочь - любовь моя и мужа, бьется рыбой в кольцах рук! «Доченька твоя прекрасна!» - слышу звоны-голоса. Мамки мне поют осанну, больше плакать мне нельзя! Княжий лекарь на отлете держит, стоя в стороне, тот комочек вечной плоти, что недавно жил во мне!
...перед стихами стояло имя.
...я твердила, твердила, все твердила шепотом, повторяла это имя, глядя на мигающий тусклый экран.
…сидела долго в оцепенении.
В те наши времена, знаете, были в Сети такие незримые гостиные; ну, тот, кто не мог вживую свидеться с друзьями, ну вот как мы с вами, залезал на экране в эти самые призрачные, дымные гостиные, садился к призрачному столу, пил воображаемый чай-кофе, подливая якобы горячее питье в выдуманную чашку из ненастоящего чайника, и там, во сне наяву, с людьми о том, о сем разговаривал. Иногда ночь напролет с приятелями болтал, болтался в ловчей Сети днями и ночами. Я, ошеломленная, потрясенная, захотела крикнуть незримым людям, своим далеким друзьям, а может, врагам, разбросанным по свету, что-то отчаянное, а что - не знала. Села за стол, заваленный бумагами, стала нажимать клавиши на клавиатуре. Не рояль, конечно, не орган… не клавесин… какую дикую, непредставимую музыку в преисподней Сети люди каждодневно, ксилофонно играли…
Простучать неслушными пальцами по холодным кругляшкам. На них нарисованы буквы. Буквицы. О, горячая буквица, огненное письмо! В слова слагаешься горько, само. Иероглиф боли. Знак успенья. Буква, последняя гибель твоя. Буква, последний младенец, живой, голомя. Пей мя! Ешь мя! Режь мя! Возожги! Не враги! Обними! Буквы, вчера мы были людьми! Прижмись крепче... не плачь, дитя, уймись... во тьме не утонешь... такая жизнь... за плечи мои крепче держись...
«ЛЮДИ! ДОРОГИЕ! У ВАС КРАЛИ ЧТО-НИБУДЬ КОГДА-НИБУДЬ?!»
Я торопливо объясняла народу, в чем дело, спрашивала совета, изумлялась, опять стучала по клавишам, наконец застыла… ком жизни - перед сгустком железа…
И тут посыпалось! Конечно, крали у всех и всегда! Еще как крали! На каждом шагу! Тайно и явно! Люди без кражи не живут! Жизнь без кражи не проживают! «А кто?! Кто тебя-то обидел?! Кто у тебя-то стащил?! Имя! Имя!» Я не хотела называть имя. Передо мной встала Виолетта как живая - с коком рыжих кудрявых волос надо лбом, с намалеванными алым сердечком губами, с весело нарумяненными щеками и пьяно-блестящими глазами, с высокой, как торт, грудью и пухлыми плечами, в кофточке с мещанскими рюшами и в блестящих, как рыбий хвост, лосинах. Она напоминала мне всегда румяную куклу. Или румяную бойкую буфетчицу из вокзального ресторана. И мне стало, знаете, Ветку - жалко! Я отвечаю на вопросы незримых собеседников, буквы мои прыгают по табачному сизому воздуху бредовой гостиной: «Да так, поэтесса одна, не юная, в летах, вы, ребята, не знаете ее, она не из нашего города, она из дальней деревни, она стихи пишет такие, а ля рюс, баранки-самовары, калина-рябина, ну, что-то там о любви, как у нас, бабенок, водится, ну вот, видать, мои-то вещи ей сильно понравились. Ну и цапнула блин с икрой с моего стола! Очаровалась!» Имя не называю, нет, нет! Ни в коем случае! Нельзя по имени называть зло! Оно должно истаять само! И еще пытаюсь шутить.
А вы знаете, что имени ее я так никогда и нигде не назвала?
Но Сеть эта чертова в те времена так хитро была устроена, и так лукаво сварганены были все эти лунные людские хороводы в ней, что любой человек туда мог через волшебный железный ящик зайти - и хороводить всласть, и все-все святые тайны прочитать, и все-все малые хитрые клювы-хвосты-плавники-когти, все морщины и снежные пряди - как в лупу, увидать. Сейчас несчастные люди по-другому держат связь. По-старинному. Без связи человеку нельзя. Он же живет в мире себе подобных. Муравьи держат связь, пчелы держат связь. Даже клопы-солдатики, и те держат связь. Даже комары. И кудрявая мадам Виолетта в то общество, в Сеть, зашла-заплыла крупной рыбой, и тут же узрела мой вопль: «У ВАС КРАЛИ ЧТО-НИБУДЬ?!» - и немедленно все про себя поняла, а как же, есть такая старая пословица, на воре шапка горит, так вот на Ветке сразу вспыхнули ярким пламенем десять зимних, роскошных, песцовых и норковых шапок.
А надо вам сказать, что Виолетта эта отнюдь не бедная девушка была; она занималась непонятным бизнесом и немало в нем преуспела; мы с мужем ютились в подвале, в нашей бедной мастерской, и муж все шутил горько: «Нищий художник и нагая модель!..» - а Ветка с ее семейством жила в огромном особняке, залихватски гоняла лаковый черный джип, держала пять дачных домов у озера и сдавала их внаем на лето, словом, была она тем, что в наши далекие времена называли изысканно, по-чужеземному: «бизнесвумен», и это было ни хорошо, ни плохо, такая была ее судьба, но вот на беду свою она еще упоенно, без устали, без перерыва на обед царапала по бумаге бойким пером, аккуратно складывала слова в столбик: калина-рябина, сладкая малина! Видать, прославиться хотела.
Калина... рябина... я сама так любила калину, рябину... знаете, когда морозы ударят, как рябина - с ветки - сладка... с ветки... с ветки...
Знаете, я у философа Харальда Шмидта, был такой в старину, вы-то уже забыли, а жаль, жил на свете такой ученый многодумный дядька, вот что однажды прочитала. Что есть разные типы людей. Есть человек-слуга. Он покорно и аккуратно прислуживает другому. Тому, кто сильнее. У него в этом есть своя молчаливая корысть. Слабому около сильного всегда сладко погреться. Есть, к примеру, воинственный. Воинственный - это не значит жестокий или там убийца. Солдат или генерал. Нет. Воинственный, так этот умнющий старик Шмидт полагал, это тот, кто тайно или явно крадет у другого. А почему? Потому, что у него этого нет? Не угадали! У него все есть! Но ему кажется: у другого - лучше. Красивее! Вкуснее!
Особый, тайный талант. Копеечный дар. Лихо варьировать. Грациозно перенимать. Нагло похищать. Чужие возгласы. Подсмотренные объятия. Далекая музыка. Сбивчивый шепот. Клянусь, она сама даже не могла бы сказать, у кого она все это походя тащила. Не назвала бы имен. Она делала это бессознательно; так дети больно и жестоко бьют других детей: не по злобе, просто так. От веселья.
...ты один на всей земле думаешь своими мыслями, чувствуешь своими чувствами. И говоришь - своими словами! И твои мысли, знаки и слова - они выстраданы тобой. Они как твои слезы, что текут по твоим щекам. А тут? Пришел, увидел, взял, переделал. И - победил! Так все просто!
Я пыталась Виолетту пожалеть. Ну, знаете, вообще простить. Простить и забыть, что она натворила. А она тут как тут. Появилась! Забросала меня письмами и записками: «Леличка, золотая моя, изумрудная, рубиновая, прости меня!», «Олик, зачем же ты так обо мне, я же так больше не буду!», «Олюша, помни, я тебя, солнышко, всегда от врагов защищу! Я же всегда всех защищаю!» Ну да, да, успокойся, давай по-божески, по-человечески, все всё поняли, и ты тоже, ну нормально, простили, забыли, проехали, будем жить дальше, работать, творить, людей художеством радовать.
Давай-давай, она мне кричит, давай-давай! Не зевай! Налетай! Вкусный каравай!
Я пыталась вместе с ней смеяться. Трудно вторить притворному смеху. Я люблю смех настоящий. Смех...
...смех... Вы не думайте, я ничего не испугалась, нет... Нет, мне не плохо, нет... И я не разучилась смеяться... И даже над собой... Просто... просто...
...смех... Я однажды в лицо увидала его...
...он - страшен...
***
И вот однажды получаю я от Виолетты письмо.
«Олечка! лапочка! душенька! Посылаю тебе статью о тебе! Надеюсь, что тебе она придется по душе! Конечно, я не отрицаю, я согласна, что во многих своих стихах подражала тебе. Но ведь это же старые стихи! Ранние! Сто лет назад! Бог с ними! Мы же сейчас пишем все новое! Я люблю тебя все больше! Твоя Виолетта».
...твердила себе: читай до конца... читай до конца...
Просите и вам прочитать?.. сейчас я, сейчас… Вот только бумажечку из кармана достану, ближе к глазам поднесу... бумагу ту всю жизнь хранила... свой ужас - как образок... у тела, у сердца... чтобы больнее обжигал... я, дорогие, по старинке… ах, до чего жаль, очки дома забыла... но разберу строчки, разберу... вижу, вижу... а может, помню... помню... сколько раз я их читала... и плакала... плакала...
***
...художница в красном. Вы только вообразите себе ее!
Сидит в мастерской у мольберта. С виду царица, а нутром Баба Яга. Красное, цвета крови, платье ниспадает до пола мягкими соблазнительными складками. Палитра и кисти - в руках. Кисти валяются и на полу, на диванах, везде. Она кладет мазки на туго натянутый холст. Еще долго до конца работы. Но, о чудо, внезапно останавливается быстротекущее время.
Перестали колыхаться волны великого моря. Пускай лишь на мгновенье. Замерло их вечное движенье. Остановили бег морские соленые слезы. Летит по небу заблудший ангел, мановеньем руки хочет оживить просторы моря, чтобы оно взвилось белой пеной, заволновалось, ожило, - напрасно! Ведь этот мир подло заморозила тайная колдунья у мольберта - она же созидает, мыслит, творит! Это она так думает. На самом деле она разрушает, злобствует, сжигает. Ах, кто из художников не желал остановить время? Вспомним Фауста: остановись, мгновенье, ты прекрасно!
Вот как ненавидяще колдует царица-чернавка, вот как она убивает время, глядите, как оно, застывая на глазах, становится мертвым, безжизненным:
...сибирская пагода! Пряник-медок! Гарь карточных злых поездов! Морозным жарком ты свернулась у ног, петроглифом диких котов… Зверье в тебе всякое… Тянет леса в медалях сребра – омулей… И розовой кошки меж кедров – глаза, и серпики лунных когтей!.. Летела, летела и я над Землей, обхватывал взор горький Шар, – а ты все такая ж: рыдаешь смолой в платок свой – таежный пожар! Все то же, Сибирюшка, радость моя: заимок органный кедрач, стихиры мерзлот, куржака ектенья, гольцы под Луною – хоть плачь!.. Все те же столовки – брусника, блины, и водки граненый стакан – рыбак – прямо в глотку… – все той же страны морозом да горечью пьян! (из стихов Ольги Ереминой)
Серебрятся рыбы, вспыхивает всей чешуей омуль сквозь прозрачность волны, старый босой странник подбредает по берегу к самой воде. Ветер, а старик не мерзнет. Его согревает золотая пыльца веков. Да бросьте, все это мираж, картон, пластмасса. Эй, вы! Застыньте на том берегу! На холодном ветру! Вас рисует дьяволица в красном. Да, все застыло! Замерло! Вот как мы можем, а! Все сразу заморозить! В жестоком рефрижераторе! Для чертовой вечности! Расчетливая дрянь сама выбрала из вереницы событий, жестко вычислила и холодно остановила нужный миг. Да что вы там столпились все?! Ближе, ближе! Восхищайтесь, плачьте, рыдайте, восторгайтесь! Слышите, что-то железное ледяно щелкнуло в вас?! А, вы так же захотели, как она? Мастерица? Каменное сердце? Убийца всего живого? Самой пламенной, огнекрылой поэзии убийца? Ну давайте, учитесь, перенимайте ледяное искусство! Остановите время! Как она, палачиха! А? Что? Не под силу?! Не сдюжите?!
...Сибирь, моя Матерь! Байкал, мой Отец! Бродяжка вам ирмос поет и плачет, и верит: еще не конец, еще погляжусь в синий лед! Поправлю в ушах дорогой лазурит, тулуп распахну на ветру – Байкал!.. не костер в снегу – сердце горит, а как догорит – я умру. Как Анну свою Тимиреву Колчак, взял, плача, под лед Ангары, – возьми ты в торосы, Байкал, меня – так!.. – в ход Звездной ельцовой Икры, и в омуля Ночь, в галактический ход пылающе-фосфорных Рыб, в лимон Рождества, в Ориона полет, в Дацан флюоритовых глыб! (из стихов Ольги Ереминой)
Ай-яй-яй, как красиво! Дух захватывает! Стихи - это вино, коньяк, опиум, это сновидение, которое вы все, там, в зале, в партере, готовы смотреть хоть века напролет! Это как любовь, страсть, и упоенно целуются возлюбленные, поэзия целуется с поэтом, а поэт целуется с небом и звездами! Вся поэзия - это только огненная прелюдия к океану огромного, необъятного космоса!
Сшибаются миры! Разверзаются жар-птичьи радуги! Ароматы, объятия, заклинания, морские кудри, слезки певчих птичек, дух ландыша, ведь идет весна, как Афродита! Весной не думаешь о смерти, весной упиваешься жизнью! А снег? Да его надо уже навек забыть, снег! А нам тут о нем снова жестоко напоминают. А он ведь растаял! Растаял!
...о снег его вытри. Мне в лед этот лечь. Но водки я выпью с тобой – с тобой, Гэсэр-хан, напоследок, за мир кедровый, серебряный, за халат твой монгольский в созвездиях дыр, два омуля – твои глаза, за тот погребальный, багряный огонь, что я разожгла здесь одна… За меч, что ребенком ложится в ладонь, вонзаясь во Время без дна. (из стихов Ольги Ереминой)
Ага! Открыли секрет! Нет у времени дна! Поэтому царица-дьяволица в красном так легко его и остановила! А море-то опять забрызгало! Брызги летят туда-сюда! И в людей, между прочим, попадают! В их доверчивые сердца! А брызги-то… ужас… искусственные. Расплавленная пластмасса это! А не соль моря! А люди-то, доверчивые дураки, так и ходят потом всю жизнь с обожженными сердцами и с сожженными в пепел душами. И я такая же обожженная ходила! Вот, поглядите. Что, считаете, это я тоже у Ереминой позаимствовала? «Вот рожаю. В муках родов, как во сне или хмелю, вечным голосом народа вою, брежу и хриплю!» Или вот, смотрите: «Народ мой, да куда ты побежал, с баулами, корзинами, поклажей? Остановись! Перед тобой вокзал, а ты бежишь, и шпалы пахнут сажей!» Ну да, вы все прекрасно слышите, да-да, словечки перекликаются! Перекликаются темы и образы! Сюжеты сигналят друг другу! Да потому что мы с Ереминой как сестры! Старшая и младшая! Старшая - черная злюка, младшая - невинное сердечко! Ну и что, что молодая стала подражать старой? Так ведь и бывает в жизни! И что, скажете? Нарочно я так? Или непреднамеренно? А понимайте как знаете! Просто у меня особенность памяти такая! Я всё - накрепко запоминаю! Прочитаю целую книгу - и запомню! И воспроизведу! Легко! А Еремина - она что? Она - скорый поезд! Летит! На всю округу гудит! А я что? Я-то тоже поезд! И тоже лечу! И нахватаю по дороге того, сего! Всяких-разных пассажиров! И что, вот очаровалась я как-то ереминским «Изгнанием из Рая», так что теперь, голоса нам не сливать, ни дуэтом, ни хором уж не петь?!
…Вот твой путь, сумасшедшая грешница. Вот повозка стальная. Вот трясутся кровать и столешница на булыжниках Рая. И заплакала я. И метелица била в ребра, как выстрел. Жизнь, ты бисер! Ты килька, безделица! Чёрный жемчуг бурмистров! Пиво в Райской канистре шоферичьей… Дай хоть им поторгую… Об изгнанье из Рая – без горечи и без слёз… – не могу я… (из стихов Ольги Ереминой)
...Ева - я, круговерть, полоумная грешница, и в возке сумасшедшем я трясусь, бьюсь посудой на старой столешнице, бьюсь над жизнью прошедшей! Плачу я над собой. И гуляет метелица, эшафот обнимает. Жизнь, дешевая брошка, слепая безделица! Побирушка немая! Плачу: смерть, погоди! Мои слезы небесные! Вот - изгнали из Рая! Все же было по правде, по-честному, я о правде рыдаю! (из стихов Виолетты Волковой)
И вот так ереминские стихи проросли в мои, и что я теперь, преступница?! И что, поезду второму теперь гудеть беззвучно, что ли?! А первый поезд - о!.. это прима в нем катит, царица-дьяволица-примадонна, да! А мы все, значит, в сору найдены?! И ей одной только позволено?! Вы говорите, искусство должно быть неповторимо, уникально? Ой-ей-ей! Позвольте вам не поверить! Все друг у друга крадут! Все - лямзят! Все - тащат! А примадонна-то что все эти годы молчала в тряпочку? Молчала-молчала и приговор мой вымолчала? Истину выстрадала? Поди, значит, прочь, вон с моей дороги, воровка Волкова, презренная гадина, мой скорый тебя сейчас задавит, подомнет?
А мне что, выходит, на колени перед ней, царицей, бросаться? Лбом об пол бить? Прощенья молить?!
Да бросьте! Она же и виновата! Ваша примадонна, Ольга Еремина! Слишком громко гудел ее локомотив! А я-то, дура, эти оглушительные гудки, очарованная, повторяла!
А если поглубже в вашу любимую Еремину заглянуть? Может, вы там кого другого и обнаружите, не только ее, родимую?! Ах-ха-ха! Так и есть! У красного-то царицына платья - хитрые ведьмины отделочки, рюшки, воланы, вышивочки… та-а-а-ак, рассмотрим под лупой… ого-го! Тут и Овстугов! И гениальный Сердолик! И даже Ульяна Танкистка! Ага, значит, ей можно, а мне нельзя?! Мне что, свои рукописи в костер?! И сжечь? А дым-то, дым-то от моей бумаги по ветру взовьется! И кто-нибудь наивный его нанюхается… вот горе-то!
Ах, да я догадалась, это ведь моя бедная глупая башка виновата. Все впитывает, как губка! Все подбирает! Всем питается! Как голубь летучий. Ну блондинка я крашеная, сразу понятно, что тупая. Я такая женщина-женщина-женщина! А вы мне: эй, дура, вину перед царицей искупай, под поезд бросайся! Тогда поверят, что ты белая и пушистая!
А у меня, между прочим, кроме стихов моих, ничего-то в жизни и нет, никакой, грубо говоря, отрады. А у нее? У знаменитой ведьмы вашей?!
...Ножом – звезду: лопатка и хребет в крови! – пятиконечную – рисуй. Дай рис – на завтрак, ужин и обед. Дай руку мне! России больше нет. (Ольга Еремина)
...Глядите же: нет родины моей... нет радости моей... (Егор Ивановский)
...Той земли на суше и море - нет… Все картографы обманулись... (Анна Царева)
Ха-ха-ха! Так вот как просто ларчик открывался! Диво дивное! И Еремина ворует! Да еще как! Видите, как ловко! Прямо слова, фразы выхватывает беззастенчиво из шкатулок своих великих предшественников - и в свою чудесную картину на самое видное место всаживает! А вы повторяете на разные лады, как попугаи: подленькие сочинители крадут то, что плохо лежит! Крадут?! Да! Крадут! Во все времена крали! И во все века крали! И вот это ваше любимое, ереминское - огненное, трагическое, высокое, ширококрылое, вольное - может, тоже откуда-то благополучно, втихаря и подло скрадено? Да наверняка скрадено! Только вы все о том молчите! А потому что вам же надо сотворить себе кумирчика, кумира! Вы же - толпа! Без кумира - не можете!
...И пусть меня поставят к стенке – пли! И пусть ведут ко рву, и крик: стреляй! Я упаду на грудь моей земли. И – топором руби. Штыком коли. Да буду я лежать в родной пыли. Будь проклят, бой, жемчужный твой Шанхай. (из стихов Ольги Ереминой)
Да! Скрадено! И я знаю, откуда! Да не скажу!
Ага! Момент истины! И нас тоже всех - расстрелять, скопом?! Нас! Тех, кто посмел попользоваться чужими мыслями и идеями! Нас, впитавших и взлелеявших самое любимое, самое-пресамое! Ах да, мы, убитые, мертвые, мы уже безопасны, безвредны! Мы уже больше никогда и ничего ни у кого не украдем! Мы, мертвецы, сразу станем святыми! А тот, кто еще жив, да кто держит в себе все насмерть полюбленное, накрепко запомненное и где-то от души - от сердца - да! да! - использованное, повторенное, - ну и что, за то, что мы кого-то повторили, у кого-то что-то стащили, мы уже навеки - гады ползучие, шваль прокаженная?! О, е-мое! Старая сказка про Царевну-Лягушку! Там-то один подлый Кощей был. А мы теперь - все Кощеи. Смерть наша - иглой в яйце! Достань попробуй корзину, где яйцо то лежит, с того высокого дуба! Не долезешь! Грохнешься оземь и все кости разобьешь! И правильно говорят: с дуба рухнул!
А все-таки как прекрасны эти стихи, пусть даже наглая Еремина их и стянула откуда-то, не знаю:
...В это небо большое, где будем лететь все мы, все мы, когда оборвется звук… Мне бы в танце – с тобой – вот так – умереть, в вековом кольце ВСЁ простивших рук… (из стихов Ольги Ереминой)
Короче, дело к ночи. Мы что, все чужие друг другу? А может, мы все родные? И можно нам безнаказанно друг у друга красть - читай: открыто друг друга любить! Кража и любовь - вот вы скажите мне, чем они отличаются! По мне, так ничем! Знаете, у богачей клич есть такой: «Крадите и делитесь!» Вот и мы так же, поэты. Крадем друг у друга и делимся! Одно тесто у нас, один замес! Просто в одной булочке есть изюмчик, а в другой нет! В одном супчике плавает телятина, а в другом плавает не скажу что! И есть ты тот суп не будешь, хоть тресни! Что за чудо это воровство! Воруй не хочу!
***
…вот, люди, все, на этом статья Веткина и закончилась. Спасибо вам... что выслушали... а мне спасибо, что... прочитала... смогла прочитать, и не сбилась ни разу... Меня в писании этом Веткином знаете что поразило? Не упреки в том, что я ворую у великих поэтов. А это замечание походя, вскользь: я, молодая, ворую у старой. У старой? Ветка была младше меня всего на три года. Хоть смейся, хоть плачь.
Я вслух прочитала Веткину статью мужу. Он терпеливо выслушал мое отчаянное бормотанье и веско сказал одну важную вещь. Я эту вещь крепко запомнила. «Подожди немного, и Ветка начнет обвинять тебя в том, что ты у нее стихи воруешь!» Я затрясла головой, нет, нет, такого быть не может, это уж слишком! Муж усмехнулся: «Вот увидишь!»
Налейте еще вина… совсем немного… совсем… вот так, спасибо, спасибо… Очень вкусное… аргентинское?.. французское?.. из старых запасов… сейчас такого не делают… давно не делают… виноград - умер...
Слушайте, люди, а может, и не аргентинское?.. и не французское... А может, вы сами делаете это вино?.. Ну, самодельное такое, наливка... настойка... Ягодки где-то в тайных местах собираете... Раньше все делали, у кого сады были. Я сама настаивала такое вино. Ну, не такое, похожее. Вкус чем-то напоминает... знаете... такой яблочный... не грушевый, нет, груша слаще... А знаете, раньше, когда еще на земле страны были... Франция, такая была страна... там делали превосходное вино. И сидр, ну, это яблочное шампанское, если попросту сказать... и божоле, его к мясу хорошо... и пастис, терпкий, анисовый, на любителя... и, главное, коньяки, коньяки, сорок сортов... и к вину - сыр, это во Франции так было заведено... Я собирала в заброшенных садах яблоки, вишню, смородину, малину... ягод и яблок тогда, после первой войны, много родилось, и крупные они вырастали, прямо страшные. Мне говорили: вредно, все облученное, все загаженное, нельзя. А я все равно настаивала. И пила. С подругой. Подруга все ко мне приходила, бывшая актриса. Читала мне и женские монологи, и мужские. Монолог принца Гамлета читала. Глядела на меня исподлобья. А потом хватала меня за руку и кричала: "Леля! Ты похожа на принца Гамлета! Ну вот ей-богу!"
***
Я думала, этого не будет никогда. Но это случилось. Прав был мой муж. Где случилось? В знаменитой в те времена столичной газете, она и на бумаге выходила, и в Сети крупной рыбой плыла, слова и буквы вместо черной, а может, радужной чешуи; там то и дело печатали стихи Виолетты Волковой. У Виолетты в той газетке выходило по двадцать, по тридцать многословных подборок в год: обольстила Ветка столичных знатоков аленькими губками, аляповато-яркими, цветистыми стихами, подарочным шоколадом да сувенирным коньяком, она так всех поэтов и поучала: «Без конфет да без хорошего коньяка в редакцию и не являйтесь!» А если без шуток - Виолетта, за все эти годы жадным оком проглотив и жадной памятью впитав чертову прорву книг, научилась умело и витиевато рифмовать; правда, с иноземными сверкающими бусами и словесными брошками у нее было все-таки дело швах: она к месту и не к месту вставляла в текст красивые слова «токката», «соната» и «сюита», толком не зная, что они обозначают, «партер» писала как «партер» и рифмовала с «партой», Ромула и Рема называла Ром и Рем, а художника Гюстава Курбэ упрямо именовала «Густав Курве». Выловив в Сети слова знаменитого мэтра обо мне, что я «сплавляю древний миф и слово Первокниг с огненной речью народа, с его рыком и хрипом», Ветка изо всех сил стала набивать свои стихи под завязку старинными славными именами, и в одном ее сочинении запросто могли соседствовать Лаокоон, Персей, пророк Иеремия, Сара Бернар, Жанна д’Арк, царь Борис Годунов, Атлантида, Геродот, Карл Великий, Карл Маркс, Ватерлоо, Кортес, Веласкес, Бандерас и обезглавленная королева Мария-Антуанетта. А может, Мария Стюарт, а какая, черт, разница! Еремина так делает - и я так буду делать! А что! Что, только одной Ереминой так можно?! Так можно - всем! Мифы так мифы! Цари так цари! Короли так короли! Присобачим их к современности! У меня все равно будет круче, чем у Лельки!
Я понимала ход ее мыслей. Ей сейчас было важно не просто стащить у меня тему, сюжет и образ, но живо и ловко освоить и присвоить мои приемы. У всякого свободного художника, согласитесь, они свои. У меня тоже. Я их заработала кровью. Родила, как детей, всею жизнью. Рядом со мной из света и тьмы явился роковой спутник. Преследователь. Двойник. Жрун. Человек, который жадно ел меня, еще живую. Волком шел по моим следам.
Алчба и жажда грызет и человека, и зверя... ах, ризу, вышитую пальмами, надень, ибо Суд Последний у двери... Ах, риза моя златая, звезды на подоле алые, небывалые... вино мое терпкое и духмяное мое брашно, в тюрьме и на воле, и капли кровушки на шее - кораллами... и диавола козней не страшно... Ах, злата-серебра дивная корона со лба моего в грязную лужу падает... Я владычество покупать не желаю... от властелинства отвращаю лик моей памяти... На сем знамом свете, на том неведомом свете - Господи, дай самою собою пребыти Ты мне: за всякий горящий глагол мой в ответе, за всякую нищую боль в прощальном, пытальном Огне...
Я называла свои стихи: «Видение Рая», «Видение Ада», «Видение жены, стоящей за куском хлеба» - очень я любила древний жанр видения, один из древнейших жанров земли, - и Виолетта подсуетилась, быстренько стала точно так же стихи называть: «Видение оркестра», «Видение города», «Видение моря». Я печатала свое «Русское Евангелие» - в Веткиных стихах тут же являлись, во всей красе, рыжекосая Магдалина в метели у Креста и злобный бородатый мужик Иуда, в лаптях, подпоясанный веревкой и с мешком подлых сребреников в руке. Я публиковала новое стихотворение про старинную богачку, плывущую на бедном «Титанике» - обреченный «Титаник» назавтра вплывал в стихи Ветки, угрюмо качался на холодных волнах. Я обнародовала стих «Покупка ткани на рабочую робу и пошив ея», где живописала бабье распятие - к занесенному снегами кресту баба идет в холстине, что во время оно покупала в сельской лавке на берегу Байкала, и робу крутит бешеный ветер сарма, и плачут, воют в сугробах старухи, утирая щеки кулаками. Ветка тут же тиснула в Сети стихотворение «Бабье распятие». Мол, у тебя бабье распятие, и у меня бабье распятие! Я еще не понимала, зачем она это все делает. Победить в забеге? Опередить меня? Кто фаворит гонки? Кто первый, что ли? На первый-второй рассчитайсь?
Я хватала с полки одно лекарство, другое. Ничего не помогало. Сердце билось в глотке, пыталось порвать реберную клетку. Живая птица, и навек в тюрьме.
Я хотела разбить клетку, разорвать костяные прутья жалкими руками и выпустить птицу. Навек.
«Копирует тебя этот цветной да бойкий попугай, - сказал мне однажды один умный старый человек, курил, стоя около казенного окна, - да плюнь, не обращай внимания, слабо ей, ты художница, а она пошлая шансонетка. Разве на шансонеток обижаются? Визгу много, треска, грома и дыма. В любом случае все, что она творит, это тайный повтор; все это, прости, слизано с чьего-то громкого чужого голоса, а она старается орать еще громче, из кожи лезет; ей принадлежит только ее заполошный крик; а тащит-то она у людей отнюдь не слова, а то, откуда они растут; землю эту, волшебную почву, ее плоть, кровь, дух и запах; пишет она изобильно и высокопарно, тратит слишком много кимвально бряцающих буквиц, котурны эти издали пахнут дешевкой и риторикой; поэтический древний зуд мучительно, постоянно жжет ее изнутри; на самом деле ей не о чем писать, и она везде ловит чужих бабочек, откуда поярче вылетит, чтоб поймать и - р-раз, на иголку, себе в коллекцию». Нет, отвечала я умному человеку, вдыхая горький табачный дым, тут дело сложнее; она взахлеб кричит обо всем, что видит, что подворачивается ей под бойкую руку и под прищуренный глаз. "Обо всем - это значит ни о чем", - тихо сказал мне умный старик.
И выкинул окурок в открытое в синий вечер окно.
Разгадка пришла очень скоро. В той самой столичной газете и я, себе на горе, обнародовала стихи; послала их в быстром, мгновенном письме, и их напечатали почти мгновенно. Видать, руководству понравились.
И в Сети, ну, вы сами помните, в те далекие времена можно было под любой публикацией начертать свои слова. Ну, вроде как впечатление свое высказать. А имя? А имя под словами можно было не ставить. А можно было и поставить. Свое. Или выдуманное. "Внимание, глупые поклонники О. Ереминой! Ничего-то вы НЕ ЗНАЕТЕ! Надо отметить, что ЕРЕМИНА, между прочим, бессовестно ПЛАГИАТСТВУЕТ! И не у кого-нибудь, а у самой Виолетты ВОЛКОВОЙ крадет! Вот, глядите-ка..."
Хор возмущенных голосов поднялся, вал покатился. Муж смеялся: «Ну, что я тебе говорил!» Я по-настоящему рассердилась. Ведь мы же помирились! Зачем же так! Взяла и людям написала: «Люди, успокойтесь. Все просто. Это В. Волкова тут голос подала».
Ого-го, как Ветка взвилась! "Да я далеко отсюда вообще! Да у меня тут нет никакого выхода в вашу чертову Сеть! Глухая тайга! Одни комары и медведи! Черт возьми, я как в грязюке выкупалась! Как вам не стыдно, люди! Как вам не совестно! Вы меня грязью вымазали, а сами хотите чистенькими остаться?! Не выйдет! Ничего у вас не выйдет! Еремина коварная и наглая! Кому вы верите, ей или мне?! А вы все на меня ополчились! А я ни сном ни духом! Фу! Гады! Ни стыда у вас, ни совести!"
Месть и ненависть, ненависть и месть. Я не думала, люди, что так близко увижу их обеих, этих гадких близняшек, в своей жизни. Воочию.
«Олечка! Прочитала всякие гадкие словеса в любимой газеточке! И в других местах! Мне просто ужасно, меня всю выворачивает наизнанку! Ко мне пять раз приезжала скорая помощь! Там, в Сети, везде пишут, что я воровка! О Господи, ну хоть бы имели жалость, даже не ко мне, Бог со мной - а к моим детям! Когда мои детишки станут взрослыми, они так и будут думать, что их мать - наглячка, злобная псина, гадкая площадная тварюга! Ну ты хотя бы пожалела моего малютку, самого младшенького ребеночка! А в Сети, я тебе так скажу, я не все сама выкладывала, выкладывали за меня и другие люди! А я тоже показывала свое, но такое, ерундовое, самое мусорное, а самые хорошие стихи я впрок берегла! Оля, ты же меня вообще не знаешь! Ты не знаешь всех моих стихов, всех моих токкат и сонат, всех моих эссе, поэм-сюит, повестей, сказов, былин и романов! Да их никто не знает! Их в упор не видят! Они не хуже, чем твои, а даже лучше! Ты один стишок нацарапаешь, а я десять! Ты одну поэму выродишь, а я сто! А я, так и быть, уничтожу в Сети все свое! Убью! Все, что смогу! Я убью себя! Я - самоубийца! Ты этого хочешь?! Даже то уничтожу, что надо бы оставить! Для будущих поколений! Я вообще больше никогда не войду в гадоеду эту, сволочь Сеть! Пошла в задницу эта Сеть! Она только горе приносит! А я исчезну! Чтобы не вводить в искушение моих фанатов! Ты даже не знаешь, сколько у меня фанатов! Гораздо больше, чем у тебя! Если я им только свистну, они тебя, Олечка, в клочки разорвут! А «Художница в красном» - ха, ха! Это всего лишь набросок. Так, почеркушка! Это такое кошачье баловство, я просто баловалась, котенком клубок катала, карандашом игралась! Просто реверансик такой в твою сторону! Ничего другого! Я и не думала тебе сделать больно! Я же не дурочка. Ты знаешь, Леличка, я тебя сейчас люблю еще больше! Ты мой любимый поэт! И если ты пожелаешь, чтобы я вообще исчезла с горизонта, умерла как поэтесса - ну так тогда я умру! Я не буду ничего и никогда и нигде печатать! Лишь бы тебе было хорошо! Но, слушай, Лель! Имей совесть! Не пиши обо мне всякие гадости! Деточек моих пощади! Я же мать!»
Я заметалась. Нигде в моих горьких монологах в Сети и намека не было на Виолеттино имя. Она брала меня на пушку. Я торопливо строчила ей ответное письмо: Вета, нехорошо обманывать, если я и отвечаю людям, да, люди, это правда, у меня украли мои стихи, нет, не стихи даже, а огненный, дымящийся кусок моей жизни, мою плоть и кровь, мой дух, что родил именно эти слова, так я же говорила им правду, ничего кроме правды, а вот ты все врешь, и что я у тебя краду, нагло врешь, а ты знаешь, Вета, отчаянно, кровью писала я, дура, дальше, слушай внимательно, Вета, у меня дело дрянь с сердцем, плохо дело мое, все эти идиотские распри даром не проходят, врачи требуют, чтобы я легла на операцию, - и все в таком роде писала, откровенно, да, милые люди, видите, какая я была дура: я ей жаловалась, я ей признавалась! В своем страдании! В мучениях своих! А вот не надо было этого делать. Тот, кто тебя ненавидит, радуется твоим страданиям. И тем наглее и хищнее он опять нападет. Друзья, помните: никогда не надо жаловаться людям. Ни врагам, ни друзьям. Перед публикой вы должны быть всегда здоровыми, красивыми и успешными. Никому не нужны ваши жалобные причитания. Вы сразу становитесь народу скучны. И отворачиваются от вас; и презирают вас.
Народ любит ярких павлинов. Он гоняет больных серых воробьев, шугает их и плюет на них.
Ну, иногда крошек жалким пташкам милостиво бросит: поклюйте, несчастненькие.
Я старательно писала Ветке: не перегибай палку, не передергивай, не бей на жалость, не кокетничай детьми, особенно малышами, это самое последнее дело, не надо изображать меня "той, которая жестоко затравила", все равно никто не поверит. «Наглячка, злобная псина, гадкая площадная тварюга» - что это? Кто так преступно оскорбил тебя? Зачем ты извергаешь из себя эту площадную ругань? Что ты делаешь, Вета? Вета, опомнись! Ты…
Я замерла над клавишами, которыми напрасно стегала свою боль и ярость.
Я вдруг поняла кое-что еще.
Главное - поняла.
Ветка хватала мертвой хваткой, как зубами волк добычу хватает за загривок, и переворачивала событие. Быстро и нагло.
На каждое мое прилюдное движение она немедленно отвечала зеркально отраженным движением.
Я схватила ее, воришку, за руку - она, как торговка на рынке, тут же завопила: да это она, подлая, у меня, у меня украла! Я печатала стихи - она тут же печатала похожие как близнецы, нахально с моих слизанные, и кричала: вот, глядите, Еремина ворует у меня темы и сюжеты! Она распускала обо мне черным веером чудовищные сплетни - и сама рассказывала всем и вся, что я ее преследую, изничтожаю, забрасываю камнями грязных слухов, возвожу на костер, что я ее совсем затравила. В стихах она визжала: «Я - Моцарт! Начало всех начал! А рядом со мной злобный Сальери! Сейчас он бросит яд в бокал! Но я в свою смерть не верю! Я - безмерна! Я - бессмертна! Сгинь, Сальери, бескровный, бездетный!» Я плакала, читая эти строки. Ветка вопила: «Я - Жанна д’Арк! Я взошла на костер! Я взошла на костер! И предательница, а я считала ее сестрой из сестер, подходит к костру и бросает в безумное пламя вязанку дров… И у меня даже нет сил для последних криков и слов!» Шипела змеино, злобно: «Вот она, как Иуда-предатель, безоглядный позорный каратель, ей за травлю мою заплатили, и затравит меня и в могиле!» А мне отовсюду звонили люди, люди, люди. Одни кашляли в телефонную трубку: «Ольга Михайловна, а это правда, что ваша заказная публикация в Сети стоит десять тысяч?» Я пыталась обратить все в горькую шутку. «Десять - чего? Рублей? Долларов? Тугриков?» Другие сразу, с ходу начинали орать: "Как вам не стыдно! Корчите из себя благородную, вы, базарная баба! Пощадите бедную женщину, вы, бесчестная тварь!" Приятный баритон ворковал: «Олечка, привет, не узнала, это Сашечка из Веденеева, из библиотеки Гайдара, как ты, милая, мы тут все о тебе беспокоимся, как тебя лечат, что тебе привезти из лакомств, может, шоколадку, может, апельсины? Врачи-то там добрые, не обижают?» Какие врачи, потрясенно бормотала я, Сашечка, ты о чем? Приятный баритон терялся. «Ну как о чем! Не хочешь, ясен перец, не говори. Ты же в больнице лежишь? Мы тебе передачку… хотели…» В какой больнице, хрипела я, в какой? «Ну как в какой! В психиатричке нашей! На улице Красных Зорь!» Я здорова как бык, холодно чеканила я невидимому Сашечке и вешала трубку.
На улице, на трамвайной остановке, в холодный дождливый день, когда я переминалась с ноги на ногу под громадным, как парус, зонтом и вытирала рукой в перчатке мокрое лицо, ко мне подходил давний приятель, что знал меня с юных лет, я когда-то крепко дружила с ним, верила ему и любила его, и, глядя на меня снизу вверх взглядом сердитого побитого щенка, он цедил мне сквозь зубы: «Оль, ну ты это, знаешь что, ты кончай это дело, ну, кончай завидовать Ветке, ну, Виолетте, ну, Виолетке нашей Волковой, она так мучится от твоей зависти, болеет, капли сердечные пьет, скорую вызывает, а зря ты это все, зря ты так, ну не будь к ней жестокой, жестокой не будь, у вас ведь с Веткой разные дороги в искусстве, и, знаешь, ты только у нее не воруй, ты это, остановись вовремя, а то ведь хуже будет, ну, ты понимаешь, хуже, вам обеим, вы и так, бабоньки, теряете свою репутацию, тает она на глазах, о вас весь город уже сплетнями гудит, не просыхает, ну помиритесь вы наконец, ну ты-то ведь, мать, мудрее, старше, ну что тебе стоит!» Я смотрела на старого друга, как на старый, настежь распахнутый, пустой буфет: зимние грабители на даче все из буфета вытащили, вычистили - и варенья, и соленья, и старые бабкины шкатулки с палехской росписью, и старинные гребни и наперстки с самоцветами. «Вот идет мой трамвай, Федь, - говорила я тихо, - а мы с Веткой уже помирились. Ты опоздал».
К тому времени мы с поэтессой Волковой уже мирились не раз и не два. Она звонила мне и говорила со мною по часу, по полтора, по два, однажды даже три часа говорила, у меня даже рука затекла, держать телефон. Она кричала, истерически хохотала и плакала в трубку. Я даже предположила, что у нее не все ладно с головой. Я лишь повторяла, как заведенная: «Вета, Вета, брось, успокойся, все хорошо, живем дальше, работаем, забыли, проехали, все хорошо, хорошо».
Вот так поговорим - как врач с больным - а через неделю в Сети этой проклятой появляется истошный Веткин вопль: «Люди дорогие! Эй, люди! Спасите! Помогите! Вот что со мной приключилось! Мы так дружили с Олей Ереминой, так уж дружили, не разлей вода просто! И она как-то раз сидела в зрительном зале, когда я стихи читала! И там было одно такое стихотворение, где я ей, Ереминой, подражала! Ну так это же честь и слава, когда тебе подражают! И Оля даже аплодировала мне тогда стоя! А потом мы с ней гуляли по набережной! И я ей сказала: Оля, ты не сердишься на меня, что, мол, я у тебя взяла и позаимствовала стишок про роды царицы? А Оля мне: нет, не сержусь! Я даже довольна, бери, владей! И потом мы сидели в кафе и ели мороженое с клубникой! Видите, я даже про клубнику помню! И тут вдруг знаете что произошло! Прошло двадцать лет, и Оля Еремина как с цепи сорвалась! И больно и страшно стала обвинять меня в том, что я у нее стихи украла! Люди добрые, ничего я не крала! Просто позаимствовала, ну это же в рамках дозволенного! Ведь все друг у друга крадут! И Пушкин тоже крал! И Шекспир! И все-все-все! Дуреха, она должна почесть за честь, что у нее крадут! Что ей подражают! А она окрысилась! Оскалилась! Она меня преследует! Люди добрые, помогите, кто чем может! Протяните мне руку! Я горю на костре и сгораю! А я выношу благодарность тем, кто уже откликнулся: Мурзинскому радио, телевидению Алмаза, городской радиостанции в Горном, «Рекламной газете» города Сады, женскому журналу «Чайка» в Мокрянске и всем своим друзьям, кто оказался рядом со мной и поддержал меня в этот трудный час!»
Так Виолетта перед всем честным народом, заползающим и залетающим в Сеть, впервые, нагло назвала мое имя.
Бросила мое имя - да мне в лицо.
Я перед всеми так и встала во весь рост; позорно обнаружилась: злобной Веткиной палачихой, коварной пытальщицей. У палачихи-то, эх, имя оказалось громкое. Ишь, Малюта Скуратов в юбке! А прикидывалась ангелочком благородным! Через года-то, видите, как оно все обернулось! Зазналась, матушка! Звездную болезнь Еремина ненароком подхватила! Зазвездилась! Ну ничего, это проходит! Переболеет этой оспой! Прочихается! Мордой ее, мордой да в дерьмо!
На улицах на меня стали показывать пальцами. В театре от меня отворачивались старые знакомые. Звонки участились: из трубки звучали то упреки, то просьбы, то грубость и оскорбления. Ольга, вы там полегче на поворотах! Волкова ведь живой человек. Прекратите ее топтать! Ольга Михайловна, мы вынуждены заявить вам, со всей ответственностью… вы больше не будете выступать у нас, мы отказываемся от встреч с вами, ах, почему, да потому, вы взрослая женщина, не ребенок, вы все сами понимаете… Лелька, привет, мать, что у вас там такое с Веткой, ты что ее гнобишь, забодала совсем бедняжку, ну ты же старше, умнее, ну ты первая остановись, что ли… нельзя же так… Госпожа Еремина? Предупреждаем последний раз. За оскорбления - ответите!
Ответите... ответите...
Люди дорогие… помогите… вы, вы мне помогите… здесь, сейчас... Нет, нет, вина подливать не надо старухе, вино у меня еще есть… Дайте хоть кого-нибудь за руку подержу, за теплую…
***
Я оглядывалась вокруг. Кругом меня молчала моя комната, любимые книги за стеклами шкафов, рукописи, разбросанные по столу, картины мужа по стенам. Сеть мерцала, улавливала. Бились в ней рыбы. Задыхались люди и боги. Из тьмы экрана на меня зловеще наплывали новые письмена.
Стихотворенье Виолетты Волковой. Обо мне.
И о ней.
О нас обеих.
И я молча читала его.
...приглашаю на суд свой я всех. Приходите, о гости! И неважно, какой это день изумленной недели. В чем меня обвиняют? Услышите. Время, как кости, сухо щелкает. Мы не успели. Собирать нынче камни, а может, раскидывать снова? Эти камни в корзинах - не гроздья, увы, винограда. Ах, княгинюшка Ольга, вы - рот на замок, и ни слова, зубом хищным вы - щелк! - исповедаться больше не надо. Вы, княгиня, кидали острейшие копья-кинжалы в мое сердце. Оно - лишь мишень, обнаженная ярко. Ольга, ваши стихи как ножи, ядовитые жала, приговор ваш я честью считаю, почетным подарком! Смейтесь, Ольга! Смеется ведь тот, кто смеется последним. Я одна выхожу против вас, я - с открытым забралом. Вы же - фарс и гротеск! И хохочет над публикой бедной та, что тихо, в углу, сотрясаясь, о счастье рыдала! Игорь, князь ваш, еще не подох. Только смерть, она рядом. Вы на ярмарке подлости бойко стишками торгуйте. Вы, княгиня, подруг и сестер убиваете взглядом, и питьем из сосуда, с дымком оседающей мути. Вы культурная слишком такая! Княгиня? Нет, леди! И мерси, и боку, не проси, на боку меч военный. Вы хотите крыло мне подбить, сухожилья разрезать?! Не удастся! Я Феникс, в огне и углях сокровенный! Вы твердите, что я ваши сны, все кошмары стащила?! Вашу ругань, сто слов, что воронами каркали густо?! Да будь прокляты ваши надутые слава и сила, ваши чувства дрянные, что так не похожи на чувства! Прочь пошли! Навсегда! Я, княгиня, от вас отвратилась. Ваши рифмы - все лесть, все вранье, гниль, позор и оскома! Не нужны суета ваша, фальшь ваша, гадкая милость, мифология ваша: вы завтра впадаете в кому! Вот и смерть ваша! В землю вас, горе-княгиня, зароют. И не вспомнит никто. Не повторят дурацкие песни. А меня - наизусть затвердят! Воспоют! Нас ведь трое: Бог, искусство и я, такой троицы нету чудесней! Вот мой зал, где судилище! Гордо вхожу, без боязни! Отражаюсь во всех корешках и во всех переплетах! Ну, какую придумают мне из бесчисленных казней?! Обвинительша - вон она, ждет, понимаю, кого-то! Камасутру? Сожженье? Папирус? Шумерские свитки? Ах, княгиня, вы с грузным слоном упоительно схожи! Я сейчас лишь увидела: черной заметано ниткой платье белое! Топают ноги слонихи-вельможи! Приговор протрубите! Да, вы! Вы, толстуха-княгиня! Или выползешь прочь из слоновьей, изморщенной кожи?! Все Парижи, все Трои, весь Рим - только нищее имя, что беззвучно лепечете, корча страдальные рожи! Я за суд заплачу! За слона, что ведут на веревке - и по кругу, по кругу, и вот они, голые ляжки ваши, Ольга, а где же колготки, Париж где? Обновка? Снова тряпка, не платье. Да вы попытайтесь в обтяжку! Приговор? Я не слышу! Судья, громче вы огласите! Казнь мою назовите, попробуйте, ну же, посмейте! Я бессмертна. Не спорьте. Вяжите хоть сети, хоть нити. Я - бессмертье!
Изумленно таращилась я на этот стих Ветки, так глядят на замазанную сажей икону. Глаза застыли в орбитах. Радужки пропускали небесный рентген. Зимние зрачки затягивались слезами. Плыл холодный экран и качался, заслоняли его костлявые обледенелые ветки, их мял и бил ветер, я понимала, что новорожденная, недуром вопящая в колыбели, лютая ненависть толкнула Ветку написать такие стихи, и ненависть эта сейчас крутила и ломала ту, на кого была обращена - мою живую душу. И этот древний, былинный, морской-античный ритм… и этот зал, судилище это призрачное, куда она, Ветка, входит, чтобы услышать приговор…
Внутри меня все перевернулось. Это я входила в зал суда. Это мне должны были прочитать приговор. Меня должны были казнить. У меня было странное, чудовищное чувство, что я сама это написала. О себе. Про себя. Для себя. Во имя себя. Чтобы спастись. Не умереть.
Конечно, я прекрасно видела весь невнятный сумбур этих стихов, их задыхальный хаос, всех этих сваленных в яркую карнавальную кучу слонов, Камасутру, шумеров и аккадов, Феникса, ярмарку, князей, все эти - Господи, зачем тут они?.. - Парижи, Трои и Римы, для пущей красоты, что ли; я поняла все отчаяние женщины, которая изо всех сил пытается втоптать в грязь другую, представляя себя великой мученицей, а ее - глупой жестокой слонихой. Если казнь - значит, бессмертие! Ведь это же так просто! Я - героиня! Казнь мне нужна! Чтобы меня - запомнили! А та, другая, соперница, бездарность, лживая владычица чьих-то глупо опьяненных сердец, да она вовсе никакая не княгиня, не сестра, не подруга, сорвем эту маску, ребята, плюнем тетке в морду, да вы же видите все, ха, ха, она просто толстая цирковая слониха, невольница под кнутом, и стихи ее умрут, и мифы ее - бесполезный, бесчестный мусор, и песни ее забудут и зароют вместе с ней. А вот я, я - буду жить! Вечно буду жить! Вечно!
...я видела: распад ветров и огней болотных мерцанье, тоскливые полоумные вихри обращались в неведомый пестрый звукоряд, в неряшливо скроенное лоскутное одеяло, сшитое хоть и наспех, кривой иглой, да бойко, хитро, ловко.
...и смешно, и страшно просвечивали, светили со дна топкого болота, из сметанных наспех силков насмешки, укоры, колючки, обиды.
...больно, больнее, еще больней ей сделать. Кому? Ей? Мне?
…и я, люди, люди, слышите, люди, читая это, я уже не понимала, я буду жить вечно или она. Соперница она мне или мой бесстрастный судья. Зеркало она мое - или я сама.
Я встала из-за стола и, пьяно качаясь, подошла к зеркалу. На меня из довременной тьмы глянуло лицо. Мое лицо. Мое?
…я теперь этого не знала.
…волосы завились в рыжие кудряшки. Цыганские серьги болтались в мочках. Ярко накрашенный рот сложился в гадальное червонное сердечко. Нарумяненные щеки лоснились, как у матрешки.
Блестящее ожерелье десятком звездных витков обматывало вечно-морщинистую шею.
Я моргнула. Побила себя кулаком по щекам. Ущипнула себя за подбородок.
Отражение в зеркале сделало то же самое.
Я крепко зажмурилась. Прочитала шепотом молитву. Знаете, тогда еще люди молились. Кому? Богу. Кому же еще.
Открыла глаза. В зеркале опять стояла я. Я сама. Я одна.
Но за моей спиной моталась тень женщины. Рыжеволосой. Кудрявой. Остроглазой. Со злобным оскалом вставных зубов.
Я быстро обернулась. Глянула себе за спину. Скосила глаза в зеркало. Я еще успела заметить, как в зеркале, вместо копны рыжих курчавых волос, метнулась тень зверя. Серая спина, серый большой хвост. Торчащие уши. Оранжево горящие глаза. Шерсть дыбом на загривке. Волк.
Точнее, волчица, так тогда подумала я, и волчицу ту зовут…
Эй!.. ты!.. Ветка-Ветка-Ветка!.. ко мне, сюда… мясца дам… свежего… с кровью...
Как же настоящее имя ее? Как ее кличут по правде?
Я это уже знала.
И, чтобы не выплюнуть вместе с хрипом это имя, прижала руку ко рту.
***
Этого нельзя? Того нельзя? Ерунда. Все дозволено.
Если человек мстит, дозволено все.
Ибо месть - такая вещь: она затягивает.
Болезнь растет внутри, жар повышается, кашель, озноб, ужас, зубовный скрежет. Несчастному, захворавшему злобой, надо спасаться, иначе зверская боль его захлестнет, и он в ней потонет.
И тогда больной тихо шепчет себе: все дозволено. Я сделаю все что угодно, чтобы избавиться от своей лютой боли. Мне худо! Худо! Ненависть жрет меня изнутри! Так я возьму и обращу свою родную ненависть в живую месть. В ту, что живет и царствует среди людей.
А что бедному больному для этого надо?
А очень простая вещь ему нужна; ему надо громко, вслух сказать себе: все дозволено!
И тогда охваченный злобой, несчастный больной кричит, хрипло, надсадно, на весь мир: ВСЕ ДОЗВОЛЕНО-О-О-О-О-О!
И превращается в мстителя.
В лютого, сильного, хитрого зверя.
[ОБОРОТЕНЬ]
Оборотень. Он пустой.
У него есть только волчья шкура.
Волколак. Днем он сладко улыбается ближним, а ночью сбрасывает кожу - и вот уже серая шкура дыбом встает, и в зимнем воздухе пахнет серой, и хвост вытянут над землей мохнатой серой палкой, и только тень стелется по снегу, так быстро он бежит. Оборотень. Вервольф. Волколак. Вернее, бежит его шкура. Его пустые лапы вдавливаются в снег. Пальцы впечатываются в смертельную белизну. Ночь. Зима. По зиме бежит волк. Волк, он немного сумасшедший. Я не могу его понять. Но я могу перевести со звериного на родной язык его рык.
Под остроугольной мордой - пустота.
Красная пустота в приоткрытой пасти.
Бежит, и капает на снег слюна.
Он не бешеный. Его бешенство - в ледяном расчете.
Оборотень, он стал волком из мести. Из ярости.
Тяжело побороть в себе ярость. Невозможно.
Гнев и ярость. С ними нету сладу.
Волк, это вор. Он умелый вор. Он крадет из хлева овец, ягнят. Слова дрожат и трепещут, а их зубами, клыками хватают за шкирку, тащат, волокут, слова визжат и сучат тонкими младенческими ногами, вырываются, но смиренным кудрявым, шелковым ягнятам волчьи зубы пускают кровь, и волчий язык слизывает живую красноту, волк питается ею, он насыщается кровью и живым мясом, мертвечину он жрать не будет. Он жив, потому что погибает другой. Все просто. Все очень просто на земле. Ты - погибни. Я - буду жить.
Я буду урчать над твоей плотью, над дымящейся кровью, есть тебя, ты ведь такой вкусный, потому что ты выстраданный, свежий и настоящий. Ты - мясо. Ты мое мясо. Ты моя будущая жизнь. Я, волк, очень благодарен тебе, добыча, за то, что ты так мало сопротивлялась. Ты дрыгалась так робко! и беспомощно…
А днем, днем я притворяюсь тем, кем надо. Кем удобно и почетно притворяться. У меня много хитрых человечьих морд. То я твой хозяин, я стригу твою шерсть и кормлю тебя из ведра вкусной баландой. То я владычица старого замка, светская львица, бусы густо обмотаны вокруг моей голой шеи, в ушах звездами горят полярные алмазы. Я лучше всех танцую. Никто не знает, что я по ночам волком рыскаю по широкой и снежной степи.
Тенью крадусь, стелюсь. Я ворую жизнь. Ухвачу ее зубами и волоку. Мне нужно убивать, чтобы жить. Я вор, я не могу без этого. Волки не могут. Кровь - их вино, их табак. Наркотик, возбуждающий все силы жизни. А может, я двойник?
Я чей-то двойник, да, я догадываюсь. Поэтому я превращаюсь ночами в волка и убегаю, лечу прочь от своего проклятого отраженья.
Мой двойник. Моя сестра. Мой брат. А может, мой сын. А может, моя мать. Я, волк, давно ее похоронил. Или это она похоронила меня? Ночью все волки серы. Косточки мои вылезают под мертвенный свет луны из сырой земли, складываются в узоры, бьет бубен, я обрастаю шерстью, я лечу. Стелюсь серым дымом над белой землею.
Это я - двойник. Настоящий я - там, в метели дня. Там нет меня. Там никого нет. Никто никогда не умрет. Перегрызу весь народ. Никто не умрет никогда. Такая беда.
Почему я волк? Зубами щелк. Я завидую. Я завидую сам себе. При свете человек, во тьме зверь. Все так разумно устроено. Никто не узнает меня. Зависть, завидовать - мне? Волку? Кому завидовать? Смешно. Я сильнее всех. Я щелкну зубами - и дрожит человек, заплутавшийся, один, в лесу. И звери дрожат. Они не любят меня.
У меня есть враги. Есть один-единственный враг. Вражина. Я ненавижу ее. Я завидую ей, потому что она лишь человек. Старая баба. Она никогда не превратится в меня. В молодого и ловкого волка. В полную сил волчицу.
Волколак, я завидую людям. Они - не оборотни. Оборотень - я. Я все могу. Я прикинусь всем, чем хочешь. Всех обману. Почему волколак такой? Я хочу владеть. Я - главный. Я жажду власти. Я не знаю толком, что она такое, ведь я ночной зверь, но я понимаю: власть - это как мясо. Это как людские деньги. Шуршат между пальцев и тают как снег. Что они в них находят? Но они, люди, завидуют из-за них друг другу.
Я все могу, я сильный, свежий и молодой, зубастый и крепкий, отчего же я завидую?
Я завидую тому, чего нет у меня, но есть у них.
И я хочу их обмануть. Зима. Туман. Обман. Обману надо учиться.
Я научился. Я могу быть человеком.
Перед тем, как в полночь сбросить с себя человечью кожу и напялить серую шкуру, я смотрю на себя в зеркало. Я вижу там женщину.
Волк оживает, когда крадет. Он жить иначе не может.
Пожирая овцу, он рычит над ее распаханными, в крови, ребрами: благодатное, благословенное мясо!..
Для волколака все на свете есть мясо. Святое мясо. Высокое мясо. Звездное мясо. Огненное мясо. Оно просто ждет своего часа.
Еще у волколака крепкая память. Он никогда не забывает ни добра, ни зла.
Он помнит все.
Он сцепляет зубы и бежит вперед, бежит по снежной целине.
Он бежит - мстить.
Он будет мстить за то, что сделать не может.
И никогда не сможет.
За то, что его заметили люди и в него стреляли.
Пули просвистели мимо. Но он не забыл этот свист.
Волк вернется. И в этой избе, да, в этой, на краю села, он перегрызет всех людей.
В этом зрительном зале он перегрызет всех зрителей, надушенных дам, военных с погонами на плечах, визжащих детей в бархатных курточках, а потом прыгнет в оркестровую яму, на плечи дирижеру, и вопьется голодными клыками в его беззащитную шею под крахмальным воротничком.
А главное, он загрызет ее, ее, что сейчас выйдет к микрофону, и голос зазвенит, и запоет на весь зимний простор, на полмира, да мало ей осталось петь. Считанные минуты! Мгновенья! Он набросится внезапно. Когти процарапают атлас алого концертного платья. Ей не читать больше стихов. Песнями - не рыдать. Сцена - это хлев. Грязные, старые доски. Какой нежный голос у этой овцы-прощелыги! Как тонко она блеет! Волк ее ненавидит. Что такое стихи? Зачем их пишут глупые люди? Затем, чтобы на кусок дрожащего стихами мяса набросился волк и сожрал все, завоеванное с кровью, схрупал с костями.
Когти раздирают шелковую ткань. Женщина хрипит, окунает слабые жалкие пальцы в волчиный загривок. Какая ты слабая и жалкая! Ты же не стоишь ничего. Ни гроша. Я тебя ненавижу. Но ты моя еда, и я вынужден тебя похвалить бессловесным рычаньем, прежде чем буду рвать зубами твое сладкое белое мясо.
Каин и Авель. Сальери и Моцарт. Иуда и Иисус. Разве волколак знает эти имена? Разве волк что-либо людское знает? Он и не должен знать ничего.
Он должен только бежать, нападать, когтить, вгрызаться, пожирать, терзать, уволакивать, убегать, улетать, ведь надо еще отдохнуть, ночь впереди, завтра рано вставать, прикидываться женщиной, мужчиной, матерью, подругой, любовником, любовницей, отцом, поэтом, поэтессой, Еленой Троянской, Артемис Эфесской, Наполеоном, Чингисханом, царицей Тамарой, обезглавленной Антуанеттой, всеми на свете владыками и владычицами, смердами и рабами, всем миром прикидываться, оборотень, он такой, ему мира мало, ему палец в рот не клади, всю руку откусит, он обучен сражаться за жизнь, он же на самом деле не голубых кровей, а самых красных, рабочих, пролетарских, а может, крестьянских, а может, колдовских, а может, он просто зверь, обыкновенный зверь, ненависть, обращенная в красные зрачки и вздыбленную шерсть, а вы его сделали человеком! Вы! Кто - вы? Разве у вас всех есть имя? Это я, волколак, я ношу множество имен. И вам их все не упомнить!
[ОБОРОТЕНЬ УБЕГАЕТ НА НОЧНУЮ ОХОТУ]
***
Люди, люди мои, до чего же ярко и жарко здесь у вас горит камин. Как вы это отлично придумали - собраться, сгрудиться у живого огня, рассказывать бесконечные истории. Вот и начало моей истории прозвучало, грубо говоря, зачин, ах, вот сказала я вам это слово, зачин, и как кипятком меня обдало. Вспомнила. «А не зачинай, ибо зачином по башке получишь!» Кто это сказал? Ветка? Да, Ветка. На мерцающем экране адской машины плыли и сновали быстрыми лодками слова, складывались в узоры, в жесткий и слепой орнамент ненависти. Сеть равнодушно выплевывала их в меня, и я не понимала, мои глаза это читают или чужие. Я сама себе казалась чужой. Чужачкой, зачем-то брошенной в наш зыбкий луноликий мир, слепленный из догорающих текстов и улетающих мелодий. «Я очень благодарна Ольге Ереминой, что она берет у меня темы моих стихов! Вот, глядите, она публикует «Гибель Рима», и у меня тоже «Гибель Рима»! Рим горит мой, золотой и серебряный, Рим горит мой, великий и древний! Как ей не стыдно, вашей любимой Олечке!» Вета, Вета, я свою «Гибель Рима» написала черт-те когда, а, да, уже прошли года, и никогда… «Уймись, дура, ты опять за свое! Ты с ума сошла, все так и врешь на всю Европу, что у тебя что-то там украли! Бред сивой кобылы! У тебя воспаление мозгов! Дурында! Истеричка! Иди лечись!» Вета, слушай, Вета, но я просто сказала тебе, когда... «Никакого когда! Никакого никогда! Не хочу ничего слушать! Твою дурацкую бредятину! Мания у тебя! Чистой воды мания! Делай укольчики, пей пилюли! А ко мне больше не приставай! Уймись, говорю! А то хуже будет! Утомила, блин! Достала!»
Люди, люди мои… а потом снова этот верещащий голосок в трубке, дикий, взахлеб, слезный визг: «Олечка! Ну прости! Прости! Прости!»
Мне так странно стало жить. Я не узнавала мою жизнь в лицо.
Я хотела сшить себе новую жизнь, чистую, светлую и нарядную, а эту, старую, яростно стащить через голову, как изношенное платьишко, и сжечь в деревенской пылкой печи.
Жизнь, начнись, душа моя! Меня убивают! А я хочу воскреснуть! Смерти - не хочу!
Я стала терять голову. Смещались времена. Мне стало казаться: а может быть, и правда, это я виновата, это я обидела бедняжку? Всемирный фестиваль великих искусств власти проводили в городе на холодной реке, приехали поэты, актеры, певцы, художники, танцоры со всего света, в белоколонном зале старого особняка торжественно открывали небывалое празднество, на сцене лоскутным одеялом мелькали цветные флаги разных стран, я вошла в битком набитый зал и скромно села в последнем ряду, с краю, и подскочила Виолетта, как из-под земли выросла, села рядом, и не успела я оглянуться, как она схватила мою руку и припала к ней губами. «Олечка! Душечка! Я тебя все равно люблю! В моем сердце, кроме любви к тебе, ведь ничего и нет!» Меня пробрала дрожь - и от поцелуя, и от слов. Я растерялась. Вырвала руку. Не знала, что ответить. Ветка, успокойся, успокойся. Все хорошо, хорошо. И тут я совершила ошибку. Впрочем, ошибка вся наша жизнь. Я разлепила губы и зачем-то глупо сказала Ветке: прости меня.
За что - прости? За что я прощенья попросила? Я сама не знала. Видать, просто за то, что я есть.
Гомонил зал. Вспыхивали софиты. Среди многолюдья, шума и восклицаний молчало озеро тишины. Я сидела, рядом со мной женщина. Вдруг вместо рыжих волос под снопами света мощных люстр заискрилась серая зверья шерсть. Я хотела перекреститься, но не могла. Смеетесь? Да, сейчас уже никто не крестится. Архаизм. Забыли и самые имена богов. Тогда я еще помнила и любила имя моего Бога. Я тихо попросила Его: Господи, помоги этой женщине, она не знает, что творит.
Заткните уши ваши перстами от гласов нищих, просящих... воспомните словеса, их же Ангелы начертали на листах дрожащих, святых, настоящих... вы все волы подъяремные, люди... вы лошади, козы, коровы... вы только злобой живы... вы только бессловесною ненавистью здоровы... Ах, в лица ваши не могу без слез глядети - так они вельми жестоки... Милости взглядом молю из клети... жалких слез струятся потоки... Ладони мои хлебом пахнут... колосья голодные в них растираю... Вы, люди, всего лишь зерна... вами поле любви засею - от края до края...
Придя домой с праздника, я написала стихотворение. Ой, сейчас вот возьму и прочитаю! Разрешите?.. Хоть мы и не договаривались, что я тут всю дорогу буду вам читать стихи… вы уж меня простите, меня, дуру старую, что я тут голову морочу вам всякими рифмами… и своими, и чужими… бесполезными, жалкими... вы ведь ждете истории… крови хотите, сраженья, пуль и огня... история, история… она еще развернется. Да такая, что вам мало не покажется… Но сейчас, сейчас без стихов нельзя… в начале ужаса всегда обычно живет поэзия, так уж заведено… и только потом наступает настоящий ужас. Кромешный. А это все не ужас, еще не ужас… так… детский сад, старшая группа…
...прости меня. Прости. За то, что я есть. За то, что слышен голос мой за версту. За то, что воздаю великую честь не царю в горностаях, а сухому листу. Прости, что дрянь и рвань моё посконьё, а ноги голые меня к любви по снегу несут! А ты, как ни меняй кружевное бельё, буфетчицей крашеной вылетишь на Страшный Суд.
Прости, что, дымя, грохоча, пыля, повозка везет на казнь меня, не тебя, - и толпы бросает в дрожь... Прости, что я и есть твоя родная земля, и ты, сцепив зубы, плача, меня топчешь - по мне идешь! Прости, что с улыбкой смиренной гляжу, как тело мое железная клевета на красные режет куски, - и вижу, как кровь моя течет по чужому ножу, и воет зверем родное небо от глухой подземной тоски.
А люди ловят, хватают невнятный мой хрип, подносят ко рту - а я все ломаю себя, все бросаю голодным кус на морозе: пребудь живой!.. - прости, я же просто хлеб!.. Я давно перешла черту, за которой ни души, а только темень и вой. Прости: я в лицо, смеясь, увидела Ад. Прости! Я в лицо, рыдая, увидела Рай. Прости, но я никогда не вернусь назад - в лязги и вопли, вранья злобный вороний грай! Я давно убежала босыми ногами своими в этом рубище умалишённом, в этом посконном мешке - туда, где одно только Божие имя и держу, - зажала - кровавым лампадным стеклом в кулаке... Не догонишь, прости! Нет у тебя ни сердца, ни силы, чтобы зимним ангелом стать среди зверьих людей...
А я тебя давно уж простила: вот он, грех твой жалкий, мышиный, - весь на ладони моей. Вся сорочья, воробьиная хитрость, весь лепет детский, вся кудрявая, крашеная, краденая беда... Погляди в окно. Снег метет каторжный, соловецкий. И в метели в той я, прости, ухожу навсегда.
Поцелуй этот Веткин жег мне руку. Я так и чувствовала ее лживые, в помаде, губы на своем запястье. Попросить прощенья - за что, неизвестно - наяву и в стихах, разве этого мало? «Мы с тобой, Олюша, правда как сестры! Мы так похожи! Как близняшки! Да, мы - близнецы! Нас Бог так создал! Ну пойми это! Нам бы, знаешь, с тобой… выступить бы вместе… и вообще - ездить, вместе концертировать… Ты бы музыку еще свою играла, песни пела… я-то на рояле - не умею… А я бы читала… и ты бы читала… и люди бы - заслушивались!.. Ну давай, давай-давай, подумай! «ДВЕ СЕСТРЫ» - так и назвать концертную программу! Народ бы валом валил! Все бы на нас хотели посмотреть! Ну Леличка… ну давай…» Льстивая теплая рука просовывалась мне под локоть, чужое теплое, изгибающееся нежно и вежливо, подобострастное тело льнуло все ближе, зимний ветер поднимал дыбом чужой меховой воротник, цеплялись за надежду ледяные скрюченные накрашенные когти, дрожал меж зубами в оскале натужной улыбки алый язык, колыхалась плоть, а чужая душа все пряталась, скрывалась на ходу, из-за угла невидимо глядела - ну как? рыбка клюнула? не сердится рыбка? молчит? кивает? ах она рыба проклятая! хитроумная! или тугодумная! да пес разберет какая! еще, еще погуще подольстить! еще слаще промурчать, приторный напев напеть!.. - две женщины сливали шаг, куда-то шли во тьме, фестивальный день закончился, и наваливалась ночь, и все выше, злее и яростнее вставал под ветром жесткий жестокий мех на громадном воротнике серого, как волчий дым, пальто. Дым! Все - дым! Я шла и вдыхала дым. Я только внушала себе, что иду домой. Трамваи гремели, их дуги пылали во тьме, все больше становящейся не ближней, а кромешной. Ноги перебирали воздух, губы перевирали чужую речь. Я - она, или она - я? Я изо всех сил пыталась остаться самою собой. Мне это удавалось. Ветка семенила рядом. Слух мой рвал на ветру нежный, еле слышный, вкрадчивый шепот: «Ты все равно будешь мною! Ты - будешь - кормиться - мной! Ты - будешь совать меня в рот, как ложку! Так и будет! Это я буду тебя кормить, волчица, хищница, притворщица, а не ты меня! Я все переверну! Все!»
Я с силой вырвала руку из Виолеттиной руки и что есть духу побежала к остановке. Гремя, подкатывал трамвай. Он накатывал зимней грозой, рассыпал веера диких искр. Он пыжился железным павлином, сбежавшим то ли из зоопарка, то ли с заполярных небес, его развернутый хвост, густо и пьяно сыплющий горящие золотые зерна, только что выдернули из доменной печи. «Меня не догонят, не догонят», - шептала я сама себе, на ходу впрыгивая в хищно раззявленные двери трамвая.
Далеко, за спиной, я слышала крики. Я не понимала, о чем они. И не хотела понимать. На сегодня я была спасена. Здесь и сейчас.
Шея моя болела. Я прикоснулась к ней голой рукой, резко сдернув шерстяную перчатку. Поглядела на пальцы. Они были в крови.
***
Погоня, погоня. Я чувствую, за мной гонятся. Я стыжусь назвать имя преследователя. А может, преследовательницы, ведь это баба. Женщина, Оля, женщина, как ты можешь так презрительно обзывать женщину. Я выходила из тела, моя душа зависала надо мной, и я могла говорить о себе самой чужим голосом. Она, ну, то есть я, Ольга, она, глупышка, почему-то думает, что ее преследуют. Об этом пишут в чудесных толстых обтрепанных книжках, старинных медицинских учебниках, что пахнут свиной кожей и салом, и коркой ржаного хлеба, и мылом, и воском, и тысячью обслюнявленных пальцев, что их бесконечно листали: студент, ты не сдал анатомию, ты не сдал психиатрию, двойка тебе в зачетку. На выцветших, хрупких, как сохлые вафли, страницах старинным, чугунным шрифтом оттиснуто: МАНИЯ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ. Ха, ха! Ольга ничего такого не боялась. Никакого преследования. Если надо, она могла развернуться, грудью пойти на того, кто гонится за ней, и с ходу дать ему в лоб. Или в глаз! Короче, в торец. Куда уж кулак попадет. Однажды хулиган впрыгнул в песочницу и стал издеваться над малышом. Ольга подбежала, ярость захлестнула ее, она не успела из нее выплыть и крепко ударила парня кулаком в конопатую рожу. Рыжий парень опешил. Чуть не упал. Он ростом был выше Ольги, ветер трепал его красные волосы. Ты, сказал он грозно, а ну... Громко заревел, потом пронзительно завизжал маленький мальчик, перемазанный в сыром песке. Рыжий парень размахнулся и ударил Ольгу в грудь. Было очень больно. Потом ее завалила, как землей, тьма. Ольга очнулась, лежа на песке. Соседские тетки стояли рядом и причитали: хорошо, на рожу башмаком не наступил, и руки-ноги не сломал, радуйся!
Нет, за ней и правда гнались. По-настоящему гонятся, ну я же чувствую. Я что, бесчувственная дура? Но хитро так гонятся, осторожно. А чтобы не заметили. Идти по следам - волку это счастье! Он наслаждается. Это его маленький праздник. След в след, да чтобы я не увидела, и чтобы никто не заметил. А что? Разве поставить лапу след в след карается законом? Для зверя нет людских законов. На то он и зверь. Мощное чутье. Его нос. Нос говорит ему: это пожива. Это - добыча!
Настигни, убей и сожри.
Ольга стала пищей. Всего лишь пищей. Нет, люди, я не пища! Я не хочу ею быть! Я ночь, я облако, я сновиденье. А может, этот чертов зверь - сомнамбула? Ему не спится. Он выбежал из елового зимнего леса. Вбежал в каменный лес. Синий блин луны на черной сковородке неба. Люди спят. Я тоже сплю. Полночный звонок в дверь. Кто там? Почтальон. Вам телеграмма. Из прошлого. Распишитесь! Я настежь открываю дверь. Я в ночной рубахе. Когда это было? Или еще только будет? Или было в стихах?
Стихи, наша кровь, наша жизнь. На стихи люди поют песни. А волки поют дикие, страшные песни, безо всяких стихов. И без слов.
Их слова - их кровь.
Их вой.
Поёшь еще, значит, живой.
Она уходила, но волк настигал. Она петляла между каменных деревьев, между рек и ручьев, путала тропы, рыдала вслух и смеялась громко, в небе было слыхать, - волк повторял ее слезы и смех. Добыча, ты будешь сопротивляться? Или ты так и умрешь, оплеванная, оскорбленная? Всеми покинутая? Всеми забытая? Да забывайте меня на здоровье! Я живу на свете не для вас! Не для людской похвалы или людских плевков! Затопчите меня, на куски разорвите! Вы меня все равно запомните.
Волк гонится. А за ним гонится толпа.
Любовь, ну, где же ты?! На могилах любящих - кресты, кресты... На могилах любимых - снег и трава... А любовь - вот она, восстала: жива...
Люди безжалостней зверей. Ольга это уже понимает. Ольга заранее всем все прощает. Да, за мной гонятся! Да, это волк! Ах, простите, это не волк! Я ошиблась! У вас просто такая же серая шуба, мехом наружу. И сапоги, как желтые когти, блестят на морозе, на солнце. И глаза у вас, о, эти глаза! Уйти от них скорей! Убежать!
Я убежала, и сегодня я чудом спаслась.
Мне мои друзья однажды, за рюмкой дешевого коньяка, рассказали старинную сказку о волке. Один из друзей побывал в южных степях, там ему сказку сию нашептали, он и запомнил. Как нарочно для меня. Для нее, молчаливой Ольги. Ольга, подперши рукой щеку, сидела, нежно глядя на желтоглазый коньяк, и внимательно слушала. Жили-были две бабы на селе, дружили, вместе суп варили, мясо жарили, на пирушках кружку зелена вина выпивали. Не разлей вода. А одна баба уж больно песенки петь любила; в поля-луга уйдет и там запоет; а к ней на песню аж все дикие звери из лесу сберутся! Выйдут из чащобы волки, лисы, медведи, тесно обсядут красивую бабу, а она сидит на березовом пне да им поет-заливается. И они ей все, звери, подвывают. И медведя черного баба гладит-целует, и лису милует, и птицы у ней на плечах сидят и вместе с ней поют! И раззавидовалась той бабе подруга. Пошла к ведьме, а та обратила ее в волка. Сказала: перекувырнись через девять воткнутых в землю ножей и через девять живых огней, и волком станешь! Так завистница и сделала. Оп-па, кувырок, прыгнула из воздуха наземь, а это уж волк! Лапы передние сильные, а задние еще сильнее, да слишком напоминают человечьи ноги: гнутся в суставах, приседают гибко. Вот вышла красавица ввечеру на лесную опушку. Запела опять. Потянулись на песню звери. Кругом расселись. Слушают! И девица поет, улыбается! И сами звезды с небес той песне внимают! А волк этот новоявленный меж деревьев - шасть! И тоже на брюхо лег, возле ног певицы. Лежит! Морду вверх поднял - да как завыл! Запел! По-своему! И так завывает, мороз по коже подирает! Красавица недоброе почуяла, к волку нежно склонилась. Что, говорит, волчок, серенький бочок, томно тебе? Тошно? Что печально поешь, сердцу покоя не найдешь? А волк прыгнул на все четыре лапы, задними, человечьими, от земли оттолкнулся - и над красавицей взвился. И...
Ну и что, спросила Ольга, бледнея, что замолк, друг? дли свою сказку! загрыз зверь ее? Убил певицу? Или не убил? Все говори! Честно! Ничего от себя не сочиняй!
Друг опустил голову. Другой друг, сам по-звериному скалясь, ему из бутылки коньяка плеснул. Паршивая сказочка для сопливых детишек, говорит другой друг и спускает с плеча Ольги оборку. Она отшатывается. Другой друг рассматривает ее загорелое плечо. Да я бы в того волка сам превратился и вгрызся тебе в плечико, уж очень аппетитное, да ведь у тебя муж, он мне морду набьет. Набьет, кивает Ольга и поправляет сначала лямку лифчика, потом оборку, потом рукав открытого, для сильной жары, платья. Внезапно это платье напоминает ей кокетливые платья Виолетты: в рюшечках, воланчиках, оборочках, дешевых кружевцах. Ее сразу же тошнит. Она просит хозяйку: слушай, дай мне какое-нибудь твое платьишко, старое, грязное, все равно, старую тряпку, из ткани полегче, попрозрачней, я очень вспотела, вся вымокла, как в бане. Жена друга выносит ей свой ситцевый халат и брезгливо протягивает: держи! Ольга быстро, глотая слезы, переодевается в туалете. Она сдергивает с себя платье с оборками, натягивает чужой халат, садится на край унитаза и плачет без слез. В этом халате жена ее друга, небось, моет полы в квартире. Ольга вытирает мокрое лицо ладонями и выходит к расхристанному столу, где вперемешку чипсы, коньяк, шоколад, огрызки колбасы, лимон нарезан солнечными кругами. Ты что, ревела, толкает ее локтем под ребра жена друга, ты что, спятила?
Она садится за стол в застиранном халате и пьет коньяк.
Она так и не узнала, загрыз волк певицу или не загрыз.
Жене друга говорит тихо: свари мне, если можешь, кофе, я кофе хочу.
***
Я, ну, значит, она полюбила гулять одна. Углублялась в город, в извилины его мудрых улиц, в хитросплетенья переулков и тропинок, исчезала, таяла: летом - в зарослях, в прибрежных кустах и ветлах, раскинувшихся зеленым веером, зимой - в алмазной слепящей белизне наметенных за ночь, будто за целый век, куличей-сугробов, снеговых ромовых баб. Старики шептали ей, хрипло и доверчиво, о цветной и яркой, как заморский тигр, как шелково, радугой горящий во мраке богдыханский, кохинхинский петух, полоумной Ярмарке, что гремела цыганским бубном здесь, когда-то, давно. Давно и вчера, а есть между вами разница? Ольга шла по городу, по огромному, чудовищному и царственно-роскошному караван-сараю, темные века расступались колоннами, небеса взмывали головокружительными аркадами, и сверху свешивались на тонких лесках метеоритов, мотались на пронизывающем до костей, ледяном, с реки, ветру хлесткие блесткие звезды, крупные, как голубиные яйца, и мелкие, как тыквенные семечки, заблудшие в иных временах мудрые сапфиры и сиротские слезы-хризолиты; плыли сребристые, с тихими жемчужными глазами, медленные рыбы лучистой вчерашней вьюги и завтрашней безумной пурги, из окон, из распахнутых подъездов доносилась бредовая дробная музыка, дышала жемчугами и соблазном, кастаньетами и стуком жестких острых каблуков по мраморному полу в ледяных подталых разводах, Ольга грела руки дыханьем и видела: из зева тьмы, из тайных недр случайного вавилонского, умалишенной башней уходящего в дегтярные небеса холодного дома выходит на снег танцовщица в алых атласных шальварах, нежно горит в фонарном мертвенном свете ее живой, исходящий потом и дрожью перламутровый, перловичный живот. Танцовщица высоко подымала голые руки, замирала на морозе, кожа у нее становилась испуганной, гусиной, пупырчатой, музыка играла сильнее, незримый музыкант жестко и яростно бил по невидимым пламенным струнам, и танцовщица начинала медленно двигаться, изгибать долгое манящее тело в квадрате призрачного озерного света, падающего на притоптанный снег сквозь крестовину окна. Колыхался и вздрагивал, шел зазывными волнами живот, по коже ходили синие, зеленые и розовые тени, Ольга глядела, останавливая дыханье, и молилась, чтобы чудо не кончалось. Алые шелковые шальвары бились знаменами на ветру. Поземка обвивалась вокруг голых ступней танцовщицы, взмывала вверх и становилась снежной вязаной шалью, падала девушке на плечи, а она все танцевала жаркий танец живота, и усталость была ей неведома.
Ольга пятилась, отворачивалась от сумасшедшего танца, шла дальше, снег скрипел и пел под ее сапогами, она выходила на площадь, и церковь перед ней наклонялась из мглы каменным узкогорлым кумганом, и бронзовый купол внезапно откидывался под ветром островерхой крышкой, и на всю зиму пахло сладким, густым вином причастия: там, внутри, во храме, кучно толклись люди, жадно и благоговейно пили священную музыку и святое вино, и хлеб, пропитанный святой Кровью, таял у них на губах, под языком. Перед Ольгой из земли поднимались великие красные башни, это строго и люто глядел на нее Кремль, воины щурили кирпичные глаза, высовывали огненные языки, дразнились, шумно вздыхали, не желая умирать, - а может, это вздыхал ветер, раскачивая старые липы и столетние голые вязы там, за красной зубчатой стеной. Зимние деревья, голые, твердые, напоминали Ольге черные кости, восставшие из древних могил. На груди Ольги уже горело тяжелое ожерелье наметенного снега, вокруг ее шеи и щек озорно топырился песцовый, алмазный метельный воротник, она, хохоча, ладонями в толстых овечьих варежках стряхивала снег с плеч, а на груди, на старом ночном бабкином драпе, алмазы все горели, не желая таять меж пальцев и разбиваться о землю. Музыка опять наплывала - из подворотен, из хмельных мимолетных ресторанов, карасёвой чешуей вспыхивал полумесяц на мрачной мечети, а из ночной церкви доносился "Символ веры", люди пели горячим хором, и Ольге казалось: так звучит оживший, раскинувший руки ребенок-крест. Вокруг мечети ходили три девушки в хиджабах; они ходили шутейным хороводом, крепко взявшись за руки, смеялись нежно и одуряюще, они воображали себя ангелами Семи Небес, а из-за узорчатой стены выходил давно умерший суфий, с лицом иссохшим и кривым, как сломанное весло, приставлял к изморщенному лбу руку и так, из-под руки, как на три солнца, глядел на праздничных девок, нежно танцующих на снегу. Купол русского храма торчал, как живот у брюхатой бабы; стреловидная крыша мечети вздымалась гордо, ракетой, вот-вот улетит в зенит с милой грешной земли.
Этот купол, смутно и восторженно думала Ольга, он ведь беременный небом и Богом, забытым временем, и только я одна - его малый живой осколок: вот она, я так ее помню, всей кровью и болью, ослепительная, вся в блинах и пирогах, в сполохах сверкающей в мисках, сей же час вынутой из брюха грозного свежевыловленного осетра черно-угольной икры, унизанная бериллами цвета сумеречной волны и бешено-звонкими монистами Ярмарка, - мордовки в островерхих шлемах, монеты свисают с висков дождевыми медными, звенящими нитями, чувашки в черных платьях подобны рваным лоскутьям свадебной шелковой ночи, мелко семенят, перебирают маленькими, детскими ногами, марийки ослепляют зрак красными нарядами, ярче костра, ну же, прыгай через высокий огонь! обожгись! волдырями вздуйся! в костер упади и сгори, дотла!.. и не поверят, что ты на земле - была. Торговля бойкая, отчаянная!.. глядит тебе в душу Христос - мужик печальный, случайный... Татарские сапожки торгуют с телеги, красные, как земляника, ханские, - купи за грош, протопаешь до снега!.. ножки белые, сережки царские... Ольга шла мимо железных торговых лавок, мимо стеклянных витрин, а будто мимо меховых рядов, а потом мимо калашных, а потом подходила к прилавкам, где по-ненашему быстро, картаво лопотали, и она разбирала лишь одно слово: Ганза!.. Ганза... то ль синие, то ли карие, озорница, твои глаза!.. Из кумгана наливали в берестяную кружку приторное, терпкое каспийское вино, ей протягивали. Мне все это снится, шептала Ольга, но кружку обхватывала дрожащими пальцами, да теперь уж все равно! Отхлебывала вино крупными глотками, жмурилась, как кошка, пьянела, веселела. Наливалась зимним, запоздалым счастьем. Ганза, Каспий, Печенежье, Печора, а рядом маячила зверья Сибирь, выкатывали на крышку ларя кедровые шишки величиною с голову ребенка, подвешивали на гвозде, на заиндевелом кукане духовитую сушеную рыбу чебак, высыпали на разделочную доску облепиху - золотой, оранжевой таежной горой, и брали бабы ягоду на зуб, и плевали на снег: зуб сломаешь!.. - трясли купцы шкурами соболей, а мне, кричал охотник с колчаном за мощной спиной, в парчовом широком, как река, кафтане, мне ж тоже винца, жадюга, налей! Плесни! не обмани! гуляем, казаки!.. остатние дни!..
И громадная золотая люстра на старом железнодорожном вокзале, сработанная из мелких медных пластин, из позолоченных дудок и жалеек, из бронзовых надкрылий улетевших в надмирье жуков, из золотых сеток пылающих под солнцем заката стрекозиных крыльев, страшно и медленно вращалась над пассажирами, над их темными, в шапках и голыми, сиюминутными дорожными головами, обнажая иссохший берег с медными рыбьими скелетами, с обломками глиняных крынок, с осколками разбитых бутылей, время постепенно обращало их в пустынные изумруды и сиротские хвойные нефриты, и песок обращался в жесткий снег, его наметали из тьмы ветра тысячелетий, и рельсы обращались в брошенные на снег серебряные скипетры, и футбольными мечами катились державы, и штопали безымянные люди яростные прорехи в лоскутном одеяле ветров иглами из рыбьих костей, древними золотыми нитками, и Ольга думала: мертвые, а они были все живые.
И глядел на драгоценную люстру, задрав голову, царь с острой злой бородой; и садились в золотую люстру, как в ладью, сыпались горохом голоногие озорные мальцы - на веслах на острова плыть, красную рыбу на нищую корку ловить; и дородная царица, тряся складками сытых подбородков, сходила с золотой люстры, что важно качалась на прозрачных волнах, по укрытому парчой трапу на песок и камни, на новую свою землю, и фрейлины за нею шелковый, цвета крови, длинный, как время перед казнью, шлейф несли, и весь город на широкой реке повысыпал из дворцов и избенок, столпился у расписной шкатулки царской пристани и восхищенно падал в ноги владычице: благослови, матушка! пощади, матушка! Помоги! Шла сквозь свой коленопреклоненный народ, как сквозь строй, толстая женщина в посыпанных мукою буклях, и пахло от нее заморским парфюмом, а ветер налетал с широкой холодной реки, развевал кудрявый парик, срывал с верховной головы вышитый розами атласный плат.
Все это давно ушло. Умерло. Но вот почему-то больно, горячо жило в ней. Кто прошил ей живое сердце староверской, иззелена-медной острой иглой? Игла обращалась в рыбью кость, в острое ребро громадного леща, и вонзалась ей в заревую мякоть нежного атласного пальца. Она, бродя по улицам родного города на холодной реке, утешалась давно похороненным, неутешным. Ловила звоны и звуки прежней жизни. Переливы скорлупы старой перловицы. Шептала старому красному Кремлю: я тебя люблю. Пила чай из медного индийского чайника, горячий кофе из серебряного, черненого арабского кофейника с носиком в виде птичьего клюва; брала в обе руки пузатую чашку, и жаркая чернь, и зимнее серебро до мяса, до крови обжигали ей узкие нежные, полудетские ладони. Перенять эту вышивку! Это древнее золотное, под тягучую скорбную песню, вдаль бегущее, птицей летящее шитье - у тех, кто так искусно, широко умел раскинуть его, иглой, нитью, золотом, красным шелком, россыпью речных перлов, разномастными самоцветами, павлиньим бисером, заречным пожаром и малиновыми маками заката, иными сновидческими драгоценностями - на темном, диком, страшном, вечном полночном Покрове! Ольга! Где ты?! Здесь я! Я учусь у роскоши, что века назад передо мною прошла. А жила я тогда? Или не жила? Я жила всегда. Не обманывай себя, девка. Лик горе подними: ты одна идешь в новой, столикой толпе, одна между иными людьми.
А кто там идет за тобой?
Кто?!
Обернись...
Нет. Не оборачивайся. Ты же знаешь. Ты же все знаешь.
***
Дорогие люди, время наше кануло. Что толку о нем говорить? Не вернешь. А вот я, языком своим без костей, его вам - возвращаю. Плохое было время, на части разымалось, разваливалось на глазах. Земля наша пыталась склеить его чем угодно: дыханьем далекого Бога, золотыми нимбами забытых святых, приказной волей и державной силой; везде и всюду неведомую, забытую силу наращивали, вздували незримые мускулы, кричали: глядите! мы становимся крепкими! мы опять становимся славными! мы - герои! мы - возрождаемся! встаем с колен! разгибаем спины и поднимаем головы! - и, да, мы снова вставали с колен и поднимали головы, а может, думала я изумленно, завтра мы снова на колени встанем и шеи согнем? И все это повторяется, повторяется во тьме времен больно и странно? Время распадалось. Не пространство, а время. Время, ржавое, в коросте, на глазах вдруг очищалось, как по молитве, и сияло обновленным, святым золотом, и мироточило, и так же страшно, вдруг, затягивалось свежей пленкой красной ржавчины и ледяной лжи. Люди, что управляли нами, а мы глядели на них с надеждой и тоской, хорошо умели командовать, разделять, властвовать и награждать; они плохо умели вникать в отчаянную печаль и помогать настоящему горю, потому, что слишком много горя валялось везде по нашей земле: под всеми заборами, во всех канавах. Кто-то пировал и жировал, а кто-то плакал, согнувшись в три погибели, на забытой церковной паперти. Впрочем, так было всегда. Я благодарила Бога, что я в моем времени, богатом печалью, не одинока и на паперти милостыньку не прошу; что делаю в жизни то, что люблю. И живу с тем, кого люблю. Это и было подлинное, святое. Мои стихи и моя семья - это и была моя земля, и она не была подвержена распаду и тлению. Мне так казалось.
Пока жива я и моя семья, думала я, жива будет и моя великая земля. Пусть она болеет. Пусть она страдает. Она всегда болела и страдала, ну и что? Мы же на ней выживали. Выживем и сейчас.
А жестокость? Да всегда зубами скрежетала. А злоба? Да всегда за шкирку хватала. А ложь, подлог, подмена истины - фальшивкой? Да всегда пожалуйста! Разве этого не было во все века!
Мир все больше становился обманом, а я бодрилась и хорохорилась, молясь умирающей правде. Сила моей земли, страны моей? Да это же наше искусство! Вот, родную землю топчут ноги родных художников, и я тоже художник! И муж мой - художник! Пусть мы последние художники, наплевать! Рождаем мы боль и красоту, и, как Гойя, свои Капричос, и, как Бетховен, свою Оду к Радости, и, как Гораций, Овидий... Что Гораций, что Овидий? Мы - это мы. Мы - сами по себе! Мы не повторяем никого, и нас повторить нельзя!
Нельзя тебя повторить, Леличка, нельзя, шептал мне муж и улыбался. Нельзя, во веки веков, аминь. А я во все глаза глядела на его новую картину. Она тихо стояла на мольберте. И глядела на меня. Она глядела на меня из тьмы двумя яркими золотыми глазами. Голый стол. Шторы задернуты. На столе два золотых яблока. Они глядят мне в сердце. Не шелохнутся. Катятся из тьмы. Штора прозрачна. За крестовиной окна - призрак. Человек за стеклом закрыл глаза, его лицо искривлено болью. Он голый. В одной холщовой повязке вокруг бедер. Его заносит снег. Его глаза закрыты. Может, он слеп. А яблоки зрячие. Сейчас они скатятся со стола. Я буду их подхватывать, ловить. Прижму к груди. Все. Твой Бог, избичеванный, голый, в крови, молчит в метели за черным крестом окна. Твой Рай окончен.
***
Думать, не надо было думать о волке. А я думала. Я выдыхала слово - а оно, как запах или ветер, немедленно долетало до Ветки, и вот уж она, катая его меж губ и зубов, не выдыхала его ответно, неслышно - орала на весь белый свет! Не думать, об этом не думать, станет худо, надо быть выше, надо плевать на все это с высокой колокольни, - где бы еще такую колокольню найти. Или, может, найти учителя, что научил бы крепко, нагло оскорблять? На железное зло отвечать стальной злобой?
Слушайте, люди, а что такое оскорбление, кто мне объяснит? Где граница между злостью и злобой? Ну да, я сама сейчас догадаюсь. Злость, она временная, она проходит, вспыхнула и погасла, а злоба - та всегда с тобой. Злоба у человека в кожу, в сердце въедается. Многие с ней, наверное, родятся. И так живут. Мучительно это, так жить. Немыслимо.
А ведь живут же.
Злобные. Это про них говорил наш забытый Бог? Ну, что они, которые злобные, они - грешники?
Стать волком! Стать как он! Не дать себя в обиду! У него зубы, и у тебя зубы!
А у тебя, на минуточку, крепче, острее и сильнее! Ты одним смыканием пасти - не только чью-то жалкую глотку, время перегрызешь!
Человек-волк. Волк-человек. Ветка бежит за мной, да кто она такая, твердила я себе, жалкая бабенка, ну, кропает стишки, все мы кропаем стишки, я вон тоже кропаю стишки, и толку? А есть настоящий, сильный волк. Нам всем не чета. Может, это он, Сильный Волк, взял да стал человеком, и оборотился в Ветку, и преследует меня? А она, Ветка, и знать не знает, что Царь-Волк в нее вселился; может, и мучится от этого темно и страшно, ничего не понимая, и мечется по снежному полю жизни, и пытается лапу свою, ой, ногу, в следы всех чужих быстрых лап поставить, уместить!
Ветка, да это ж все чепуха. Птичье чириканье. Даже не думай! У нее пройдет. Она просто заболела, и болезнь пройдет. Она заболела мной, ну и что? Пусть себе болеет! Спадет неистовой злобы жар! И стыдно ей станет!
Все пройдет... пройдет и это...
Настоящий волк, я чувствовала это, там, за деревом, за скалой. За поворотом. Он Высший Человек, который перерос себя, человека, и превратился в Высшего Зверя. Я слышала его рычанье. Оно опьяняло. Если он позовет - за ним пойдут многие. А куда он уведет? На край пропасти?
...вся земля туда рухнет, ой, нет, не надо, прекрати молоть чушь, иди на кухню, тебя зовет муж, дети ждут твоего обеда, вот над смертью твоя победа, и столько в тебе одной бьется сердец, столько душ, и ты на земле свою песню поешь не за страх, не за куш.
Волк, он тоже поет. Он воет будь здоров. На всю землю слыхать. Он - последний зверь? Да, может, и последний. Нет, не последний. У последнего, по Писанию, будет семь голов, и огонь и дым увьется по ветру из семи его пастей. И шкура его будет огненная, красная. Страшно! А пасти-то - волчьи. Это просто у нас в глазах слезы замерцают, сквозь их соленую радугу один волк превратится в семерых волков, а зачем же у него еще и десять рогов? На краю черной пропасти - зверь! Павлуша, возьми с полки ту книжку, да, ту, толстую, старинную, кожаный корешок, золотые оттиснуты буквы, да почитай из нее мне, ну там, в самом конце! В каком конце? В конце мира, Паша. В конце мира.
Там блудница на Звере едет. Крючьями-пальцами ему в красную шерсть вцепилась.
На огне верхом сидит! Скачет и плачет! Зверь-то под ней живой! Жизнь! Жалко!
Господи, Леличка, кого тебе жалко? Это чудовище? Ну брось, все это древние сказки, все на свете это сказки, стихи, это же просто миф, виденье...
Виденье, Паша, это видение... я это вижу...
Да это просто костер горит. А баба прыгает через костер. А тебе чудится - едет на красном волке! Глупости какие!
Жалко... Паша... он живой... он же... дышит... с языка капает слюна... глаза горят... хвост по ветру летит... он царь... да, царь... он - владыка... волк...
Лелька! Я тебе сейчас корвалол накапаю! На тебе же лица нет! У тебя же... сердце...
Паша, что за ним стоит?
За кем, Леля? Что с тобой?
...он царь, а за ним стоит - тьма.
***
Стать таким же, как человек! Таким же - как...
Как кто?
Да кто угодно.
Кто угодно другой: самый красивый, самый умный, самый пламенный, самый... самый...
А не стал никем.
Так волком и остался.
...лучше уж остаться волком, чем стать никем!
Надо быть самим собой. Зачем ты хищник?
А не хочу ягодки собирать, травку жевать. Я - живого мяса хочу! И чтобы оно орало и плакало! Тогда - вкуснее!
...и все же ты поднатужился - и стал человеком. Хоть на миг!
Человечицей. Стихи завыл, запел.
Стихи, это красиво. Это люди умеют.
Так повою. И еще так, и еще вот так. Песня моя слеплена из чужих кровавых кусков! Песня моя - лоскутное одеяло! Только вместо старых лоскутов сшито оно из обрывков чужих судеб, из подхваченных зубами на ходу ошметков чужой боли, чужого счастья; из сочащихся живой кровью заплаток чужой кожи, из чужих стонов и вздохов, одиноко летящих из тьмы.
...Ветка, да ты сама-то можешь песню сложить или не можешь? Свою? И больше ничью!
Могу! Могу! Могу! Мо...
А где же любовь?!
Нынче смеются над ней! Тычут ей пальцем в лицо!
Песня рвется из горла. Далеко летит волчий вой.
Повторяет кого-то несчастного, дальнего. Забытого.
Точь-в-точь, хоть слова и другие.
Травля. Гон. Ольга хочет стать волком. Она - волк, и я - волк! Сойдемся в чистом поле, два волка! А что для этого нужно сделать? Как человеку - в волка оборотиться?
Искусство оборотня велико и страшно. Тебе оно не по зубам! Ты идешь по улице, шатаясь, слезы слепят тебе глаза, ты видишь все хуже. Ты заходишь в чужую открытую дверь, это дверь кафе, тебя обнимает тепло, ты заказываешь чашку кофе, садишься за стол и плачешь. Тебе нужно вина, но вино ты стесняешься заказать: кто-нибудь знакомый увидит, разнесет на весь город: Лелька Еремина в кафешке одна сидит, винцо потягивает, любительница абсента, ну-ну, мы же говорили, этим все кончится, женским алкоголизмом, сначала психушка, потом воровство, у бедняги Волковой хренову тучу стишков сперла и не краснеет, потом вина-коньяки, потом наркота, и вперед, финиш близок. Ты выпиваешь кофе одним глотком, крепко жмуришься, из-под прижмуренных век по щекам ползет стыдное, соленое. Беда - это соль. Сон. Травля! Гон! Сейчас откроется настежь дверь, и медленно, тихо войдет этот проклятый зверь.
Подняться. Бросить монеты на барную стойку. Выбежать. Бежать по-волчьи, закусив губы. У тебя тоже есть зубы. Есть. Есть.
Но тебе, как ни старайся, оборотнем не стать.
Для этого надо повернуть время вспять.
И войти зародышем в чужой бабий живот. И родиться ею.
Той, что так пытается стать тобой, злея, косея, на ветру пламенея.
Осведомители появлялись, как грибы после дождя. Они пьянели от слухов. Ольга Михайловна, а вы знаете... Я знаю! Спасибо! Отстаньте. Не отставали. Шли следом и пороли чушь. Слежка! За поворотом ночлежка! Стукачи! Да ведь вы не держали свечи! Что? Не слышу! Громче! Она говорит, пишет и кричит, что я - кто? Дура! Дуреха! Дурица! Курица! Дурища! Головешка с кострища! Что она еще сказала? Ей что, этого мало? Может, сразу прямо так, матерками? Со слезой, с воплями, с носовыми - в пальцах - платками!
Ольга хотела стать волком и сама загрызть Ветку, а стала дурой.
Просто дурой - в Веткиных плетущихся быстро и сумасшедше, как бухарский, на спор, а ну, кто скорее, бабенки, разноцветный ковер, пестрых, птичьих, коровьих и овечьих, воющих и режущих, наспех слепленных, простудных-обветренных, полных грубостей и визга, воплей и бесчинства, бесконечных, бедных, пестрых, рваных стихах.
...просто - дурой. Простодырой.
Где там волк! Он убежал.
А ты, колченогая баба, не смогла побежать по его следу.
Я себе говорила, шептала ночью себе: смеется тот, кто смеется последним. Павел спал, лицом вверх, я просыпалась и глядела в ночи на любимого. Мне повезло. Какие там волки! Со мною мой человек. А я с ним. Надо прижаться покрепче, уснуть. И все. Так все просто.
Так... все... просто...
***
Люди, готовы ли вы слушать дальше мой печальный рассказ? Или вы сами хотите, тут, без меня, в тишине, в молчании, попить вина?.. а может, кофейку?.. Боже мой, у вас есть и кофе… какое чудо, счастье… Неужели - настоящий? Будете заваривать, и мне чашечку налейте. Я вам буду очень благодарна. Как важно на свете быть благодарным кому-то. Благодарность - это память. Все остальное - пепел. Все сгорит. И мы с вами. Где сейчас Ветка, спрашиваете?.. о, погодите, не спрашивайте… это слишком страшно, больно… она бы сама к вам сюда пришла, если бы вы ее пригласили. Но вы нашли меня, вынули из тайника, и вот я здесь. И слушайте, ибо даны уши, чтобы слышать. Чтобы слышать правду. С правдой на груди легче умирать.
Я вплывала в призрачную Сеть и отчаянно билась в ней. Но глаза мои еще не слепые были, не рыбьи, не затянутые белыми бельмами, еще - видели это.
...ах, хорошие деньги взяла ты, подруга, за горе мое! Я тону - чтоб тонула я, сколько тебе заплатили?! Ты, продажная торжница, грязью белье-шелковье все испачкано, будто собакой копалась в могиле! Ну, руками ты, граблями, деньги греби к животу! А Блаженной смени на Шалаву, на Шлюху ты имя! Пусть счета твои пухнут! Зато у меня на счету - вихри-звезды Вселенной, и что дуре-мне делать с ними! Видишь, дохлая ты! Кто же клюнет на падаль, на труп! Я живая! Побрызгать, забрызгать водою живою зенки мертвые, синь червяков этих, губ?! Ты меня предала - зомби, корчись над золотом, воя!..
...Оля, Оля, вы осторожней на поворотах, вы правда организовали во Всемирной Сети платное преследование Виолетты Волковой? Берегитесь, если этому вонючему делу дадут ход, мало не покажется. Кто даст ход? Да сама же Волкова и даст ход! Вы что, Оля, не знаете, что однажды у нее было сразу три суда! Она к судам привычна. Остерегитесь! Она богатая, у нее много денег, не то что у вас, она всех адвокатов скопом купит! И нашенских, и заграничных! Каких пожелаете!
...я богаче, чем ты! Я по крови богачка! Я вся русская, пылкая, ты же вся - нерусь! Не нужна мне твоя золотая подачка! Красоту я ловлю в прапрадедовский невод! Да, краду рыбарей, волгарей, печенегов, диких половцев, всех Пересветов, Ослябей! Нахватала, заимствовала горы снега, рук мужицких объятья, цифирь астролябий! Урвала, ухватила - сдалась ты мне, дура! Рвешь рубаху - а я рву в клочки синь зенита! Над тобой заклекочут прощальные куры, надо мной - соловьи: это я знаменита!
...знаменита, знаменита и бессмертна, Ветка, блин горелый, бессмертная Ветка, шепотом, сотрясаясь от горького смеха, повторяла я. И снова звенел телефон. И снова я с трудом улыбалась: Волкова? новые стихи? обо мне? подлые? оскорбительные? да что вы говорите! Нет, еще не читала. Но прочитаю непременно!
...войн ты не разжигай, ты, княгиня поганая Ольга! Да, поганая! Я не боюсь древнекровного слова! Погань, погань и есть, и тебе уже княжить недолго. Полетишь ты по вольному ветру гнилою половой! Изолгалась! А там полыхает война красномясо! Ты меня опорочила - хочешь войну опорочить?! На костре я сгораю, я гибну в пылающем плясе, так строчи же об этом стишки, плюй слова между прочим! Вот горят твои, Ольга, роскошные княжьи палаты. Выбегаешь во двор, рвешь седые старушечьи косы. Видишь кровь?! Это я тобой, злюка, распята! Лей же, гадина, слезы!
...гадина, да, сидела и лила слезы. У гадины в клетке костей билось живое сердце. Но о живом сердце непонятной гадины мало кто думал. И меньше всего о нем думала Ветка.
А может, люди, наоборот, о нем-то она больше всего и думала? Для волка самый лакомый кус - чужое сердце, что толкается, безумно бьется под ребрами. Растерзать зубами грудную клетку - и вот оно, живое, горячее. Налетай! Рви, грызи!
Алё. Алё. Я слушаю. Это Виолетта? Да, это Ольга. Привет! Опять прости? Да за что - прости? Я ведь уже простила тебя. И не один раз. А сто раз. И опять простить? За эти стихи? Но там же… нигде нет моего имени…
Как же, есть! Есть! Ольга - разве это не имя?! Все же и так догадываются, что это - ты!
А может... это другая Ольга... не я...
Ну, если имя нашего царя не называют, а о нем всячески говорят, все и так догадываются, что он - наш царь!
...мучительша, ты пригвоздила меня к скале! Прометею подобно! Иль нет, ко кресту, и в кровавейшей мгле шепчу я: «Прощаю…» - надгробно! За деньги ты, став палачихой моей, вгоняла мне гвозди в ладони! А кто же заказчик? Он что, из людей?! Он зверь - на границе агоний! Ура, догадалась: продажная тварь ты, Ольга! Портовая шлюшка! Но, Ольга, люблю тебя так же, как встарь, хоть нынче ты стоишь полушку! Тебя за копейку снимает матрос. Ступай же с ним в эту таверну! А я распускаю созвездия кос и больше не нюхаю скверну!
Отовсюду, со всех сторон валились на меня Веткины стихи. Да она сошла с ума, шептала я себе, сколько же она строчит, так много ненависти в рифму, и так много красивых и славных имен, ведь это же графомания чистой воды, это моря, реки, ручьи и лужи стихов, она сама в них скоро потонет, - Русь, Борея, Гондвана, Лемурия, Атлантида, кариатида, град Китеж, Египет, кораллы и пряности, Афанасий Никитин, шалишь, уехал в Париж, Людовики и Хлодвиги, Аттилы и Аларихи, молебны, алые паруса, Ассоль, каменная соль, Америка, Кремль, Донбасс, цыганский пляс, Сирия, Бетховен, Мария Стюарт, колода карт, Владимир Красное Солнышко, ботинок Хрущева, Валентина Терешкова, мать-героиня, халат сатиновый синий, Сибирь, имбирь, осетры, опять костры, костры, костры, на которых опять горит, пылает, сгорает она - мученица - вечная Жанна - одной ей осанна - в огне нету брода - дочь трудового народа! Ты, подложи ты вязанку в огонь! Да святую меня, подлюга, не тронь! Все во мне, звездной, чисто и свято! А грязным катам - приходит расплата!
Мне хотелось зачерпнуть этот словесный борщ расписным половником и щедро, в глубокую миску, налить тому, кто никогда еще никаких стихов в жизни не читал. И пусть хлебает. А я на него погляжу.
Странно, все так странно. Ну, еще, еще погляди на себя со стороны. Отдались от себя. Рассмотри себя. Такая судьба. Ты все та же? Или ты другая? От кого, от чего я - себя - сберегаю?
А может, не беречь... под гусеницы лечь... и пусть переедет танк... отдам странную жизнь - за так...
Господи, моя любовь, да где же ты...
И раздался звонок. Очередной. Там, на другом конце туго натянутого пространства, вспыхивал и гас тоненький голосок, то и дело переходящий в визг. «Олечка! Серебряная моя, яхонтовая! У меня к тебе большая, громадная просто даже, огроменная просьба! Давай встретимся! Ну правда! Надо поговорить!»
И я сказала «да».
И мы встретились. На поминках.
***
На забытой войне в широких южных степях, вы о ней слыхом не слыхивали, друзья, а война эта, жадная волчица, пожрала тогда много безвинных людей, погиб поэт Иван Птица. Наш земляк. Его застрелил снайпер. На годину собрались друзья. Одноклассники, однокурсники, газетчики, знакомые мужики, с которыми табак смолил и водку пил, и мы, писатели-поэты. Родня накрыла столы в заштатном кафе. Принесли и расставили по столам, по белым скатертям, как водится, честь по чести, по-русски, поминальный обед: кислые щи, гречневую кашу с мясом, компот, пироги. Нас рассадили. Воткнули в вазы салфетки. Рядом взвихрился воздух. Ветка Волкова уже тянула к себе стул, ножки стула с визгом процарапывали мраморные плиты.
«Олечка, Олечка, ну вот мы и встретились! Ура! Лапочка! Как ты прекрасно выглядишь, красавица, душенька!» Здесь все прекрасно выглядели: молча сидели, затянутые в черное. Ветка кокетливо поправила на коленях искристую, с люрексом, короткую юбку. Поддернула ладонями, думала, незаметно, а все увидали, обвислые тяжелые груди в нахальном, совсем не поминальном декольте. Пододвинулась ближе ко мне. «Ах, Олечка, я так хотела с тобой поговорить!» Говори, кивнула я и постаралась улыбнуться. Мне это удалось. «Леличка, ну что мы с тобой как два павловских гуся на гусиных боях! Это просто Хиросима какая-то! Нагасаки, блин! А если по-хорошему! А?!» По-хорошему - что, постаралась тихо и спокойно спросить я. И это мне удалось. «Как что! Ну ты же попросила у меня прощенья! А я - у тебя! Давай в знак окончательного примиренья поцелуемся!» Как, зачем, здесь? «Да, здесь! На глазах у всех! В такой день! День памяти нашего друга! Ивана! Он погиб на священной войне! Каждый, там убитый, священен! Иван - герой! И наш поцелуй будет - такой священный знак! Все увидят, что мы любим друг друга! Ну не так, конечно, как ты подумала, ха, ха! Мы же не лесбиянки! Давай!» И не успела я опомниться, как она схватила меня за руку, близко притянула к себе и коснулась намазанными алой помадой губами моего рта.
Мне показалось, рот у меня загорелся. Я отвернулась и незаметно вытерла губы ладонью. Люди за нашим столом замолчали, положили ложки и вилки и молча смотрели на нас. Ветка изломанно, мелко захохотала, на самой высокой ноте, и стекла в окнах задрожали от ее хохота. «Ну вот и ладно! За это надо выпить! Ссора, драка, мир!»
Она подмигнула незнакомому мужчине за столом, он ловко сорвал с водки пробку, серебряная струя, перевиваясь, сначала ударила в Веткину рюмку, потом в мою. Ветка подняла рюмку и хотела было стукнуть ею о мою, да спохватилась, воскликнула: «На поминках не чокаются!» - и, хитро блестя в меня острыми, жгучими глазами, быстро выпила. Я выпила тоже. Водка встала у меня поперек горла. Кашель задушил, как астматичку. Я еле прожевала кусок селедки. Ветка глядела на меня, губы ее лукаво изгибались. В углах глаз вздрагивали лапки морщин. Я сидела слишком близко к ней, и я вдруг увидела, как обреченно испещрено мелкими, тоньше паутины, морщинами ее смеющееся, нарумяненное лицо. Неведомая, жалкая жалость стиснула мне сердце, как зубами. Прокусила. По-волчьи. Я захотела выпить еще водки. Но пить не стала.
Поэты выходили и читали стихи в память убитого Ивана Птицы. Вызвали Ветку. Она выскочила и стала читать, как всегда, зазывно повизгивая на высоких нотах. Я слушала и ничего не понимала. Снаряды, огонь, Антихрист, Христос, Моцарт, соловьи, мишени, архангелы, Верден, Гитлер, камыши, утки, рыбы, рассветы, закаты, Бисмарк, Геббельс, Троя, опять Троя, всегда сгоревшая Троя и троянский конь, коня, дурака, водят за веревочку, снова несчастный Моцарт, его опять отравляет сучий потрох Сальери, бомбежка, Киев, Дрезден, Гамбург, Лондон, кровь Дона, кровь Волги, кровь Амазонки, взорванный аэропорт Токио, Яго и Отелло, Борис и Глеб, Ахилл и Гектор, костер до неба, война до победы, не было всему этому конца, да где же здесь убитый Иван, потрясенно думала я, в этом нечеловечьем стогу земных имен и яростных событий, и чертовы грабли рядом валяются, где тут сокрыт, зарыт бедный, застреленный влет солдат Птица и память о нем? Склонив головы, терпеливо слушали родные. Ветке вежливо похлопали. Вызвали еще поэта. И еще. Вызвали меня. Я прочитала короткое поминальное стихотворенье. Оно было сурово и горько. В нем было очень мало слов.
Поминки закончились. Народ не расходился. Разбросались гости по залу, приютились за неприбранными столами. Беседы, болтовня, байки, и еще выпить охота, и что, мужики, скинемся? Мы сидели с Веткой рядом, за нами чужие мужики поминали Ивана, и все горячей и бессвязней звучали их голоса. Ветка искрила аляповато подкрашенными глазами, передергивала плечами, беззастенчиво поправляла под платьем лямку лифчика. «Ах, Олечка! Поэты такие сволочи! Я вот что-то вспомнила, как мы в Матрешки ездили. Ну, в Матрешки, в усадьбу декабриста Крюкова, ты же знаешь! Ну, там гостиница, поэты, конечно, после концерта надрались… и я с ними немножко выпила, ха-ха! Веселая ночка! Утром садимся в автобус, домой ехать, а я кричу на весь автобус: эй, народ, эге-гей, шофер, заворачивай обратно, я в номере трусы забыла! Так, блин, в чем смех-то, это я не для смеха все орала, я их и правда забыла! А может, поэты, сволочи, своровали! А-ха-ха! Долго ли до греха!» Я не могла смеяться. Мне было не смешно. Ветка поднесла к губам рюмку. Пригубила водку. Вытащила из крокодильей сумочки пачку мятных дамских сигарет и закурила. Положила ногу на ногу, демонстрируя всем круглые голые коленки. «Хорошие, блин, поминки по Ивану получились. На пять с плюсом! Лелька! А знаешь что! Давай и правда любить друг друга! Нет, я не пьяная. И пошла ты в задницу, что косишься так, я не про Лесбос твой! Все вы на нем, на Лесбосе, дуры бабы, помешаны! На древней дури - нынешние дуры! А я просто тебе - про любовь. Ну хватит уже вражды! Давай - любить! Ведь это же так просто, елки!» А как любить, прохрипела я. «Да очень просто любить! Стихи давай друг другу посвящать! Ты - мне, я - тебе! В Сети давай сердечки друг другу ставить! Гулять давай вместе, бродить… выпивать! Коньяк хороший, вино французское, итальянское! А ты - будешь мои стихи в столичные журналы пристраивать! А я - твои вслух читать! Ну, тебя пропагандировать! Рекламировать, короче! А ты - мои читай! За мной не заржавеет! Я проставлюсь! Бутылка шампанского за мной! Да что я, вру я, целый ящик! И вместе наконец-то будем выступать! Ну ведь близнецы мы! Как ты не поймешь до сих пор! Ты из себя глухую-то не корчи! Все ты слышишь, все понимаешь! Ну как? По рукам?!»
И Ветка протянула мне маленькую ладошку. Накрашенные ногти поблескивали. Хитрые пальцы подрагивали.
Я глядела на эту руку, что моталась над столом с грязной посудой передо мной.
Я почувствовала себя немытой тарелкой.
А женская, в маникюре, рука превратилась в когтистую лапу.
И серая шерсть густо покрывала костлявое зверье запястье.
***
Помирились, думаете вы? В сотый раз? О люди! Дорогие мои… Я тоже так думала. Тогда.
Я теперь тихо и горько говорю всем, кто во чьи-то волчьи слова наивно, по-детски верит: дорогие, не верьте, никому не верьте, кто говорит вам о хорошем-расхорошем и честью клянется. Только вы за угол - он изготовит для вас мину, злорадно, торжествуя, взорвет под вашими ногами. И, главное, нарушит клятву.
Честь, бесчестье - все едино. А в нашем мире… сейчас…
В нашем мире, люди, о, в нашем проклятом мире, теперь, сию минуту, все забыли про честь… про совесть… даже просто про милость - забыли… И получился, провались все на свете, вот такой мир. Наш - мир.
Разве мы его - хотели? О нем - мечтали?
Вышло то, что вышло. Мы ненависть вовремя за руку не схватили. Ненависть, подлог и обман.
И все покатилось. Во тьму.
Клясться никогда нельзя. Человек - клятвопреступник: даже если он клянется жизнью матери, отца или собственного ребенка, он все равно пошлет свою клятву к чертям, если ненависть окажется сильнее любви.
Не прошло и двух недель, как город гудел: Ветка Волкова о Лельке Ереминой новые стишки накропала! А вы читали? А вы читали? А вы?
Боже мой, ну неужели непонятно: две дамы вот так изысканно выхваляются на публике! Недурно придумано! Одна другую грязью поливает, а та, другая? А что другая? Молчит пока в тряпочку. Зря молчит! Надо развернуться - и как дать! Хуком под левое ребро! Ну, так это только мужики могут. У баб, у них другое оружие. А какое? Вы что, разве не знаете? Сплетня! Кривые языки страшнее пистолета!
Не кривые, а злые.
А какая, хрен, разница!
Зато какая реклама!
Читайте, какая грязь! О Господи, и правда грязь.
Да не грязь, а пошлость!
А что, вы это серьезно - про пошлость? У Виолетты Волковой ведь такие красивенькие стихи! Как розочки! И там про чудеса разные, про детство, про речки, про вышивку гладью, про костры, про морозы, про березы, про ягодки, грибочки, про солнышко, про звезды, про радуги…
Я вам не буду объяснять, что такое пошлятина. Это все и без объяснений видно и слышно.
Ах, так для вас пошлятина - это речки и грибочки?! Это, между прочим, наша святая родина!
Ах-ах, у нее не только про грибочки! У нее - про пожар Рима есть! И... и... и про Марию-Антуанетту!
Да у нее чего только в стихах нет! Иди с лукошком и собирай! Тыщу грибочков насшибаешь!
А этот стих? Разве это пошлость? Это - ужас!
Да, ужас. Это воплощенная ненависть!
А разве ненависть может быть поэзией?
Черт подери! Выходит, что может!
Это не поэзия, господа. Это - помойка. Я сам - такие злобные стихи километрами могу писать!
Ну так вот Ветка километрами и пишет.
А мы - читаем?!
Туда нам и дорога.
...из капкана одежды торчат руки, ноги. То бредет, головою мотая, старуха. Глина мертвая. Сохлый ручьишко убогий. А княгиней плыла в тучах меха и пуха. Ольга, черная бабка, уж лыка не вяжет. Обезжизнилось слово. Рот дряхлый и впалый! А когда-то парчой трясла: все на продажу! Расшивала каменьями плат небывалый! А сейчас ковыляет безумка-старуха. И в глазах - дурота. Дура, круглая дура! Никакой благодати святейшего Духа! Нет восторгов! Не сердце в груди - камень бурый! А когда-то взахлеб ею я восхищалась! Этой, бабкой согбенной, совсем безголосой?! Вызывает она отвращенье и жалость! Нет закатов, рассветов, нет алого плеса! Ах, как я восторгалась старухой когда-то! Ее ядом напитывалась под завязку! Повторяла при солнце прах сказов проклятых, повторяла ночами постылую сказку! Ах, старуха! Да вечность тебе и не светит. Ты сама себе - Каин, Сальери, Иуда. В грудь толкает тебя заблудившийся ветер, и на землю ты валишься, курва, паскуда! Ты - мертвячка! Ты черное солнце. Дыра ты густо-черная! Тонут в тебе междометья! Вот, старуха, когда наступает расплата - за напевы обмана, за звон лихолетья! Ты - мертвячка, а я так преступно живая! Крови хочешь моей?! Всю возьми, влей в себя ты! Я тебя, Ольга, труп твой в пыли обнимаю, за гордыню твою наступает расплата! Ты сама себя вдрызг иссушила, старуха! И лепечешь теперь: я умру, умираю… Что бормочешь еще, запредельно и глухо?! Вот оно - твое, Ольга, изгнанье из Рая! Сдохла ты! Вся иссохла! Не быть тебе славной! Не мечтай! Все тебя, о старуха, забыли! Ты - скелет. А царила княгиней державной! Гниль зубов, дыры глаз полны ядом отравным. Попляшу на твоей я могиле!
Ольга, здравствуйте! Ольга, вы меня слышите? Да, я слышу вас. Хорошо слышу. Ольга, это вам звонят из Нового Света. Ой, здравствуйте, как хорошо слышно, удивительно, через океан. Ольга, скажите, правда ли это, что стихотворение некой Виолетты Волковой, опубликованное в знаменитом столичном издании, это про вас? Да. Это про меня. Спасибо, мы так и поняли. Дело в том, что ваша Волкова просто-таки забрасывает нас письмами и стихами. Получаем по пять писем в день. У нас работники читают, ну, мы просто обязаны читать почту... все в шоке. Стихи, мы сразу поняли, обращены к одному человеку, к женщине, к поэту, ее в тексте зовут Ольга, мы сначала думали, это зашифрованное имя. Нет, не зашифрованное. Настоящее. Спасибо! Мы вас знаем. Ваши стихи знаем. Хотим, чтобы вы у нас напечатались. Вы не против? Нет, я не против. А мы хотим у вас попросить прощенья. За что, помилуйте? Да вы вряд ли нас простите. За что, Господи?! Да за то, что мы тут не разобрались толком… и показали у нас одно стихотворение вашей Волковой. Мы слишком поздно поняли, что оно тоже про вас. Оно для вас оскорбительное. За такие стихи, в общем-то, подают в суд. Но там нет фамилии. Только имя. И за оскорбление личности, увы, в суд не подашь. А у нас в Новом Свете, знаете, если один человек назовет другого дураком, можно смело подать в суд. А тут столько грязи! Просто ушат! Щедрая на грязную ругань ваша Волкова. Скажите, а она воспитанный человек? Скажите, а у нее все в порядке со здоровьем?
…а вот вы мне скажите, Новый вы Свет, умница, заграница, ну пожалуйста, скажите, искусство, оно что, разве не может лепить себя - из жизни? Ведь все искусство - это зеркало жизни! Значит, все искусство преступно? Нет. Не все. Но, Ольга, знаете, что я вам скажу. Преступно искусство, которое рождается из ненависти и злобы. Это не искусство. Это месть. И как бы мстительный автор ни кричал о красоте и высоте, он все равно будет валяться в выгребной яме и ползать ниже плинтуса. Месть еще никогда не становилась подлинным искусством. Алё! Алё! Вы слышите меня? Слышите?
…я все прекрасно слышала. У меня петлей горло захлестнуло.
Еще одно примирение - и крашеный поцелуй - и после него - вот это?
Скажите, милые, вы же все тут собрались, верю, умные люди, вы-то точно догадаетесь, мне правду ответите, а есть ли преграда злобе? И есть ли граница, после перехода которой человека, как бы его ни мучили, нельзя уничтожить? Нельзя, как ни коли его копьями, как ни вари в кипящей смоле? Если в древности были святые мученики - почему ими нельзя стать сейчас?
Я понимала: еще немного - и я перестану ощущать боль. Перейду границу.
А называла себя мученицей - она. На костре сгорала - она. На кресте руки раскидывала - она. Ветка быстро, в одну секунду переворачивала не ею намалеванную картину вверх ногами. Это она страдала, а мучили - ее! Это она была полна жизни, а я, покойница, валялась у нее в ногах! Как же ей хотелось, чтобы так было! Я молчала. Я долго молчала. Я не писала ни одного стихотворения в ответ на оскорбления Ветки. Я считала это ниже своего достоинства. Но, знаете, терпение лопается. Автоклав взрывается. Огонь, под спудом тлеющий, вырывается наружу. Ей можно? А мне нельзя? Вступить в беседу! С кем? С живой, животной ненавистью? А почему нет? Может, и чужая ненависть, чужая злоба могут на что-то стоящее художника вдохновить?
Не питайся ненавистью, пиит... а может, питайся... улейся злобой, упейся, местию чревоугодно обжирайся... живот свой ядом услаждай, а такоже и алчную душу... из бездн Адовых гуляй прямо в Рай, от сковородной жары до лютейшей стужи... Не питайся ужасом, ты, жалкий, смертный ты человече... не ставь за упокой живому ты другу канунные свечи... в церкви на черное зло не колдуй... ветер ярости, дуй... с ног сбивай, ломай в инее крылья... Не ешь ты ненависть, бедняга, не пей... нельзя тако мощно презрети людей... сгибнешь в бесславье, в безлюдье, в бессилье...
Художник я или не художник, спросила я себя, а еще мужа об этом спросила, мы проводили в деревне лето, муж ходил на рыбалку, он ловил рыбу, а я плавала рядом, непойманную рыбу изображая, конечно, ты художник, улыбался он, еще какой художник, но я бы не советовал тебе вставать на одну доску с той теткой, что так тебя ненавидит. Она сама выдумала себе войну с тобой! Потому что она не потерпела правды. Воровство однажды было обнаружено. Ее за руку - цап! Разве она могла это вынести! Кража - Бог с ней. О ней уже все забыли. Наступает момент гораздо круче. Наступает царство ненависти. Яда. Виолетта в один миг переворачивает все. Черное? Да что вы говорите! Это белое. Ольга молчит как рыба? Да Ольга сыплет и сыплет ядовитыми сплетнями обо мне, безвинной! У Ольги успех? Да она в грязи лежит. Ты пойми, Леля, если ты напишешь ей ответ, она тоже перевернет его! Она - его - извратит, изгрызет, порвет в клочья - и из кровавых клочьев себе новую шубу сошьет! И скажет, на весь свет заорет: «Шуба - моя! Кровная! А это Еремина ее присвоила! Из-под носа украла!»
Так говорил мне муж. Вскоре он уехал в город. Я осталась в деревне одна, топила печь, лето стояло холодное, налетали мощные угрюмые тучи с севера, я на вечер уходила в гости к друзьям, деревенским старикам, они кормили меня пирогами с капустой и вишней, и часто я оставалась у них на ночь. Спала на русской печке: там было жестко, но тепло. И в тот раз так было: горячий чай, пироги, разговоры, кружка с молоком на сон грядущий. Я забралась на печь, разомлела, стала засыпать.
И тут, знаете, меня будто ударил кто изнутри по ребрам. Или снаружи ударил. Я привскочила на печи. Чуть не врезалась теменем в мощную матицу. Сердце глухо, больно билось. Бух, бух. Ребра сотрясались, вся я тряслась, как шаткий дом, из-под которого поплыли прочь, как по весеннему болоту, деревянные столбы. Мне почудилось - изба плывет. Оползень? Я спрыгнула с печи на пол. За мной потянулось лоскутное одеяло. Я подхватила одеяло и завернулась в него. В окне горели холодные звезды. Тускло горело зеркало: потусторонней, гиблой жизнью. Серебряные скосы отсвечивали латунными боками расстрелянных самоваров, убитых чайников. Я боялась глядеть в зеркало. Особенно ночью. Босиком я шла по желтым некрашеным половицам. Пол настилали недавно и не успели покрасить. Занозы впивались в пятки. Я все-таки подошла к зеркалу. Оно тянуло меня магнитом военной амальгамы. Я встала совсем близко к нему. Так близко, что я ощущала холод, дышащий от его косой, расколотой льдины.
И тут мне навстречу из зеркала вышел волк.
Я обомлела. Застыла. Только молча стоять, только не шевелиться.
Волк замер. И я замерла.
Я видела, как под сквозняком медленно, сонно шевелится его серая, лунная шерсть на загривке.
Волк медленно поднял морду. Повел носом. Он нюхал воздух.
Нюхал, где пахнет мною. Живой.
Еще живой.
Учуял. Переступил лапами. Повернулся ко мне - носом, мордой, всем поджарым серым, мусорно-жестким, иглисто-грязным мерцающим телом. Всей шкурой и жизнью.
Глаза волка искали мои глаза. Они тускло, оранжево горели на морде, всаженные в шерсть в подпалинах, под плоским узким черепом, уши прядали, он был похож на собаку, только гораздо страшнее.
Оранжевые огни под зверьим черепом нашли меня. Мои глаза.
Нашли - и вспыхнули.
Мне показалось: он сладострастно, жестоко улыбнулся.
Да, открыл пасть. Улыбка. Мокрые черные губы.
Я видела под щеками, под усами, мелко дрожащими, желтые острые зубы.
Волк слегка зарычал и приподнял губу. Теперь я видела его оскал.
Нет, сказала я беззвучно, нет, уйди. Я тебя не звала.
Он приподнял лапу и опустил, и торчащие когти лязгнули о половицу.
Нет, ко мне нельзя, я все равно сильнее, уйди, исчезни, я знаю, кто ты, но мне даже и не надо это знать. Ты мой сон. Ты моя явь, твой ужас послан мне, чтобы я нечто важное осознала. Чтобы знала, куда идти. Дальше! Жизнь вся соткана из «дальше». Жизни нет без «дальше». Но приходит волк, он приходит ночью, и ты понимаешь, что все, что никакого «дальше» не будет. Что делать? Осталось пять минут. Или пять мгновений, а какая разница. Написать о тебе стихи! Зверь! Ты мой черный зверь. Мой серый, шерстяной человек. Мой рок, ужас. Мой рыжий, с подпалинами, рок, ты идешь за мной след в след, ты жрешь меня, ты жрал меня вчера и кости обсасывал, а теперь ты просто ненавидишь меня. Зверь и должен ненавидеть. Без ненависти зверь не живет. Рычишь, без ненависти не живет живое?! А! Врешь. Живут люди без ненависти! И звери живут! И птицы! Да зверь зверю рознь. Зачем ты пришел, волк? Я же не знаю твоего языка! Я не говорю на языке ненависти!
Волк стоял и глядел на меня. Я попятилась. Он не сводил с меня глаз. Я не отрывала глаз от его огненных зрачков. Его зрачки стали моим подземным зеркалом. Я, не оборачиваясь, сунула руку себе за спину. Там стоял стул. На стуле лежала моя теплая кофта и моя тетрадка. Не глядя, я нашарила тетрадь. Карандаш. Главное, не отводить глаз. Пока я на него смотрю, он не бросится. Пока у меня еще тверд взгляд. И еще у меня точная рука. Я буду смотреть ему в глаза, а рука сама будет писать. Карандаш будет царапать бумагу. Только не отворачивать лицо. Лицо, оно глядит на морду, в морду. В ненависть. Пришел твой черный человек, серый, желтый, рыжий. На загривке волка будто снег засветился. Ледяные кружева. Смотреть! Не отводить глаз! Они все боятся глаз. Прямого взгляда. В упор.
Я села на корточки. Положила тетрадь на стул. Вслепую раскрыла. Сжала в пальцах карандаш. Волк смотрел мне в глаза. Я стала писать. Вслепую. Не глядя. Мой рыжий волк, грязный, в подпалинах, черный, ты был когда-то человеком, мне жаль тебя, я напишу тебя. Я тоже имею право на ярость. На правду. Скалься! Щелкай зубами!
...я напишу тебя - для будущего. Придут люди, они прочтут. Они - поймут.
Смотри мне в глаза. Мне! В глаза.
…той ночью я, умирая от боли и ужаса, написала стихи. Я таких никогда не писала. И больше уж не напишу. Такие стихи пишут лишь однажды в жизни; а потом или забывают, или сжигают, или молятся Богу, прежде чем их перечесть.
Я никогда и никому их не читала. И вам не прочитаю.
Есть вещи, что умрут только вместе с тобой.
Выболтать можно все что угодно.
Но самое страшное выходит из тебя на волю лишь вместе с кровью и жизнью.
***
[ОБОРОТЕНЬ ЯВЛЯЕТСЯ ИЗ ЗАЗЕРКАЛЬЯ]
...оборотень, он пустой.
Пустота бежит за тобой и ворует у тебя полноту.
Оборотень безвременный: он ворует у тебя время.
Твое время. Единственное. Дорогое.
Оборотень, он вор; для него кража - страсть, наслажденье.
Волку украсть овцу - все равно что человеку выпить бокал хорошего вина.
Удовольствие мгновенно.
Удовольствие слишком смертно.
На удовольствие никогда нельзя ничего ставить: бесполезно.
Ни деньги. Ни честь. Ни волю.
А разве мы живем для полезного?
Мы сами бесполезны.
Человек, это роскошь природы.
Нет! Это болезнь природы.
Природа больна нами.
Мы ее скарлатина, ангина, вырванный зуб.
Человек это двойник Бога.
Оборотень это двойник человека.
Волчье сердце - двойник твоих слез.
Ты плачешь - а волк смеется.
Ему любезны твои слезы, так и знай.
Зачем рожден двойник?
Он тебе завидует?
А может, вы с ним родные?
Может, вы сиамские близнецы?
Близнецы царской, волчьей крови?
Твои зубы наизготове. Моя кровь наизготове.
Пей!
У зверей все как у людей.
Зверь больше человек, чем мы привыкли думать.
Зверь завидует.
Зверь похищает.
Зверь обманывает.
Зверь притворяется.
Зверь притворяется добрым и честным.
Зверь хочет власти.
Он хочет царить.
Он перекусывает твою жилу, как нить.
Он хочет вечной ненависти.
А может, он одинок? Он сирота?
И он хочет вечной любви?
***
...оборотень: пустой пустота бежит за тобой ей - парную пасть окунуть в алмазный твой зимний путь волколак: без времен за временем бешеный гон за единственным и твоим округ пасти - бешеный дым наслажденье вору - урвать волк - овцой глядит: исполать кровь - вином: в обличье людском поминальный причастный ком наслаждение - зверий рык перегрызть плетеную клеть наслаждение - дикий крик для свободы дикая плеть наслажденью на кон поставь деньги честь и волю и власть ты отравою из отрав обернись - и тебя не украсть разве мы для пользы живем бесполезны мы искони мы щедры а кража внаем от судьбы спаси сохрани мы устали внаймы взаймы мы желаем когтить и владеть совладать с зазеркальем тьмы сшить на гибель ловчую сеть мы - природы роскошь о нет мы ее кусачая хворь мы ее бродячий завет скарлатина ангина корь зуб мы вырванный красный крик нитка нерва выбитый глаз человек - то Богов двойник волколак - отраженье нас волчье сердце - зеркало слез ах твоих получи под дых твою радость в зубах унес серый волк один на двоих волчье сердце - скорби двойник ты рыдаешь - смеется волк отраженья отравный лик осужденья отпетый толк ах его завидки берут а быть может родные вы кровяной Сиам берег крут храм-близнец на яркой крови волчья сыть да огнище-ров крестовьё ледяной травы зубы ты в ночи изготовь на меня и жилу порви пей мой кубок заздравный пей прокуси души оберег у зверей все как у людей зверь он больше чем человек зверь завидует зверь крадет зверь обманом идет ко дну зверь он знает все наперед про клыкастую нашу войну зверь прикинется добротой притворится талой свечой громкой клятвой водой святой Водосвятья вьюжной парчой а на деле - зубами - клац роет лапами царский клад перекусит красную нить чтоб яриться выть и царить только ненависть вот - война только злоба вот - торжество только месть без края и дна царство зверя победа его красноглазый кинжальный рок тень приклада в ночи плыви
...ну а может зверь одинок и взыскует вечной любви
...может воет он сирота слипшись в грязный сугробный ком плачет за верстою верста под ракитовым тем кустом
***
...злоба - болезнь, зараза.
...я больна. Ничего не поделать. Больна.
Я заразилась злобой.
Оборотень, браво тебе, ты меня заразил.
Цапнул меня отравленным когтем.
Но не думай, что ты меня у света отвоевал.
Не утащишь меня, зубами за воротник, с собой во тьму.
Я еще поборюсь!
Я еще поживу!
Я... еще...
...она не видела ничего слепая навзрыд
не видела как зеркало мелко дрожит
как раздвигается пьяная амальгама
падает пирамида хвои снега и хлама
она в зеркало не глядела
а оно меняло душу и тело
серебрилось бритвой ветра брилось
мерцало срасталось и снова билось
искривлялось изумлялось изгалялось
било под дых било на жалость
било осколки сыпались под рубилом
не видела ничего что было-не-было-было
ни серебра ни мрака ни зги
по черной воде круги
затылок последним движеньем
закрыла
доской отраженье
напрочь
наслепь
наспех
забила
забыла
***
…упала. Кажется, я упала рядом со стулом. Напротив зеркала.
Я ничего не видела.
А в зеркале по избе, по некрашеным половицам медленно прошел волк со встопорщенной на загривке шерстью цвета паучьей кожи, с ледяными кружевами, длинными иглами заледенелой шерсти между торчащих чутких ушей, пересек избу, не торопясь вернулся к зеркалу и так же медленно, важно вошел в него.
Я лежала на холодном полу и крепко сжимала в руках карандаш. Из карандаша лилась кровь. Он был изгрызен до грифеля, как овечья кость. Я покрылась изнутри инеем, а в печи дотлевали красные угли, красные волчьи зрачки.
[ОБОРОТЕНЬ УХОДИТ В ЗАЗЕРКАЛЬЕ]
***
Я стала погружаться во время.
Глубоко, глубоко. На такую глубину, что оттуда не выплыть.
Я видела: там гуляют и плачут диковинные рыбы, помахивают колючими плавниками. По каменному, потом песчаному, а позже - густо-илистому дну, прибежищу утопленников, ползут длинные, как время, змеи. Водная глубина времен внезапно становилась небесной. И в небесах я вольно плавала и ныряла; и открывались мне дивные, на полмира, картины, лучше бы я их не видала, да внутренние глаза, не телесные, были слишком крепко вставлены мне в душу и сердце. И я слышала лбом, жалким умом, и глядела сердцем.
Узрела: вот летят по глубокому, сумрачному небу два светящихся существа. Иначе не назовешь. И оба крылаты.
Птицы не птицы, люди не люди, звери не звери. От них на все небеса раздается стук и грюк, как от живых трещоток.
Поняла: это их сердца так барабанят!
Один красавец, и другой не промах. И крылья у них похожего цвета. Перо к перу! Перья шевелятся, шуршат. Звучат чудовищной, подземной музыкой. Зрят сапфировыми, перламутровыми очами. Небеса меняют цвет, как мрамор в подземелье. И поезд по облакам грохочет. А два этих, ну, крылатых, вижу чрез диковинное, в форме живота, стеклянное, а может, слюдяное зимнее окошко, трясутся в вагоне, а потом состав - стоп!.. стой, машина, задний ход!.. - мгновенно замирает, как к рельсам рыбьим огнем преисподним приваренный, а может, грозно-ледяным, железным торосом над обтрепанным светом воздет, и они оба, рискуя сломать крылья, протискиваются в узкую дорожную дверцу и сходят по вагонной дикой деревянной лесенке, чисто игрушечной, да прямо ко мне.
А за их спинами некто заоблачный, звездный изо всех силенок дует во свирель. Щеки шарами раздуваются. Жалкая, тонкая дуда дрожит в чахоточных руках. Сейчас выпадет тайная нота, грянет долгожданный гром, захлещет наотмашь косой звездный дождь, и музыка умрет. А такая нежная была!
Два крылатых ко мне идут. Подходят близко, я слышу их хриплое, больное дыхание. Ни травок у меня, ни пилюль, чтобы им, бедолагам, полечиться. Слышу, один, крылья отливают жаркой синевой, нагая грудь тяжко, как в страсти, дышит, ребра вздымаются и опадают, глаза блестят, как пирожки, смазанные яйцом, торжественно разлепляет сухие губы, и глас у меня под черепом гудит:
МЫ ВЕДЬ БРАТЬЯ ЧТО ТАРАЩИШЬСЯ МЫ КРОВНИКИ ОДИН ЛЮЦИФЕР ДРУГОЙ ВЕСПЕР
...или Геспер, тут я не разобрала. Непонятливая.
А может, глухая. Слышу не все, а то, что желаю.
А что же с вами стряслось-то, вопрошаю охвостьями мыслей. Знаю: поймут. Тут другой вперед выступает, перья изумрудные, руки висят вдоль тела, многотрудные, и чудится мне, что у него не десять пальцев на руках, а все двадцать, а может, сто, так дрожат и гаснут многозвездно. И сам он весь дрожит. Голый же. Замерз. Надеть бы на него старое, военное пальто. Подбитое ватой. Или атлас халата.
Мыслями мне отвечает: Владыка жалости-то не знает. Владыка подумал, что я, сволочь такая, позавидовал брату. И сбросил меня с небес, и летел я меж грудастых туч, ветром распятый! Да не жалейте меня, вы, земные ребята, щенки-котята, мы ж только на бархате неба заплаты, мы у Владыки на пятках подбойки, гвозди-звезды, слепые набойки, мы можем петь, а можем и плакать бойко, жизнь прожигать навзрыд, кто нам не велит, вот летел я, летел, плохо, видать, молился, о землю грянулся, да тут вхруст и разбился. Да Владыка меня оживил. Для чего, ору, жить на земле нету сил! А Он так подмигивает хитро: встань, отряхнись, иди твори зло, коль не можешь добро!
А я Ему в щеки рыдаю, губы кусаю, из губ кровь течет, брызгает взад и вперед, все музыкой, музыкой рассыпается, и все это людская жизнь называется, я-то там, в выси, был кто?.. то ли Ангел летящий, то ли Демон пропащий, то ли карта живая чужого лото... ты, девка, слышишь?! Не гляди так остро! Да умею, умею я творить добро!
И показывает на брата-демона: я такой же, как он! Я любовью спален! Он или я, мы оба-два одна семья! А меня гонят, гонят все взашей, все жесточе, под бичами дня, под свечами ночи, из-под золотой, жемчужной любовной капели!.. вот, глянь, волчью шкуру, глумясь, надели...
И вижу я: и правда, он передо мной, Ангел первый, синеперый, шальной, в волчьей шкуре застыл. Где перед, где тыл. Тысячей глаз вижу все сущее сразу, со всех сторон. А и кто такой Владыка?
А ты, дура, разве не ведаешь, кто такой Он?!
А второй небесный Демон, ну, у кого изумрудные крылья, вдруг встает перед братцем голым, дрожащим, в зверью шкуру завернутым, на колени. Рот жжет болью немых песнопений. Башку задрал. Закинул лик. Я щурюсь: то ли дитя... то ль старик!.. То ли мужик... то ли баба... человек ли, зверь... Бога мне спой хотя бы... толкни лбом небесную дверь...
Встают. Ко мне подбегают оба. И оба мне в уши орут: любим тебя до гроба до неба последних минут оба мы демоны честные нету греха на нас жуй нас хлебом пресным глотай вином в красный час синь изумруд и кадмий яркий кровавый краплак ты нас узнала веками ангел один другой волколак и тот кто вчера был волком нынче ангелом стал и ангел мокрый и волглый раненым волком упал что застыла льдиной к нам чалься обнимем тебя а ты - нас сплетем дрожащие пальцы умрем будто в первый раз да мы оживим тебя кляча ты только одно пойми
МЫ ОБА ПО ТЕБЕ ЗАПЛАЧЕМ КОГДА ПРЕБУДЕМ ЛЮДЬМИ
***
Друзья мои, в те погибшие времена поэты еще веселились, художники тоже любили и умели погулять, широта нашей родной, широкой холодной реки располагала к рыбной закуске, все вспоминали, как в прошлом, а может, в позапрошлом веке, а может, при самой Екатерине-царице, а может, при кровавом владыке Иоанне Грозном собирались, гудели застолья, вздымались бокалы, а может, братины, а может, чарки, видите, люди, какие старые я знаю слова. Ледяная рюмка, отменнейшая водка, закусь - осетр или там стерлядка, это было когда?.. слушайте, а вы помните, когда вы свежую речную рыбу ели?.. а морскую?.. не помните… и я не помню... никто не помнит...
О чем я? А, да, о застолье. Опять всемирный праздник, и музыка, и гром фанфар, и морские звезды слепящих душу картин, и безумные танцы, и хороводы кругами, и звонкие песни до упаду, то разбойничьи, то птичьи, и стихи по кругу в ярко освещенных гигантскими люстрами залах, люстры похожи на громадные горящие острова, а может, на золотые великие лодки в ночном океане, а может, они безумно далекие галактики, только страшно близко к людям висят, плывут, хрусталем хищно звенят. Ну вот, мы собрались, чтобы читать друг другу стихи и вежливо хлопать в ладоши. Так было заведено. Почитали, похлопали, а потом собрались в ресторане - праздник отметить. С размахом! Много денег раздобыли устроители на то знаменитое веселье, и то хорошо, думала я, голодные поэты и нищие художники хоть всласть поедят и попьют. Ну, надо сказать, и художники бывали в то время богатые, и поэты на жизнь не жаловались. Хорошо еще, вы помните, кто такие художники и поэты. И музыканты. Сейчас уже никто не помнит о том, что такие люди на земле водились. Они давно уже в Красной книге. Нет. В Черной.
Нет. Ни в какой. Книги все давно изорвали на розжиг. Истопили. И пепел тот свинцовый из печей давно выгребли.
Да, про что я? Про горькое то застолье. Толпились поэты, клубились, пели, гудели, шумели, художники на осетров копченых нажимали, виночерпии меж столов сновали и вино разносили, и водку щедро разливали, и торты на кусочки разрезали, а гости все это ели, ели, ели, пили, пили, пили, две недели… сыты были… Бокал повыше подними! За вдохновение! За радость жить! Ой, ребята, только бы не было войны! Да не будет никакой войны, дружище, не каркай! Ты, замолкни, я не ворона! Черный ворон, ты не вейся над моею головой! Старик, ну, будет тебе, выпьем и снова нальем!
Среди столов я увидела размалеванную мордочку Ветки Волковой. Она не пропускала ни одного званого вечера, ни одного знаменитого концерта, обмахивалась веером на новомодных спектаклях, выбегала на любую сцену, где ей предоставляли время и слово; она изо всех силенок хотела всюду вспыхнуть и воссиять, показать народу, что вот, мол, я, я первая поэтесса, а та, старая собака, - вторая! вторая! Люди в залах вежливо хлопали всяким стихотворцам и актерам, хлопали и Ветке. На том празднестве она тоже читала стихи, вышла к рампе в искристом парчовом наряде, надрывно заголосила на высокой ноте, но, в зале меня увидав, ни слова не прочитала из тех, где лила на меня липкую грязь; она читала тогда из разряда «чем красивей, тем лучше». Березки-слезки, поля-тополя! Кремлевские башни, овины и пашни! И все на меня опасливо косилась. А потом все повалили в ресторан, и она побежала, ну конечно, застолье на полмира, как это восхитительно, угостите шампанским яркую, как люстра у вас над головой, самую ослепительную, самую гениальную здешнюю поэтессу!
Мой муж был в тот вечер со мной. Он заприметил Волкову. «Гляди, - толкнул он меня локтем в бок, - Ветка тут. Мерзкая тварь». Его затрясло. Я зажала ему рот рукой. «Перестань, Павел. Будь терпеливее. И выше. Не вставай с ней на одну половицу. Мы сами по себе, она сама по себе. Ну куда мы от нее денемся в этом городе?» Он кивнул. Рядом стояли художники и поэты, наши друзья, и наливали нам в бокалы вина. Да, хорошее вино подавали тогда, на том вечере. Вот как это, ваше, сейчас. Как в Кане Галилейской: самолучшее. Еще по столам разнесли и разлили прислужники: после того, как все вдоволь угостились.
Ветка стреляла-стреляла глазами в меня, я не подавала виду, что вижу ее ужимки и прыжки, ей надоело издали со мною бестолково кокетничать, и она подбежала ближе, ближе, к моему столу. «Ах, Олечка! Котик! Изумрудная моя, алмазная! Ты сегодня неотразима! А я вот…» И припрыгнула еще ближе, и вдруг меня охватил, облапил приступ сильной тошноты, невиданного отвращения, я думала, меня сейчас вырвет прямо на этот пьяный, роскошный, уставленный яствами и выпивкой стол; Ветка схватила меня за руку, потом попыталась просунуть свою руку мне под локоть, как она не раз это делала: «Мы же сестры!» - я вырвалась и пошла, почти побежала вперед. Прочь.
Она - за мной. «Олечка, Олечка, постой, куда же ты!..» На пути Ветки вырос мой муж. «Стой! - сказал он Ветке жестко и прищурился. - Оставь мою жену в покое!»
«В покое?!»
«Уйди, Виолетта! Уйди! А то я за себя не ручаюсь!»
Ветка будто не слышала. Парчовые блестки пылали. Она пошла на моего мужа пухлой грудью. Протянула ко мне руки, пытаясь меня схватить, согнула пальцы, как когти, что-то верещала, пронзительное и призывное. Муж выставил ладонь вперед и твердо, жестко и властно отодвинул от меня пьяную Ветку: так трогают облаченный в холщовый чехол старый шкаф. Когда его рука коснулась Веткиного платья и пышного тела под платьем, Ветка дернулась, как обожженная, и отпрыгнула. Воздела руки. Потрясла ими в воздухе. Пробежала мимо меня и выбежала вон, в ресторанный вестибюль.
Потом опять вбежала в зал. Подскочила к моему мужу.
«Ты меня толкнул!»
Ей показалось, этого недостаточно.
«Ты меня ударил!»
Ей и этого показалось мало.
"Ты меня... избил в кровь!"
Ее уже несло, не остановить.
«Ты пьян! И все вы тут… пьяны! Преступники! Я сейчас вызову полицию!»
На эту мерзкую сцену изумленно глядели четыре наших приятеля: художник, фотограф и два писателя. Все известные в городе люди. Ветка быстро окинула их острым, ящерьим взглядом. Она поняла: есть свидетели. До полиции дело не дойдет. Мизансцену с избитой до крови бедной женщиной не сыграешь. Рожу себе ногтями не расцарапаешь. Нечего и стараться.
Повернулась.
Хлопнула дверью.
Передо мной гудел, хохотал и плакал зал, лилось темно-синее саперави, стыла белая ртуть водки в алмазно и больно сверкающих, иглистых рюмках, художники чокались, поэты подцепляли на вилки красную рыбу и слепую, немую мертвую ветчину, в зал весело заглянул юный, как пасхальный ангел, вышибала в камуфляже, бритые виски, чугунные берцы, яблочные щеки, кто-то пел в углу старые песни, кто-то уже целовался за дальними столами, кровавый Рим повторялся, гулящая Русь умирала и вновь рождалась, за окнами ресторана мерцала и стыла новая зима, за ней должна была явиться новая весна, и в ней опять я должна была жить под обстрелом, под красными безумными зрачками ночного оборотня, чужое вино пролилось красными слезами на грязную скатерть, я подняла лицо вверх, к сияющей северной люстре, и посмотрела на мужа, он весь дрожал и остановившимися глазами глядел на закрывшуюся за Веткой, украшенную пошлой тяжелой лепниной ресторанную дверь.
***
На другой день весь город гудел новой, небывалой сплетней. «А вы знаете?.. слышали?.. Павел-то Еремин - ну, живописец этот, маляр, мазила - поэтессу нашу знаменитую, Виолетту Волкову, в грудь ударил!» - «Да ну вас! Все врете вы! Он ее - до крови избил! Измолотил! Лицо ей в красную лепешку расквасил! Она мне сама вчера вечером звонила, вне себя! Он так ее дубасил, что у нее кровь горлом пошла! Все это в ресторане было! При всех! И ей официанты кричали, и гардеробщицы, и весь персонал: вы что, чего вы ждете, вас избили, вы вся в крови, вызывайте полицию!» - «А что она?» - «А она говорит: да, сейчас вызову! А потом как швырнет телефон на ковер, как зарыдает! Говорит: за меня никто не заступился в этом пьяном зале, ни один мой друг на мою защиту не встал, все трусы, все подлецы, так пусть лучше я кровью истеку, зальюсь кровью до ушей, но не надо мне полиции никакой! Они там все, в полиции, купленные! Они там людей пытают! Кто знает, что они со мной там, в полиции, сделают! И прочь бежать». - «Как - бежать?» - «Да на машине поехала, у нее машина такая мощная, джип!» - «Джип? А как же она за рулем… извиняюсь, выпимши?» - «Да как, как! Обыкновенно! Риск благородное дело! Тут избитой вусмерть или домой быстрей добраться, или в больницу загреметь! Тогда уж огласка на весь наш городень!»
Мне звонил старый друг, тот, помните, что на трамвайной остановке мне советовал перестать завидовать Ветке. Я знала, что он будет говорить. «Оля, ну ты это, ну я тут вообще рву на себе волосы, я не могу поверить, что Паша у тебя так с Веткой поступил, Паша же выглядит таким, ну, нормальным мужиком, ну как он мог позволить себе поднять руку на женщину, ну все пьяные-пьяные, я понимаю, гулянка, оторвались все, загудели, но себя в руках-то держать, короче, надо, ну если даже Ветка что-то там сморозила такое, ну простил бы ей, ну ведь она тоже там накачалась, козе понятно, но ведь Пашка мужик, а Ветка женщина, ну как это, слушай, избить до крови, у меня в башке не укладывается, она всю ночь харкала кровью, не могла кровь остановить, три раза скорую вызывала, ну это ведь, прикинь, подсудное дело, что ж это творится, ну, чтобы Ветка в суд не подала на Пашу твоего, а тут шлея ей под хвост, согласись, хорошая попала, пусть Паша извинится!» Старый друг замолк. Отпыхивался. Я слушала это пыхтение. Я могла нажать кнопку и закончить бесполезный разговор. Но я разжала рот. Старый друг должен был услышать эти слова.
«Федор. Все это ложь. Павел не бил Виолетту. И никто никого не избивал. Павел в жизни бил морду только мужикам. Которые, извини, разносили, как базарные бабы, гадкие сплетни по околотку».
И только после этих слов я разорвала связь.
***
Люди, знаете, после той чудовищной ресторанной сцены я поняла: сейчас у Ветки, как водится, проснется злобное вдохновенье, и она начирикает хренову тучу неистовых стишков о том, как ее избили в кровь, а никто не подоспел на помощь! Я как в воду глядела. Сеть запестрела Виолеттиными рифмами. «Хмельные барки» - так именовалась подборка свежих, с пылу с жару, Веткиных яростных виршей, а мне названивали заботливые подруги, и телефон дымился: Олечка, Оля, ты там держись, мы прочитали, это ужас что такое, там твой Паша так изображен, это просто черная магия, знаешь, нам кажется, Виолетка на досуге занимается вуду! Ну, или там каким-нибудь бабкиным колдовством! Такая в стихах чернота и темнота! Там, знаешь, у Паши, мужа твоего, когда он сидит перед холстом и рисует картину, будто бы сгорела рука! В пепел! Какая-то, черт, казнь египетская! Ты, Оля, знаешь, прежде чем эту ахинею читать, ты возьми и в рюмочку пустырника накапай! И глотни! Подстрахуйся! А лучше водочки тяпни! Это верней!
Я не стала пить ни водки, ни сердечных капель. Мне казалось, люди, что я уже закалилась. Так закалялась что, сталь? Так закалялся человек.
У меня была нежная живая душа. Теперь надо было сковать ей, наивной, в горячей кузнице мощные латы.
Непробиваемые.
Чтобы чужие мечи и ножи только бессильно звенели о них.
Я не хотела воевать. Но я понимала: если я не буду выходить на бой, меня проткнут грязным ножом и растопчут. Наступят мне на лицо сапогом и будут давить, давить. Пока лицо мое не превратится в кровавую кашу.
Нет. Не так. Ночью напрыгнут сзади и вонзят желтые клыки в сонную, доверчивую шею.
Закон войны. Ничего более. Вы сами знаете.
Вы сами теперь это слишком хорошо знаете.
Плавали, знаем, как в те стародавние времена говорили.
...художник! Да разве художник ты? Нет! Рука не к холсту, не к кистям прикасалась. А ржавые гвозди и острый стилет вонзала в ладони мне. Где твоя жалость? Где милость твоя?! Пахнут краски твои кроваво, солено, темно, ослепленно. А руки твои - разве могут в любви они обнимать, упоенно, влюбленно?! Ах, жесткие, жадные руки твои! Кирпично-немые, не храм на Крови! Не живописуют они: распинают! Ударил меня ты, до крови избил! Такую обиду несут до могил! Душа моя стала с тех пор ледяная! О, Бог! Отвернулся! Не зрит! Позабыл! Ослепни, о Боже! Сюда не смотри! Охранник, стоишь ты застыло, дубина! Рука словно сердце мое изнутри ударила! Спереди, сбоку и в спину! Горит Карфаген мой! Пылает мой Рим! Клокочет Везувий растленною лавой! Младенцы горят! И мы сами горим - под этой рукою, всей в краске, кровавой... Грохочет земля! И пылает вода! Безрукая плачет в пыли Афродита! Ребенок ее не воскрес никогда! И кровью лицо - не слезами залито! В руинах лежат и вопят города! Кострами ярится вселенское жито! Разбилось, старуха, навеки корыто! А я-то! Тебя я дождусь все равно! Покайся, художник! Ко мне припади! Не пей преисподнее с катом вино! Приникни к моей всепрощенской груди! О, пусть и пройдут и снега, и дожди! Ты руку - иконой неси впереди! Не хочешь?! Не можешь?! Святое - смешно?! А ты не меня, а себя ты спаси! Продажен и ты, и жена твоя, дрянь. По Ада кругам больше не колеси! О, ты из греха возродись и восстань! Но ты, горе-мастер, ты руку - в кулак! И снова ударить меня норовишь! За что?! Ни за что?! Низачем?! Просто так?! А, ясно: за то, что я пламя, я жизнь! А что мне? Я стану Голгофой твоей! Тебя там распнут! А быть может, сожгут!
...Рука, догори! Допылай! И дотлей!
Свернись в жуткий жгут!
Я, когда это читала, пыталась улыбаться. Не могла. Слезы сами лились, неостановимо, неисследимо. Я плакала кровью. Да, кровью, не слезами было залито мое лицо. Да, представьте, очень смешно, просто смех один, сидела за столом, ревела, безрукая баба, а может, и безногая, да что там, без мыслей, и сердце уже не билось. Трепетало крыльями бешеной бабочки. Трепетание предсердий, мерцательная аритмия. Мерцание звезд над головой в ночи. Мерцание углей в приоткрытой печке. Легче умереть, чем жить вот так. Неужели эта мука - мне на всю жизнь?
Знаете, друзья, уж вы простите, я тут всех вас... всех людей, у камина собравшихся, друзьями называю, это уж так заведено в наши времена было, а теперь, друзья, человек человеку волк, тс-с-с-с, об этом запрещено говорить, и думать запрещено, но как быть с тем, что все-все-все про это знают? Виолетта не дремала. Это мне стоило чуть задремать, расслабиться - и вся лукавая ловчая Сеть оказывалась напичкана ее стихами о том, какой я Каин и как я острым камнем убиваю ее, ягненка Авеля, и каменным острием дико распарываю ей грудь, чтобы вырвать оттуда сердце и насладиться его предсмертным биением.
...ты - в шкуре Каин! Я-то тихо жгу перед Богом жертву свою! У меня нет от Бога тайн, я камня в кулаке за спиной не таю! А ты сзади подкрался, ты, Каин в юбке, ты кат… а я же твой брат… А, так тебя Ольгой зовут! Бей лучше сразу, собака! Нет дороги назад!
Я читала злобные вирши поэтессы Волковой о Моцарте и Сальери, и, конечно же, я была чудовище Сальери, а Ветка лучезарный Моцарт, которого вонючий сучонок Сальери однажды со свету захотел сжить - и сжил.
...ах, Сальери! Ах ты, чудовище! Ты бездарность, а учишь меня! Боевую, смешливо-фартовую, чья улыбка - ярче огня! Я твоя жар-птица огнистая! Я - твой Моцарт, бери и ешь - звон-симфонью мою лучистую, да и сердца разверстую брешь! Ах, Сальери! Иссох, тем и мучишься! А водицей для всех хочешь стать! Ты напрасен, как солнце за тучею! Обошла тебя благодать! Ты играл мне свою бедную музыку, свою песенку нищую пел! Ни живого в тебе, ни ясномудрого - только пепел и беспредел! Рвутся струны! Златые трубки все свистят, играя любовь! Ах, Сальери! Я Моцарт в юбке - для твоих крокодильих зубов! Ненавижу тебя! Ненавижу! А быть может, немножко люблю! Поднеси свой бокал ко мне ближе - может, чокнемся во хмелю!
И опять я плакала, и опять смеялась, а потом, рассердившись уже по-настоящему - или развеселившись, не знаю! - нервной рукой набрасывала в толстой тетради стишок о Сальери и Моцарте, пытаясь в нем, в стихе, а может, и наяву весело улыбаться, шутить и взаправду пить вино: я, Моцартиха, веселилась наропалую, надо было с ходу простить Ветку-Сальерку, я ее и прощала - за нахально перевранную комедию дель арте, за сдернутые с потных голов парики, а надо бы сдернуть маски. И маски - я сдергивала! И во весь голос хохотала!
Пока еще у меня были силы хохотать.
...история мне эта надоела. Я, Моцарт, закрываю эту тему минорную, ужасней Dies irae. Так закрывают крышку клавесина иль гроба. Гробовая тишина. Сальери, друг!.. Парик сорви кудрявый, забрось подале жалкое перо гусиное. С него струится мрак. Забудь ты сеять ложь и клевету, оставь ты месть. Ужель она за то, что за руку тебя схватил однажды, когда украл симфонию мою и на нее — «Тарара» сочинил? Кончай строчить ты мадригалы злобы! Кончай друзьям канцоны рассылать, где Моцарт твой — ничтожество пустое, и у тебя, великого Сальери, священной музыки царя царей, небесные, божественные звуки, смеясь, хитрец, охапками крадет! Ах, как ты ловко все перевернул!
Да Бог с тобой! Натура такова твоя. Я думал, братец, ты мужчина, а ты на деле оказался схож с коровницей из венского предместья, что на ухо товаркам шепчет сплетни… Кончай варить на кухне черный яд! По виду он — служанкина стряпня. Я знаю, для меня его готовишь. Да только я над этим хохочу. Смешна мне эта ненависть твоя. Я вымазан в грязи? Вот летний дождь! Он — истина. Он все наветы смоет. Откупори шампанского бутылку и позови слепого скрипача — старик пусть нам из Моцарта сыграет! И зависть ты убей в себе, как змея, и мне «Виденье Рая» наиграй! Ты пыжишься, ты надуваешь щеки? Да, мой Сальери, жалко мне тебя! Видать, тебя волную я стократ, и музыка моя все лезет в уши тебе, и наполняет сердце, душу, как сладкое вино — пустой бокал… Ах, мой дружок! Я славы не искал и не ищу. Я полон весь музыкой. Не разымаю я ее, как труп, а обнимаю — губы лишь у губ!.. — и поцелуи — нотами — по лику великому и нежному ее… Сальери, знаю, завтра я умру. А впрочем, может быть, уже сегодня. А впрочем… разве говорят об этом? Никто не знает часа своего. Давай же веселиться, друг Сальери! Когда придет безносая, с косой — не знаем мы; а на столе вино, и ветчина, и штрудель, и корица, и вижу я, как ты в бокал вливаешь мне яд. А все же выпью я с тобой! Я в музыку уйду. А ты — во тьму. Бокал хрустальный выше подниму. За нас с тобой. Твое здоровье. Prosit!
О, странно, странно было чувствовать себя Моцартом, еще не отравленным. Макбетом, еще не убитым. Еще не застреленным на снегу Черной речки Пушкиным бедным. Но уже летела пуля Дантеса, и падал поэт, раскинув руки, и валялась на белом снегу я, бродячая поэтесса, злобой раненная в живот, ах, никто никогда не умрет, а вот умираешь ты, в расцвете сил-красоты, ненавистная ты, неуемная ты! Не подведешь черты! Ну что, наконец унялась?! Лежи! Люди твои муляжи! Рядом снег, кровь и грязь! Глазами небеса обмани! Рот в молитву мою ошалело воткни! Я молилась сто жизней, до дна и дотла, чтобы ты - Лелька-дрянь - наконец - умерла!
А однажды на меня, на мой бедный телефон обрушился уже целый наш бедный город на широкой холодной реке. Воздух вокруг меня горел и дымился. «Леличка! Леличка! Ты слышишь?!.. слушай, только в обморок не падай… Война ваша с Веткой продолжается!.. Оль, проклятье, мы думали, что вы помирились… Вы же помирились!.. Кто из вас опять это все начинает?! Девочки, ну так же невозможно! Нельзя так! Лелик, ты только там держись, с ума не сходи! Крепись! Может, она еще что-нибудь эдакое вскорости отмочит! К гадостям надо быть готовым! Во всеоружии!» Да что там такое случилось, какое еще к чертям всеоружие, кричала я в трубку, кто-нибудь из вас может хоть что-нибудь связное сказать?! Объяснить мне, в чем дело?! Что, Ветка мне в подъезде мину подложила?! Взрывчатку?! Гексоген?! «Хуже, Лелька, хуже! Она… знаешь… в столичном знаменитом журнале, с миллионным, прикинь, тиражом, журнальчик по всей стране разлетается, в Сети на видном месте торчит… статью о тебе пропечатала! Да такую! С матюгами!» С какими матюгами, очумело бормотала я, с матюгами, с какими… «Ну, там фамилии твоей, конечно, нет! Но имечко - красуется! А поскольку все давно в теме, Лель, ну и злорадствует же народ! И столица, главное, столица! На эту хрень любуется! На эту о тебе писанину! Читают взахлеб, друг дружке на ухо шепчут: а что, Ольга Еремина, она того, ну, это самое, и правда? Стыдоба! А кому, непонятно, ей или тебе! Да вам обеим, выходит так! Н-да, серьезно баба за тебя взялась! Не даешь ты ей покоя, ё-моё! Какой горчичник, а! Банный лист! Не отлепишь! Но, Оль, ты виду не подавай! Плюнь просто в ее сторону! Плюнь и разотри! А каков оборотень, а!»
Чужие люди впервые произнесли это слово: ОБОРОТЕНЬ. Я вздрогнула. Мне казалось, только я одна знаю это тайное имя Ветки и могу им распоряжаться сама, одна, ночами.
Я отыскала в лабиринтах Сети Веткину статью. Я читала ее, да, но на самом деле за меня читала ее другая Ольга: с капроновыми волосами, со стеклянными глазами. Такая Ольга, мертвая, не могла ни стонать, ни кричать, ни рыдать, ни обниматься, ни драться, ни желать, ни прощать. Она могла только мертво смотреть и мертво, совсем не больно железными зубами закусывать ватную губу и прокусывать ее. До свекольной крови. До кукольного клюквенного сока. И не чувствовать ничего. Ну ничего совсем.
***
Глаза, читайте. Веки, не склеивайтесь от соли. Хватит плакать. То ли еще будет. Надо жить и видеть это. Ты счастлива, говорила я себе, глотая слезы, ты очень счастлива, что Бог дает тебе видеть, наблюдать, слышать, осознавать все это, все вот это, это. Люди жизнь проживают, а не знают, что это такое. Читай, Оля, шептала я себе. Это твоя перевернутая Псалтырь. Четьи-Минеи наизнанку. Это твоя Божественная Комедия кверху ногами - спускайся в свой Ад по широким кругам, глубже, глубже, закрывай лицо ладонями от подземного лютого пламени, все хорошенько запоминай, потом запечатлеешь все, в назидание людям. Успеешь еще их предупредить.
О чем?
О том, что страшнее всего на земле ненависть. И ее дочерь - месть. И ее внучка - война.
...ах, Цветаева! Ах, Ахматова! Ах, великие блудницы! И не стыдно вам, люди? А? Не стыдно! Интересно ведь в дверную щелку заглянуть! В скважину замочную! Лучше мокрой тряпкой каракули со стен подъезда сотрите! А вы, вы все прекрасно знаете, что на стенах в подъездах пишут! И я тоже знаю! Вот у нас в подъезде, например, красовалась целый век надпись, аршинными буквами, во всю стену: ЛЕЛЬКА - ДРЯНЬ! И стрелочка такая красная, на подлую, развратную дверь указывает. И все, и соседи и гости, ну, мужики, понятно, отлично знали, в какую квартиру идти, если приспичит. Надпись закрашивали, а она появлялась снова и снова! И все поняли, и жильцы и домоуправы: бесполезно замазывать! Пусть красуется, на радость нам! Понятно, времечко пролетело-прокатилось, к позорной надписи все привыкли, все Лельки, в том числе и Лелька-дрянь, стали обычными, приличными бабенками и замуж повыскочили, да вот беда, намертво в Лельку въелось это грязное, гадкое клеймо: ДРЯНЬ. Отмыть его, оттереть никак не получается! Хоть тресни! Хоть лопни! Все мочалки об эту ДРЯНЬ сотри до дыр! Стой под душем до исступления! Парься в бане, веником хлещись до умопомрачения, горы шампуня на себя выливай! В снегу валяйся! Под дождем голая бегай! А клеймо-то на плече горит! Плачь навзрыд! Хоть в реку с обрыва бросься, рыбой притворись! На дно пойдешь топором, а клеймо не сведешь! С кожи?! С жизни! Хоть весь подъезд белой краской закрась! А оно кровью из-под белизны проступит! В гроб тебя заколотят - и там, под землей, сквозь крышку гроба надпись эта проклятая вылезет!
Люди, мы же все разрублены. Разрознены! У нас нет общества! У нас каждый - сам по себе! Раньше мы были целым, и под крестом, и под красной звездой, а сейчас мы под чем?! Под этим клятым клеймом: ЛЕЛЬКА - ДРЯНЬ?! Ага, ты против власти? А ты - за нее?! А ты, за что воюешь?! Все воюют! Все дерутся! Одно знамя черное, другое белое? Ах, красное?! Самое прекрасное?! Давай, под него вставай, бейся с врагом! А враг-то - на твоем языке говорит! На родном! Все разрушено! Все в руинах. Искусство! Еда! Голоса! Картины! Сама жизнь только притворяется жизнью! А мы в ней кто такие? Притворщики?! Книжка у тебя есть - так ты писатель, а книжки нет - так, собачонка площадная?!
А Лелька-то эта, стервь, дрянь, мразь, блудь, подворотная шваль, гляди-ка, росла-росла - и в благородную поэтессу выросла! Да пластмассова она! Картонна! Продажна! Ничтожна! Как была дрянью, так дрянью и осталась! Сребреники свои втихаря с обдуренных людишек собирает! А нам что же делать прикажете? Как нам спасаться? Богу молиться? Или скандалить, драться, в дым напиваться?! Ах, вы спрашиваете меня, что делать? А почему не спросили: а кто виноват?!
Я знаю, что делать!
Ребята, давайте купим огромный красный транспарант, раскатаем его на снегу и громадными белыми буквами, чтобы издалека видно было, напишем на этом кровавом сатине: МЫ - НЕ ЛЕЛЬКА!
Не косите нас огнем! Не рубите топором! Не давите танками! А любите! И понимайте! Мы все таланты! Дуэлянты! Флигель-адъютанты! Блещут эполеты! А вы-то, вы уже саблю заносите! И катится отрубленная башка! И кричит кровавым ртом: ДА НЕ ЛЕЛЬКА МЫ, НЕ ЛЕЛЬКА-А-А-А-А-А-А!
Я выныривала из пьяной Сети, выключала опасную железную машину, что бесстрастно хранила в себе мозг всей земли и вопли всех людей; падала головой на стол и замирала. Меня спасало только то, что я должна была пойти на кухню и сотворить мужу обед - в нашей нищей мастерской, с дачной дареной газовой плитой о двух конфорках, в виду мольберта с новой работой Павла, строго глядящей на меня.
С холста на мольберте на меня не глазами, а зрячим затылком смотрела женщина. Она так же, как я миг назад, лежала головой на столе, вытянув впереди себя по столу усталые руки. Смотрел на меня синий коробок спичек. Смотрел пустой граненый стакан. Смотрел старый, в райских яблочных узорах, чайник с гнутым носиком - его муж написал по воспоминанью, у нас его украли мимоезжие люди. Руки на холсте горели, два языка огня. Они пытались поджечь измятую штору. Ломоть ржаного хлеба лежал на пустом блюде. Хлеб и больше ничего. Я хочу воды. Я хочу пить. Я хочу знать. Я хочу стать. Я хочу жить.
Я нищая? Есть те, кто беднее меня. И радостнее меня.
..моя ненастная паломница по всем столовкам да по хлебным. Моя нетленная покойница - о, в кацавейке велелепной. Моя... с котомкой, что раззявлена - нутром - для птиц: там злато крошек!.. Моя Владычица, раздавлена любовью всех собак и кошек... Живая, матушка, - живущая!.. Ты днесь во чье вселилась тело?.. С вершок - росточком, Присносущая, катилась колобком несмелым. Неспелым яблоком, ежоночком, колючим перекати-полем... - дитенок, бабушка ли, женушка, - и подворотней, как престольем!.. - ты, нищенка, ты, знаменитая, - не лик, а сморщь засохшей вишни, - одни глаза, как пули, вбитые небесным выстрелом Всевышним: пронзительные, густо-синие, то бирюза, то ледоходы, - старуха, царственно красивая последней, бедною свободой, - учи, учи меня бесстрашию протягивать за хлебом руку, учи беспечью и безбрачию, - как вечную любить разлуку с широким миром, полным ярости, алмазов льда, еды на рынке, когда тебе, беднячке, ягоды кидала тетка из корзинки: возьми, полакомись, несчастная!.. А ты все грызла их, смеялась, старуха, солнечная, ясная, - лишь горстка ягод оставалась в безумной жизни, только горсточка гранатиков, сластей, кровинок, - и плюнул рот, смеяся, косточку на высверк будущих поминок, на гроб, на коий люди скинутся - копейкой - в шапку меховую... Учи, учи меня кормилица, ах, дуру, ах, еще живую...
Мне нельзя было это шептать даже самой себе. Нельзя было петь эту нищую, нежную песню людям. Я знала: на эту песню немедленно появится та, другая, моя нежная бедная музыка сразу отразится в уродливом, кривом зеркале, противник не дремлет, он так и ждет от меня нового куска моего сердца, чтобы его оболгать, заплевать, взрезать ножом, раскромсать, и этим месивом, кровавым крошевом быстро и жирно написать свое: моей жизнью и моим страданием, и моим солнцем, и моей радостью.
...ах ты нищенка грязная, прилипучая вошь! Ах ты мышка несчастная - средь людей всё снуешь! На вот, держи монеточку, на, кусай кренделек! Ни капкана, ни клеточки, вышел богатства срок! Ты мне - мое судилище, безголосо пищишь! Слезки твои крокодиловые, жадина, серая мышь! Я для тебя - Вселенная! Мусор ты - для меня! Мышью тщедушной, презренною мне не прожить и дня! Мне твоей жизни не надобно! Неба не видишь ты! Только подошвы адовы да шаги темноты! Ты с листочком играешь, тащишь в норку к себе. Ты из меня выдираешь, намертво что - в судьбе! Милостыньку клянчишь? Все мало?! Мало шапок и шуб, рук и сердец усталых, страстно горящих губ?! Мед, орехи и яблоки, и нуга, и халва - все тебе в руки в ярости толкаю, пока жива! Вырвала ты мое небо! Жадный нелепый зверь! Нищенка, мышка, небыль, жалкий комок потерь! Все я тебе пихаю - землю родную мою, за нее умираю, и на пороге Рая за нее лишь молю! Волга! Печора! Чукотка! Вечная мерзлота! А ты все тянешь кротко руки, глаза, уста... Детство мое и старость! Мать мою и отца! Сколько еще осталось богатств - солоней лица?! Слепну от глаз твоих, нищая, в пламя бросает, в дрожь, стану твоей скоро пищей, вон, в руке твоей нож! Ты его в грудь вонзаешь мне: дровами - в огонь. Плачу златыми слезами в подставленную ладонь! А ты так жадно смотришь, сладко и горячо, и время щекою морщишь: дай мне еще... еще!..
Я уже не читала эти Веткины вопли глазами: я хватала их слепыми губами, вытирала слепое лицо от погибельных брызг колючими ладонями, и мне было непонятно, что солонее - моя кровь, мои слезы или мокрые, дрожащие, нищие ладони мои.
***
И вот наконец Ветка добралась до того, что трогать ну никак нельзя было. Она сравнила себя с Христом, а меня - с Иудой. Друзья мои, есть вещи на земле, которые делать нельзя ни в коем случае. Ты их сотворишь - и они по тебе ударят рикошетом.
...я Христос, ты Иуда! Меня предаешь за монеты, за сребреники - их презираю! Я Христос, ты Иуда! На кого ты похож? Не тебя ли Адам зрел у Дерева Рая? Да, ты дьявол, Иуда! Ты всех дьяволов дьяволей! Всех преступников преступней! Хитрее всех и ненавистней! Напоследок меня не оплачь, не жалей, не запомни моей исчезающей жизни! Ты, Иуда, ты всем растрезвонил: украл у тебя я из ящика эти монеты! Да вонзи ты мне в сердце хоть тысячу жал - а дороже любви для меня в жизни нету! Я люблю всех апостолов! Нежно люблю! И тебя, кто меня подло, походя предал! Ты, Иуда, ведь парус ты мне, кораблю, я тобой протрублю и войну, и победу! Ты Иуда. А я твой убитый Христос! Я забытый Христос! Я лишь крест на холме! Ты меня предаешь - я ослепну от слез! На свободе, в миру, в небесах и в тюрьме! Ты, Иуда, ты гад, ты последняя дрянь, но я знаю, как вылечить душу твою! Я, с распятья, тебе на весь свет крикну: встань! Я Христос твой, подлец, и тебя я люблю!
Ветка прокричала про Христа и Иуду - и я прошептала про Иуду и Христа.
Не могла иначе унять потоки отчаянных слез.
Вы плакали когда-нибудь так, чтобы плакать, и плакать, и плакать? Не дай Бог никому это пережить.
Вот бумага, вот перо. Вот ужас единственных, может, последних слов.
Я писала, как плакала. Как рожала сама. Как ребенка принимала сама у себя: всего скользкого, в крови. И пуповину не могла ни перерезать, ни перегрызть.
Писала, как умирала в родах.
От имени, люди, да, от имени Христа. Поэзия, она ж такая живучая материя; эта грубая холстина все вытерпит. Эта свежая штукатурка только и ждет алых, синих, изумрудных, слезных потоков. Но Джотто писал свою фреску, где Иуда Христа подобострастно целовал. И Тициан писал согбенного Иуду с сахарной полуулыбкой, а Иисуса - с улыбкой чистой и спокойной, как синий воздух и алая воля. Красный и небесный атлас обвивал тело Бога моего. А может, он стоял в зимнем пальто, с поднятым воротником, на шумной вечереющей улице, и крыши и столбы облеплял колючий голгофский иней, и только поцелуй оборотня, он один и оставался - зверя, обернувшегося человеком. Диавола, обернувшегося учеником. А скажите мне, друзья, вот как вы думаете, дьявол - существует? Если есть зло, то почему бы не существовать и тому, кто его порождает? Рожает? А может, дьявол - это баба? А вовсе не мужик? Говорят, женщины более жестоки. А Иуда - кто? Человек или кто другой? Почему он поцеловал Христа? Почему - поцелуй? Разве нельзя было просто указать на друга и Учителя пальцем? Вот он, хватайте, тащите!
Ты не Иезекииль пророк... ты не во рве львином пророк Даниил... тебе не сегодня выйдет срок... ты, Зверь, о, кого же, когда ты любил... Воем пас ты трусливых овец твоих в стонущих ветром, вьюгой казненных полях... Аще единая овца - златорунный мой стих... не загрызи... не растерзай в пух и прах... Ты Отца Небеснаго имя забыл... все ты врешь, что его повторяешь опять... долго воешь... никого не любил... гнев и ярость... в метели - нам - у Креста стоять...
Я понимала: если я напишу Оборотню ответный стих, это должен быть не простой стих. Ну, не такой, как Ветка бойко строчит: «Ты гадина, ты Иуда, ты сволочь, ты мразь!» А потом лицемерно кричит: тебя обожаю, люблю, всех люблю! Надо, подумала я веско и спокойно, ну, знаете, так, как мастер, как обычный такой усталый художник, краской перемазюканный, среди холстов у себя в мастерской, подпер щеку рукой, на столе початая бутылка и стакан, сидит и думает, лоб наморщил: надо решить тему. Поднять - образ. Как штангу. Перевоплотиться. Переселиться туда. В ту ночь. На те иные, чужие площади. Нет, они все равно так похожи на наши! В ту Гефсиманию. Нет! Вон она, за окном! Ветви, в застылых слезах льда, сучат на ветру. Воробьи замерзают и, умирая, комками падают в снег с завьюженных застрех. Косо, снежным ливнем, бьет метель. Не заправлена постель. Я жду Оборотня. Я опять его жду. И он приходит и целует меня. За его спиной толпятся воины. Они в медных шлемах, в стальных латах. В руках у них копья, ножи, мечи, автоматы Калашникова. Горские кинжалы. Бандитские кастеты. В кулаках у них все, что может резать, убивать, кромсать на куски. На руке моей горит фестивальный поцелуй Ветки. На губах моих горит Веткин ресторанный, поминальный поцелуй. Третий поцелуй я дам ей. Сама. Сегодня. Здесь и сейчас.
Любовь, моя любовь, скажи, ты где?!
Карандаш, тогда мы еще писали старинными карандашами по старинной бумаге, бешено летел вдаль, царапал лист, лист обреченно сворачивался в бумажную дудку, в древний свиток. Откровение, это ведь тоже поэзия! Нет поэзии без крови. Нет - без боли. Где мне найти укрытие от своей жизни? Я понимала: я попала в капкан. Поймали!
…это я волк. Это ты волк, и больше никто.
…ну и что, волк. Волк бежит вперед. Встопорщена холка. Он не глядит по сторонам.
…бежать вперед. Это одно, что мне оставалось.
***
...Иуда целует - тряпки сгорают на мне. Голой рыбой в толпе, людском море, одиноко плыву. Иуда лобзает - его лягушьи губы в вине, сладостью заслоняют колдовскую халву, царскую пахлаву. Угрюмые воины обступают меня, медные лбы. Сейчас на меня, как в цирке, накинут сеть. Иуда целует, и не уйдешь от судьбы-ворожбы. И не ты выбираешь, жить или умереть.
Иуда целует. И - шаг назад. Он свое получил. Вчера он - баба. Нынче - дитя. А завтра - старик. Чего ты ждешь? Губы горят. Народ меня бил и Колышется площадь густой ухой. Вспышками - ночь. Ударяет прямо в лицо слепая сила огня. Целует блудница и вяжет слова: "Я сестра твоя, дочь!" Она все врет. Она ненавидит меня.
Еще шаг в толпе. Еще резко плеснуть хвостом. Я крупный осетр. Я порву ячеи и зарницей ударю, уйду. Я выживу и на этом свете, и на том, и даже на том, меднолобым солдатам скалюсь, смеюсь в лютой ночи, в бреду. Стена дома дверцей старого сундука скрипит под рукой... Пребуду на Кресте молодым, морщины меня не сожрут... Слова, что за трапезой бормотал, польются красной рекой, обращая года и века в подобье комариных минут. Скинув хитон, валялся на горячем приречном песке... Путал себя с бешеным солнцем во дреме, во сне... Рыбою на кукане висел - у жизни на волоске... У гибели на узелке... ужо беспечному мне. Трубачи и тимпаны! Варганы, дудки, гудки! До целованья того я бархатом-махаоном летел из мглы. Иуда целует - и ржавой солью тоски подернулись вервия вен, пьяных пальцев узлы. До поцелуя Иудина я, музыкант, рокотал литаврами грома, гуслями водопадов, струями камыша! Мир мой, гигантский киннор, стонать и звенеть, биться устал под моими руками, губами, от счастья едва дыша. Иуда целует - и музыка обрывается, летит вниз. Оглох. Онемел. Беззвездный, черный прогал. Будто, шатаясь, хмельной, я встал на карниз, чтобы шагнуть, куда никто не шагал. Ты, Иуда, мой ученик. Я тебя ветру и морю учил. учил бездонному, бездомному небу, куда камнем канем все мы. Учил, как душою - не глоткой! - петь, как глядеть без глаз, как лететь без крыл, как ничего, никогда не брать у смерти взаймы. Видать, я худо учил! Целуешь меня - будто плюешь мне в лицо. На камнях, босой, стою. Молчу. Толпа сжата в кольцо. Языки огня. А я по всем грязным, румяным, орущим лицам - теку слезой. По всем лицам любимым - я так люблю мой народ! И буду любить! хоть распните меня стократ! - и снова кричу: никто! никогда! не умрет! - а ты повторяешь это сквозь гниль зубов, не в склад, не в лад. Да, ты, Иуда, твердишь все мои слова, нижешь бусой на нить, в рогожу драную вьешь, но из них исчезают мои реки, звезды, земля, трава, гаснет мой снег, жабьей кровью хлещет нежный, жемчужный мой дождь! Поздно я догадался: да ты ж просто вор, воровских морщин волчья мета у тебя на щеках, на лбу... Ты позорный вор! Быстрее швырни в костер, сборщик податей, жадный свой ящик, где монеты - глазами - в гробу. Ты след в след за мной хищно ступал. Ты меня украл у меня самого. Хохотал я: хозяйствуй! тащи! бери! - ведь Господь всем и каждому в торбу заплечную дал целый Мiр, грозою сверкающий изнутри! Мощны кедры ливанские!.. выстрел охотника в лис, в соболей - драгоценность зверьей любви прервет... А фалернское слаще дамасского!.. а в ночи - молись на созвездий над морем расколотый, голый лед... Что ж позарился?.. Жизнь мою захотел украсть?.. Удалось - лишь славу?.. Ну да, ты славы взалкал, ибо видел: имею я над живыми душами власть, - захотелось такой же!.. - наплевать, что сердчишком щенячьим мал. Разум хлипок. Грядущее на ладони ты не сочтешь. Серебром купили беглую ласку изогнутых уст - гнутых сладкою ложью.
...предавая, гнется хребет...
...хоть бы стеною встал ливень, дождь в ночь, когда я, лоб в колючках, жалок и пуст, на Кресте висеть буду, высоко!.. не украдешь... Второй раз не убьешь... не всадишь копье под ребро... Ты, Иуда, сам себе петля и сам себе нож. Ты своруй себя - у себя. Запусти руку себе в нутро. Может, там алмазы Голконды! Птичьей лапой - древние письмена! Может, там в крови чешуею горят рыбьи сребреники твои! Мою жизнь не своруешь. Она у меня одна.
...ты своруй мне чужую... в кулаке - утаи...
...ты своруй мне - свою... ну, слушай, Иуда, свою - отдай... Жить хочу... ну зачем твоя-то - тебе... ты и так втоптан в грязь... А я твою - проживу... рыдай не рыдай... Буду печь топить... буду рыбу варить, беззубо смеясь...
...ты своруй мне - смерть! Только чтоб не мучиться, нет. Чтоб - легко: слюдой стрекозы, тенью ласточкина крыла... Чтоб вдохнуть - и не выдохнуть... говорят, на севере снег так танцует с небес... под звон ледяного стекла...
...все гнильца, пыльца. Зажги свечу. Держи под моим лицом ее светлый столбик... как дрожит искривленный рот...
...ты своруй мне бессмертье! Не будешь тогда подлецом. Тогда нас с тобой, ученик, навек запомнит народ. А все же ты, ученик, научился чему-то! Тебе исполать! Научился святым притворяться! На торжищах - о войне вопить, о любви истошно кричать! Да только не научился ты истинно целовать - не ртом, а сердцем ставя на лбу печать. На дрожащей руке. На впалой щеке. На родных устах. Вон она, тень Распятия, - среди звезд я вижу его.
Иуда целует - из меня навек излетает страх. И со мной только солнце. Небо. Любовь. Воскресение! Торжество.
***
Люди, люди мои!.. ах-ха-ха, что за чепуха, кто ж из нас без греха… а вы и не знаете, что такое грех, нынче наступили другие времена; для того, чтобы объяснить вам, что такое грех, надо рассказать, что такое Бог, Кто же Он такой, а разве вы это поймете? Вы же в него давно не верите. Лучше, дорогие, винца плесните. Вот. Хватит. Примерно так… стоп... хорош... больше не надо, и так отрада…
…ну вот, значит, про Иуду и про Христа я стих написала, и я даже тихо гордилась этим стихом, ведь там ни слова не было ни про меня, Ольгу-страдалицу, ни про нее, Ветку-горькую-конфетку, ни словечка про нас, живых вздорных теток, а все вокруг судачили о нас пошло и презрительно, что вот, мол, сцепились две бабенки, друг дружку злобными стишатами забрасывают, скоро, глядишь, в волосы друг дружке вцепятся, и что с того? Зачем они это делают? Что ж не обнимутся, не помирятся? Не поцелуются?
Обнимитесь, дуры-бабы! В поцелуе слейтесь, ну!
Не знал бедный народ, города нашего грешные и сплетные жители, что пять, десять, а может, сто, а может, уже тысячу раз мы и мирились, и целовались; и ни к чему толковому не приводило это целование, колесо катилось дальше, кровавое и дикое, и все сильнее сжимались кулаки в ненависти.
...кулаки гневно жму, пот и кровь на исподе белья, ногти в ладони вонзаю! Ненависть, страшная, честная месть моя - красной зарей - от края неба до края…
Я подпадала под полночное колдовство длиннословных чужих заклинаний. Еще немного, и я опять поверю, что я и правда в чем-то таком страшном, ужасном перед Веткой виновата!
«Знаешь басню? - печально спросил меня муж. - Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать. Сказал - и в темный лес ягненка поволок!» Я не ягненок, возмущенно закричала я, Паша, ты что, я же сильная такая, мне все эти ядовитые бабьи цидулки нипочем, да и Ветка, между прочим, не волк, хотя Волкова ей фамилия! «Это ее тотем, - усмехаясь, ответил муж, - хочешь, я такую картину нарисую - волк бежит по степи, несется, зубы скалит, а у придорожного камня лежит задранная им прекрасная девица?» Тотем, пожала я плечами, слишком много ей чести!
Враги плясали. Друзья зубами скрежетали. Один мой старый друг, покуривая на балконе и наблюдая внизу ночной город в изобилии преисподних дрожащих огней, сказал мне, молчащей рядом: "Да ведь она же, Лель, рыба-прилипала. Она уже достаточно нахватала всего полезного в искусстве и от тебя, и от других, чтобы дальше свободно плыть самой. Но ты ее безумно интересуешь, сердишь, раздражаешь. Вызываешь ее гнев и ярость! И это искренний гнев, и это неподдельная ярость! Это ее настоящие чувства! Не изученные, не повторенные, не списанные! И поэтому она всю жизнь будет твоей прилипалой. Сколько вам обеим суждено жить на свете - столько и будет. Она к тебе прилипла намертво. Все, что она пишет сейчас, что бы ни писала в будущем, - все будет о тебе. Она будет ловко прятаться за другими темами и другими событиями, но все равно все это будет о тебе. Приготовься! К тому, что это твой вечный спутник. Ну, есть же у планеты луна. Шар-слуга, что возле катается. Слуга, или паж, или моська, или дуэлянт, или кухарка, в пищу хозяйке кладущая яд, - все равно. Спутник. Злой сателлит. У тебя один выход - не видеть ее. Глядеть на нее в упор и не видеть. Ее для тебя нет".
"Как же нет, если она есть?!" Крик вышел из меня помимо воли. "И причиняет мне боль!"
Друг глубоко затянулся. Выдохнул. Сизый дым растекся над городом, над жизнью. "Она причиняет тебе боль лишь потому, что ты ее видишь. Перестань ее видеть. И все. Ее нет. Ты слышишь? Ее для тебя больше нет. Нет!"
Я согласно наклонила голову и сказала: "Друг, пойдем с балкона в тепло, я замерзла".
Я ходила по дому, по городу, по суматошной нашей жизни, и, как заклинание, повторяла новые стихи Ветки, обращенные ко мне: "Ах ты нищенка, серая мышенька, ни холодно от тебя, ни горячо! Просишь милостыньку, все жалобней и тише, все дают, подают, в лапку тебе суют, деньги жаром пышут, над тобой весь мир - виселицы перекладина, а ты требуешь, нищая жадина, еще, и еще, и еще! Уж весь мир под брюхо себе подгребла, а все лапку, мышь, тянешь и тянешь людям! Все сидишь на дне города, каменного котла, в зимней своей, одинокой остуде! Ну и что намолила? Корочку хлебца? Кусочек мыла? Шибко грамотная ты, церковная мышь: батюшка службу служит, а ты под лавкой молчишь! Корку свою давай, жадно сгрызи! Господи тебя, грызунью, спаси!"
Я ходила по улицам медленно, обреченно и осторожно, как ночью по краю крыши, как в лунном сне, и повторяла в такт шагам - по слогам - чужую ненависть.
У меня, как на грех, была на стихи хорошая память.
И я не могла представить себе ни в каком моем прежнем ночном кошмаре, что буду ходить по моему городу и шепотом пересчитывать медленные капли чужого яда. И подставлять ладони, лицо, сердце, жизнь.
Убыстрялся холодный ход времен.
Знаменитая драматургиня, необъятная, как стог сена, прибывшая в наш город на премьеру своего спектакля из города дальнего, северного, красивого, как каменная шкатулка, увидев меня в краснобархатном театральном зале, надменно от меня отвернулась и процедила - тихо, но так, чтобы я слышала: «Ваша неприкрытая злоба по отношению к вашей невинной подруге достойна пьесы!» Я за словом в карман не полезла. Встав из бархатного кресла и сделав шаг к драматургине, я открыла рот и произнесла громко и отчетливо, почти скандируя, на весь зал: «Благодарю за подсказку. Эта история действительно обращается в сказку. В пьесу, в фильм, в роман. Я обещаю вам, что напишу такую книгу! А по ней - трагедию! Или - комедию! Это уж как я захочу!» Женщина-стог удивленно и испуганно отпрянула и повела по мне ленивыми холодными глазами сверху вниз, потом снизу вверх. Ни слова не выдавила больше. Когда я поехала в столицу и повезла свою пьесу о Великой Блаженной знаменитому режиссеру, режиссер на белокаменном пороге старинного театра встретил меня угрюмо, мрачно: «Ольга Михайловна, что там у вас за скандал в вашем городе?» - «Какой скандал?» Я решила держаться до последнего. «Ну как какой? Не притворяйтесь! Зачем вы мучите бедную эту вашу поэтессу? Ведь на ней же совсем лица нет! Она носится по всей столице как угорелая и всем плачется в жилетку, как вы там, у себя, ее чихвостите! А я вас за умную считал! Кстати, вы верующая?» Я кивнула, не в силах говорить. «Православная?» Опять мой бессловесный кивок. «Ну тем более удивительно! Зачем вы преследуете бедняжку? Все ахают и охают! Сочувствуют ей! Я ей тоже сочувствую. И вы - не травите ее, а посочувствуйте! Вы - сильнее, крепче… ваше искусство - ярче, виднее… культурнее, черт побери. Она - слабее, уровнем ниже. Пошлее. Уродливее. И вы это сами видите. Я из любопытства полистал ее писания. Да все там понятно с первого взгляда. Она простецкая девчонка, ну, немножко настропалилась стишки сочинять. Поднатаскалась. Бойкое перо. Горячая лава эпитетов. Куча красивостей. Высокий штиль, лживые страсти. И хаос, хаос. Океан гремучих словес! Это у нее, м-м, дамское, вроде вышивания. Поет горлинка в клетке! Ну и пусть поет! Песенкой пусть хоть захлебнется! Она же вам ну никак не соперница! Зачем же вы ее мутузите? А?» Я, пока режиссер все это говорил, терпеливо глядела ему прямо лицо. Когда он закончил речь, я сказала холодно и внятно: «Я учту ваши пожелания. Я прекращу травлю собаками бедной горлинки».
Кабы кататися да мне на зело изукрашенных конях... не споткнутися о каменья Божественных законов... Кабы восседати мне на креслах краснобархатных, богатых... не наблюдати вовеки замученных-распятых... Кабы отвращатися мне от серебра-злата искушений, от нежных шепотков обманов да прельщений... Кабы не ходити-блудити мне с людями злыми, что напрасно-страстно твердят мое оболганное имя... Кабы не испытывати мне последняго страха... где колесо, да дыба, да топор, да плаха... А пети мне во крылатом храме великую Осмогласную песню: ты, злобою чреватый, Адово пламя, средь Серафимов, грешник, воскресни...
Мой спектакль о Великой Блаженной никогда не был поставлен на столичной сцене. Я от рассерженного режиссера, из белокаменного сахарного чужого театра поехала прямо на вокзал. Взяла сиротский билет до своего города на широкой холодной реке. Поезд отходил ночью. Весь вечер, до поздней ночи, я сидела на лавке в зале ожидания. Вокруг меня горели огни и лица. Слезы сами текли. Я их не просила. Не утереть, не унять. Подковылял старик, уселся рядом, снял кепку и положил ее на угластые колени. Потом мне на колено корневище руки тяжело, как гирю, опустил. «Детонька! Ну што жа ты так-то сокрушаесси! Ну, кинул он тибя, ну и пес с им! Другова найдешь! Молода ишшо!» Я стянула с себя берет. «Дед, - сказала я сурово, - гляди, вся голова моя седая». Старик покрутил носом. «Ах ты батюшки! Така молоденька, а уже вся беленька! В аварию, што ль, попала?» Да, согласилась я со стариком, да, в аварию. Слишком трудно было ему объяснить, как я жила. Всю мою жизнь. Невозможно.
Я вывалилась из вагона на родной перрон рано поутру, медленно, как старуха, пошла вдоль железной гусеницы поезда, дышащей в щеку зимы паром и жаром. Вошла в заиндевелый сундук вокзала. Задрала голову. Надо мной сусальным ангельским золотом играла, тихо звенела громадная люстра. Люди не смотрели на нее. Люди спешили на поезд, боялись опоздать. Я стояла под люстрой, подняв к ней зареванное лицо, и шептала: люстра, ты такое мое золотое солнце, в самоцветах, монистах зимнее лицо, ты времени колесо, погляди, я маленькая какая, потерянная, я потерялась, не бью на жалость, это правда, ты отрада, ты золото мира, заштопай мне рваные дыры, ну честно, я больше не могу. Умереть на бегу! В круге - твоей - золотой - победы! Не дождавшись... рассвета...
Не помню, сколько так простояла. Вздрогнула: меня тронули за локоть. Женщина, что вы тут так долго стоите? Что разглядываете? А может, вы шпионка?
Я отпрянула. Люстра невидимо качалась надо мной на вселенском сквозняке. Я слышала, она говорила мне всеми тихими звонами: не бойся, не плачь, не проси, жизнь черное озеро, люди караси. Я подхватила с гранитных плит старый чемоданишко и пошла прочь, и вышла на вокзальную площадь, и там люди торговали и целовались, сновали и застывали, плакали и пели, ругались и нежничали, встречались и прощались. Я ехала домой в гремящем золотым бубном грязном трамвае с плакатом на боку: "ЗУБЫ ЛУЧШЕ, ЧЕМ В ГОЛЛИВУДЕ!", и зажмуривалась крепко, крепче некуда, до боли, а слезы все равно текли, и с закрытыми глазами я все видела гигантскую золотую люстру, она медленно вращалась в густом дегте ночи, сияющая, многозвонная и счастливая, и я понимала: это Рай.
Я шла быстро, я уже почти бежала, и моя жизнь бежала рядом со мной, и она все никак не могла меня обогнать. А я ускоряла шаг, и ступни мои горели, и земля подо мной горела и плакала, и мне было жалко землю, но я никак не могла ее утешить. Утешать было нечем. И меня утешить и спасти уже не мог никто. На улицах я боялась встретить Ветку. Если в толпе мелькало лицо, похожее на ее крашеную мордочку, я дергалась, как от тока, поворачивалась, переходила на другую сторону улицы, ежилась, втягивала голову в плечи, шла все быстрее, все крупней: мне казалось жутким и невозможным, если она меня увидит и через плотную стену людей начнет пробиваться ко мне. Я не ходила на писательские сборища, где она могла сидеть в зале или толкаться у накрытых столов на фуршете. Я понимала: если я там появлюсь, внимание всех будет направлено сразу на нас обеих, и жадно, густой мошкарой, поднимутся шепотки, пересуды, замелькают, запорхают тонкие улыбочки, насмешливые гримаски: ага, вот они обе, кумушки, одна другую жрет и не краснеет! Ну-ка, ну-ка, как-то они здесь меж собой поладят! Свет есть свет, в нем есть правила игры! Не обидь! Не оскорби! Не изругай! А только улыбнись! И реверанс! И веерочком обмахнуться! И руку к груди в поклончике прижми! Капитан, капитан, улыбнитесь, ведь улыбка это флаг корабля!
Я не глядела больше в коварную Сеть с рассыпанными там и сям Веткиными стихами. Я старалась о ней не думать. И даже не вспоминать. Муж был рядом. Дети, из других городов, писали мне веселые счастливые письма: мальчики, они оба нашли своих девочек, свои юные судьбы, и я молилась за них, за то, чтобы их семьи счастливо, нежно сложились. Моя семья любила меня, а я любила мою семью. У меня в руках были мои слова - все равно что краски, все равно что звуки. Разве этого было мало для счастья? Господи, так благодарила я Господа, про Него мы все, к высшей мере приговоренные, сегодня забыли, милый Господи, спасибо Тебе за такую прекрасную мою судьбу, я иной и не желаю, мне не нужны слава-знаменитость, и огромные деньги за мой труд мне тоже не нужны, я слишком хорошо знаю им, огромным, цену, а благодарю Тебя за то, что Ты даешь мне силы жить и работать, за то, что я не выпускаю перо из рук, за то, что мои книги я рожаю легко и счастливо, а бывает, трудно и мучительно, - за то, что я поэт. Я верила: Господь слышит меня с небес. И на минуту, на две я забывала о той, что издалека глядела на меня, и, лишь я сделаю движенье, лишь повернусь туда, сюда, - выше поднимала кривое зеркало, что держала цепко, не выпускала из рук: меня отразить.
Она же тоже о себе думала: и я поэт! Вернее, поэтесса! Принцесса, стюардесса, баронесса, мэтресса! Матросса и Барбаросса, усмехалась я и зажимала рот ладонью. Тогда, люди, о да, тогда я еще могла смеяться. И над собой тоже.
Я молилась, о, тогда я еще могла молиться: Господи, сделай так, чтобы эта женщина взяла и скорей успокоилась! Чтобы я перестала ее тревожить! Чтобы она больше не клокотала ненавистью на весь мир! А просто тоже, как и я, помолилась Богу и бросила писать обо мне ужас и говорить страх! Так я глупо молилась, так об этом, как девчонка, мечтала. Ну ведь это всяко-разно было возможно! Для Бога ничего невозможного нет!
Я так думала… я так хотела… я желала…
Налейте еще вина… налейте… о, я всю бутылку выпила… ах, у вас еще есть?!.. Боже, какие же вы заботливые, какие… щедрые… И добрые, главное, добрые…
***
Огромной силы жажда. Ломка, как у наркомана. Пьяное влечение. Боль. Недовольство. Ты хочешь, чтобы сбылось, а - не сбывается. Чтобы свершилось: а не происходит! Вместо "да" тебе все время говорят "нет". Ты хочешь убить предмет своей ненависти. А он тебе в руки не дается. Ускользает от тебя. Убегает.
Ты хочешь быть бессмертной? Ты станешь ею завтра! Не сегодня. Сегодня на пути к бессмертию у тебя есть барьер. Живая преграда. Не перескочить. Эта женщина, а проще - бабенка, а проще - дура из дур, жена тщедушного художника, бездарного маляра, старая тупица, заносчивая и надменная, а прикидывается умницей, корчит из себя образованную барыньку, ишь, как нос дерет, ей больше всех надо, она, как и я, сочиняет стишки, давно, собака, сочиняет, вот беда, и все на ее стихи, как на огонь, все эти долгие годы плывут и летят, бредут к ее стихам, как звери на водопой, и что они все, дураки люди, в этих жалких строчках нашли? В серых, мышиных этих каракулях? Эта дура! Дрянь! Бельмо на глазу. Шишка на ровном месте. Вот бы жить так, чтобы не было ее! Жить без нее! А что? Убить? А что! И убить!
Разве ты ее убьешь! Она же бессмертна!
Она?! Эта седая толстая дура в черном ношеном балахоне с чужого плеча? В стоптанных туфлях? В тряпье с барахолки? Эта слониха в дырявой попоне? Эта бездарность и мышья серость? Эта полоумная дрянь и мразь? Бессмертна?! Ой, люди, не смешите меня!
А ты? Ты хочешь быть бессмертной, Ветка?
Да! Хочу! О! Еще как хочу!
Я смерти - боюсь! Потому и кричу...
Жгу себя с двух сторон, живую свечу!
...а потом - корчусь... в судорге плача... в молитве палачьей... застываю... молчу...
...я к бессмертию тихо бреду и бегу! Башмаки я железные стерла до дыр! Это путь мой - желаешь такого врагу? Пожелай! Песий лай! Я уже не могу! Но иду, потому что возлюблен мой мир! Я иду! Ковыляю! Я падаю в грязь! Поднимаюсь! Пускай я собака ли, волк! А народна до боли исподняя бязь! А снегами весь вышит прабабкин мой шелк! Упаду на пути - пусть затопчут меня! Ком тряпьевый! Грошовый! Порвут или пнут! Башмаки обжигают похлеще огня! До бессмертия - сколько осталось минут?! Как мне в сердце плюют! Как в лицо нагло врут! Этот путь мой - костер, карнавал или труд! До седьмых, до кровавых, до каторжных жил! Не судите меня, кто вот так же не жил! Подарить башмаки тебе, вор площадной?! На! Снимаю! За то - потанцуешь со мной! В этой кислой и сладкой дорожной грязи - слышишь, крепче целуй! Да больнее дерзи! Этот путь - только мой! И мои башмаки! Не налезут! А я все равно их дарю - обувай! И беги! И сбивай каблуки! Догоняй, задыхаясь, чужую зарю! Ты, судья мой! Тебя на пути моем зрю! Ты, палач мой! Топор навостри январю! Шпарь отсюда! Ведь Лобное место - мое! Под пятою - жнивье! На морозе - белье! Ты, палач, ты попробуй осилить мой путь! Ты дорогой моей хоть разок пробеги! Что?! Ослеп?! И кричишь, что не видишь ни зги?! И вопишь: помоги и спаси кто-нибудь! Я собака?! За мной - сотни тысяч собак! Я волчица?! За мной - миллионы волков! Если сможешь соврать за понюх и пятак, так соври ты, как я! Лишь слезами! Без слов! Если сможешь у вора судьбу своровать - так своруй! Руки плачут, сердца не горят! Этот вор - мой сынок! Я бегу к нему, мать! На пеленки порву драгоценный наряд! Ты! Рыданье мое жадно выпей до дна! Как, слезинка вкусна?! Корчись, плачь и глотай - я на птичьем наречье болтаю одна, над собою держу ярким знаменем Рай! Любишь мир ты, как я?! Нет?! Тогда пошла вон! Ты - ни есть и ни пить, ты - не петь-не рыдать, только мною одной мир хмельной подпален с четырех всех сторон! И огонь - благодать! Это гибель? Насквозь пламя я пробегу! Это путь мой! Великий! И больше ничей! Отвали! На бегу я ударить могу! Крепко так - не собрать тебе гиблых костей! Провожайте глазами! Бегу прочь от вас! От тебя, манекен, ведьма, дрянь, старушня! Я к бессмертию лишь опоздаю на час! А оно, золотое, дождется меня! Вы плевали в меня?! Дегтем мазали вы мне ворота?! Плели несусветь языком?! А я вся - корешки свежей нежной травы, по которой бежать поутру, босиком! Я бегу! Значит - гибну! Воскресну, дай срок! По кровавому следу! По злому пути! Я - волчица?! Давно я не чувствую ног. Волк всегда - между строк. Волк всегда - одинок. Это путь мой, закрытый для вас на замок! Я бессмертна! Прости!
...Господи, как же Ветка хотела не умирать.
Не умереть. Никогда.
***
Я ей была соперник. К стихам моим она, видать, испытывала настоящую ревность. Лютую и настоящую ненависть. Будто стихи были мужик, один у нас на двоих, и вот мужик этот, стихи то есть, выбрал в жены меня, а она подсуетилась и срочно вышла замуж абы за кого, лишь бы кого под локоток подцепить. Хоть она всем давно раззвонила: ваша любезная Лелька мне не соперница, я гораздо сильнее, мои стихи напрямую выходят к небу, жар-птицами летят, а ее стихи копошатся на земле, в земле, рядом с червями! Да Лелькины стихи вообще - черви! Дохлые черви! Люди хмыкали, слушали, пожимали плечами, смеялись, поддакивали. Старательно передавали мне новые сплетни; я страдала; Виолетте восторженно сообщали: "Ольга страдает! Ты даже не представляешь, Веточка, как она страдает! А поделом ей! Вывели примадонну на чистую воду! Разбили идола, сожгли!" Мое страдание вновь и вновь будоражило Ветку. Вдохновляло. Рождало в ней новую злость. Воздух в городе накалялся, дрожал.
Я пыталась догадаться, почему она так настойчиво преследует меня. Почему так кипит бесконечной злобой.
И я долго не догадывалась, а потом все-таки догадалась: злоба была ее щитом.
Она выставляла свою злобу впереди себя, чтобы - защититься.
От кого? От меня?
…загадкою-картою ляжет месть наври что никому не мстила смутно смекай: месть - есть ее перевили кровеносные жилы твои старуха седая любовь гляди вот пляшут уродцы фигуры чучела подлых коварных снов бред девки Капричос дырявой дуры беззубые твари ватные злюки кривляйтесь в дегте жирного зла таращьте пуговицы цельте базуки скальте бусы до дна дотла зарей гляжу на игрушкину пляску вас много куклы а я одна а вот мой волк из забытой сказки царевною я в него влюблена прыжок - и смирно подставит холку не плачь садись человечья дочь снегов коловрат упованье волка а мести зверю не превозмочь а морда - ярый царь на гадальной на княжьей карте и воем бьет кровавой Шипкой Чесмой рыдальной щенок Грюнвальда чудской помет ах волк тряпичный а зрак брусничный кольчуга шерсти походный лед а хвост секирой горит опрично а коготь - кожу горчично жжет а зубы россыпью веселья стразы не греют дыры овечьих снов загрызть желаешь уж лучше сразу тебе волчаре не прекословь я - рукоделье я - лишь заделье меня низали на волчью нить метели-мести я запределье калюжный ангел а впору выть я вьюжный ангел я буду волку добыча доля босая сныть босой по снегу идти недолго до воска смерти до воя: жиииииииить
***
А Ветка все кругами бегала по городу, все кричала: моя война! моя Троянская война! моя Курская битва! мой Сталинград! мой Крестовый поход! мой Верден! мое Куликово поле! Я пыталась сама себе признаться в том, что Ветка, внутри этой войнушки, внутри ненависти этой дикой, может быть, и правда выросла как поэт. Я заглядывала в ее стихи слепыми от слез глазами и перечитывала их вслух, и кричала их, и шептала. Вышептывала этот яд, эту смерть. Я бормотала себе: Оля, Оля, ну вглядись, ну вчувствуйся, ну, может, тут и правда рассыпаны кругом перлы, рубины, яхонты, смарагды?! Может, благодаря этой волчьей ненависти она стала хорошо писать? И ненависть - ей силу дала? Тогда... тогда... слава ненависти?..
Господи, а где же, да, где же любовь?
Я, дрожа, бесконечно читала, повторяла вслух ее слова. Слова Ветки отзванивали во мне деревянным ксилофоном. Слова были разные; торжественные, злобные, царственные, горделивые, дождливые, слезливые, - всякие. Ветка знала очень много слов. Вернее, это слова знали ее. Слова открывали дверь в ее дом ногой и входили к ней запросто, без спросу, врывались и усаживались за ее стол. И пировали. Гудели, пьянствовали! Кричали Ветке: угощенье нам неси! Да поживее! Мы голодные слова, нас надо кормить повкуснее! А Ветка путала, кого как зовут. И по углам путалась с каждым словом. Она играла с ними, да, и правда как бешеный котенок, заводила с ними шашни, ревновала их, убивала их. Когда ножом, торопливо схваченным со стола, когда плевком. Когда загрызала по-волчьи. Ведь это были ее слова, и она делала с ними, что хотела.
А я сидела над ее словами, над ее стихами, из них на меня брызгала красная ненависть, вот ненависть тут точно была подлинной, а все остальное было... было...
Знаете, дорогие люди... ох... я-то сама не знаю... не знаю, как это назвать...
Ну вот представьте живого человека. Живого! И он двигается, моргает и дышит. Улыбается! И даже румянится. И пот по его лицу течет на жаре! И нос краснеет на морозе! Ну живой и живой! Сомненья нет! А когда вы ближе, ближе подойдете к нему, и ненароком захотите взять за руку, и, не дай Бог, обнять и поцеловать, - под вашими руками и губами будет... будет...
Ну не бойтесь, не бойтесь вы... Я сама боюсь.
Вы обнимете неживое. Куклу. Гомункулуса. Он умеет кричать, как человек. Он умеет рыдать, как человек! Вопить и проклинать, как человек! Обнимать, зачинать и рожать, как человек! Да только странно: крики его заполошные, а кожа его холодная. Вопли его пронзительные, а прижмись к нему - и льдом от него дохнет.
Поддельный он. Ненастоящий.
Если его разрезать - он пустой внутри.
Тогда зачем же ему человечья полнота? Людская страсть, людские слезы? Зачем, какого лешего ему все человеческое тут же превращать в гигантское, лютое, великанское? Вместо слез - океаны чтоб по щекам лились, вместо биенья сердца - чтобы набат бил и бил дикой медью на всех горящих площадях?
Зачем пустоте притворяться жизнью, огнем, любовью?
Пустоте - печально. Пустоте - тяжко. А слова - если научишься складно их складывать, станешь знаменитой. А что такое стать знаменитой? Это значит: ты, мертвая, будешь жить. Живой прикинешься. И славу в лукошко соберешь. Настоящую. И людское тепло, жар людской. Настоящий. И все будут кричать тебе, вопить, орать: Ветка! Ветка! ты - лучшая!
...кукла, чучело, тряпьевый цыпленок тоже хочет жить. Надо это запомнить.
...люди, дорогие люди. Слушайте. Любовью не притворишься. Любовью надо быть.
Любовь или есть, или ее нет.
Кажется, я уже говорила... шептала вам об этом.
А если нет - значит, еще скажу.
Коли буду... жива...
***
Дорогие люди... ах, какой красивый бокал!.. Из него, небось, в незапамятные времена пил какой-нибудь царь. Графья, князья. Владычная княгиня подносила его ко рту, отпивала вино, держа изящно за хрустальную ножку, отставив холеный мизинчик. Откуда у вас такой бокал? Ему же цены нет. Он антикварный. Что?.. вы не знаете этого слова?.. Ан-ти-ква-ри-ат... это значит... даже не знаю, как объяснить... старинный и драгоценный. Это старая вещь, такой больше не сделает никто и никогда. Это даже не вещь. Это - время.
Знаете, друзья... все мы делаем время. Все на свете мастерят время. Оставляют его, кто в чем. Кто в вещах. Кто в детях. Кто хлеб печет, и его крадут и съедают. А раньше зерно хранили на складах, а хлеб покупали в магазинах. Время - временно. И оно же вечно. Нет ничего более вечного, чем время. И... более смертного. Нищего.
Поэт, он... пишет стихи. Останавливает время. Я, мои друзья-стихоплеты, Виолетта, другие поэты, кто жил с нами далеко или рядом, все, каждый как мог, останавливали время. Стихотворенье, жалкое мгновенье. Слова складываются в слезы. Ими мы плачем по нас самих. По нас, уже ушедших в мир иной.
А пока мы здесь, в этом мире, мы... да, налейте, еще немного, пожалуйста... да, вот так, стоп, хватит... благодарю... мы лепим, куем время из горячих слов. Я поздно догадалась, что слова тоже смертны, призрачны. Как камень. Огонь оплавляет его. Как дерево. Война сжирает его. Не говоря уже о том, что плоть... плоть...
Ах, вкусное вино... как... как... рукоплесканья... там, давно... Сцены... я выходила на дощатые сцены читать стихи. И петь! Я свои стихи иной раз и пела. Я любила перед людьми - волю, свободу. Это называлось - концерт. Я, музыкант, так и называла мою жизнь на сцене: концерт. Другого названья не могла, не умела придумать. Я выходила близко к рампе, глубоко вдыхала воздух и начинала читать. И старое, и новое. Люди слушали, а потом мне хлопали. Иногда они плакали. Поднимались на сцену с цветами в руках. Я брала цветы у них из рук и закрывала цветами лицо. Чтобы люди не увидели моих слез. Слез моей радости. Я радовалась, что дарю себя людям. Что нужна им. Что стихами могу вдруг вылечить чужую боль, перебинтовать чужую рваную рану.
Однажды я делала такой вот концерт, и вдруг из публики пронзительно крикнули: "Что это вы тут нам читаете краденое! Вы же эти стихи у Волковой украли!" Ноги мои онемели и вросли в доски сцены. Я не могла и рта раскрыть. Прижала руки к груди, будто причастница в церкви. "Что вы такое сказали..." Голос из зала не унимался. "Ну да! Мы тут прекрасно все узнали! Стихи, где народ на вас идет толпой! Как там, вот! Солдаты и матросы, рабочие, крестьяне, и грабли вот, и косы, и песни покаяний... Идут молотобойцы, и рыбаки, и жницы... народ мой Богу молится... и мне ночами снится! И он же - настоящий! Он - росписью громадной... над пашнею палящей, закатной, беспощадной! Не отпирайтесь! Мы все отлично поняли! Воровка! Это же нам тут вчера - Виолетта Волкова читала!"
Молотобойцы... да, молотобойцы... войны и мира вы пропойцы... где ваш стальной тяжкий молот... железный холод... меня - разбейте... не пожалейте... чтоб лужа крови... в ночи присловье...
Я стояла на сцене в ярко-красной шелковой юбке и густо-малиновой, цвета давленой ягоды, бархатной кофте. Щеки мои обреченно, подло краснели. Внутри меня все заливалось краской чужого стыда. Чужой живой кровью. Я не знала, что ответить тому голосу. Что бросить в зал со сцены. Концерт. Это был обычный мой концерт. Я оделась на него торжественно и нарядно, как всегда. Я знала, старая музыкантша: артист на сцене должен быть красив, чтобы глаз не отвести, чтобы зритель был доволен. Артист должен приносить зрителю радость. И ничего более.
Видите бокал?.. видите. Богемское стекло. Хрусталь отсвечивает алым. Как тот мой красный, прекрасный концертный наряд. Атлас юбки, бархатный кафтан. Дрожь под бархатом. Это я дрожу. Это мне плохо.
***
Боже ты мой...
Он ходил за мной.
Знаете, ходил и ходил. Я его везде чувствовала. Вот я однажды в одной книжке прочитала, что человек, охотник в лесу, все время чувствует зверя: близко он, далеко, вперед него бежит или идет за ним по пятам.
Я чуяла: он за мной идет по пятам. Осторожно движется. Чтобы я его случайно где не подсмотрела.
А зверь? Зверь - чует охотника?
Еще как чует.
Ого-го как! Носом только поведет - и все! Заметил. И удирает.
А потом возвращается на след свой. И - берет твой след.
Безошибочно. Беззвучно и ловко.
И - идет. За тобой. След в след.
И ты можешь только, обливаясь холодным потом, догадываться об этом.
Вот он так за мной ходил. А ружья-то у меня и не было.
Мой волк. Волчара.
Для того, чтобы его ощутить, мне даже не нужно было оборачиваться.
Я шла по улице, заглядывала в горящие в сумраке вечера окна, воображала картины чужих неведомых жизней, любовалась инеем лепнины на барабане маленькой, как небесный заяц, часовни, застывала перед слюдяной, ледяной витриной: о! какие превосходные сапожки! Натуральная кожа, натуральный мех. Все фирма обещает, без обмана! Надо брать!
Заходила в магазин. Огибала выгородки, надоеду-рекламу. За мной следили горящие глаза. Из глубины толпы. Из скопления лиц, глаз, шляпок, шапок, рук в перчатках, ног в сапогах, изношенных и модных, грязных и лаковых. Из гор шерсти, стогов драпа и шкурок, из блеска бус, коими обверчены были юные и сморщенные шеи. Из всего, что одевало человека с головы до ног, и из его тайной беззащитной голизны.
Глаза ловили меня в торговой толпе и уже не отрывались от меня.
Я пробовала перехитрить зверя. Останавливалась. Молча стояла. Резко оборачивалась! Мои глаза, как молнии в грозу, стегали людское месиво! Головы стукались кеглями. Руки разбегались испуганными рыбами. Люди косились на меня: видать, слишком безумно метались мои зрачки, ищущие, танцующие. Шарахались от меня. Стучали костяшками пальцев себе по лбу: не в себе дамочка! Знаете, а на даму я тогда мало была похожа. Я мало и плохо красилась, волосы не завивала, шляпки модные, с вуалями и бантиками, не покупала, аксессуары дорогущие не носила - сумки из черепаховой кожи и ремни от лучших кутюрье были не по мне. И не по карману, и не любила я это все, всю богатую мишуру. А вот сапоги, они нужны как хлеб. Куда без них? Грязь нагрянет...
Зря я стригла глазами людскую встопорщенную шерсть. Я его не видела.
Он исчезал. Прятался от меня.
Может, просто, втягивая носом воздух, стоял за этой барной стойкой; за тем прилавком с россыпями бижутерии.
Я ясно чувствовала, как в парфюмерном глянцевом воздухе пахло волглой шерстью.
Я шла на запах.
Чем дольше и дальше я шла, тем быстрее он уходил от меня.
Ему нельзя было попадаться мне на глаза.
Я знала, он боялся моих глаз.
Потому что я смотрела честно и прямо. Прямо!
А он - он знал, чье мясо съел.
Чью кровь выпил.
Мне не жалко моей крови. Кто только ее не пил! Кто только ею не восхищался, налитой в крепкий медный потир стиха, и кто только не охаивал ее, не плевал в нее!
Люди всегда плюют в колодец, из которого они пили взахлеб.
Зверь - не исключение. Он пил мою кровь полжизни, но теперь я для него первый враг; и надо всем прорычать, что моя кровь - не кровь, а сладкий сироп, солененькая жалкая водичка. Разве можно признаться людям в том, что ты ею наслаждался!
Глаза мои бегали. Толпа моталась, крутилась, рассасывалась, опять сгущалась.
Где ты? Я чувствую тебя!
Молчание. Веселая музыка под потолком. Яркие лампы.
Прочь отсюда. Как можно скорее.
Я выходила из магазина. Забывала про сапоги. Меня била мелкая дрожь.
Я шла дальше, сама, как зверь, нюхая воздух.
Сырой ветер забивал мне нос и легкие. Щекотал щеки.
***
Я, ну, Ольга, она, та, которой я была там и тогда, все так же любила бродить по своему городу в одиночестве. Узкие улицы перетекали в крылатые проспекты, в заброшенных дворах виднелись развалины монастыря, и святой кирпич, старыми зубами выпавший из кладки некогда славных стен, красной яшмой украшал мерзкую мерзлую грязь, сухую траву и палую листву. Ольга шла, ловя глазами времена. Медные монеты куполов небо щедро бросало ей под ноги. Трамвайные дуги искрили военным салютом. Где-то далеко, Ольга знала, сидят на казенных скамьях мертвые люди, они важно глядят мертвыми глазами, в их глазах плещутся деньги, они правят миром. Ольга понимала разумом и чуяла кожей: есть жизнь, и есть паноптикум, и есть меж ними чудовищная разница, величиной с целое время, обращенное вспять. Она шла по городу и видела: время вспять не поворотить, лишь город все так же держит на земляной ладони бочонки кремлевских башен, издали, из-под горы, они сияют под осенним небом густо-красным, мясным мрамором, темными боками благородного гранита, а на самом-то деле все тем же суровым кирпичом, казненным бешеным огнем, воскрешенным крепким обжигом в зевах допотопных печей. Огонь! Ольга тоже закалялась в чужой ненависти. Чем громче и визгливей чужая женщина кричала ей, Ольге, в рифму: никуда не прорвешься! останешься мышью безвестной, вошью! не спасешься именами царей и богов сияньем! а будешь, побирушка, у меня просить подаянье! - тем больше и безусловнее Ольга любила город свой, святое высокое место над широкой рекой, а глазом вбок покоси, узришь вольный атласный блеск, рядом другая в нее впадает, две реки, вот любят же друг друга, обнимаются, воды сливают, нет у них ненависти, - лишь меж людей гуляет эта зараза, не откреститься, не отмыться. Шла Ольга по крутосклонам, пробиралась по козьим тропкам. По правую руку маячили рядом луковые купола и полумесяц мечети. Опять вместе. Опять любятся, а не дерутся. Ольга застывала над обрывом, глядела на оба храма; так нежно, близко, если издали любоваться, льнули они друг к другу. Церковь протягивала мечети на белом подносе холодные золотые яблоки; мечеть, благосклонно улыбаясь серебряным полумесяцем, высилась над церковкой, уходила в синь осенних небес каленой стрелой. Сколько веков люди катались на колесах, а нынче летают. Сколько веков выбивали иероглифы на камнях, стилом процарапывали кровавые буквицы на пергаменте, а сейчас слова всплывают из небытия на белом ледяном экране - и тают быстрее льда, и не вернешь. Полет призрачен, и слово призрачно. А мы думаем, оно долговечно. Ольга щурилась, пыталась удержать кипящие слезы в прижмуренных глазах, в слезной линзе мимо нее в широкие и далекие века плыла мечеть, уплывала горящая на осеннем звонком холоде церковь - в широкой белой каменной юбке, с золотыми Райскими яблоками на ледяном, звенящем на ветру подносе. Все было родное. Обступало. Утешало. Искусный мастер расписал крутояры цветными пятнами алых кленов и жаркой медью умирающих лип, разводами черных веток, тонко нарисованных на синеве тушью ветра. Внизу лежал серебристый, чуть отдающий бледной синью дикого лазурита лист реки; заворачивался, как жестяной; посверкивал; изнутри речного серебра поднимались, перемещались узоры, древнее подводное эбру: синие водоросли и тени от днища ленивой каспийской баржи, белесые хвощи и папоротники первого слабого льда, что схватывал реку у берегов, не в силах побороть стремнину; Ольга глядела, как на утреннем солнце тает ночной лед, уплывает в небесный индиговый шатер больно, бесследно. Вот так бы людские слезы уплывали! Так бы - ненависть умирала! Как ее убить? А может, ненависть и убивать не надо? А можно просто помолиться, чтобы она из человека ушла, - вот здесь, на обрыве, над широкой рекой, отражающей печальным бесконечным зеркалом святое живое небо? Помолиться просто и тихо: Господи, отними у Ветки ненависть! Себе возьми! Ее - обними! К груди Своей - прижми! Слезы ей злые утри, сердце ей отопри, волосы с потного лба отведи, перекрести! Прости!
Так я, ну, то есть, Ольга, стояла и молилась на обрыве, над рекой, и слезы себе утирала голой рукой, и мерзла рука на синем речном ветру, и так шептала Ольга себе: Господи, и меня прости, спаси, сохрани, знаю, сочтены мои дни, да пока живу - не умру.
Шла дальше, и воздух сгущался, и темнело быстро, осень сменялась зимой, Ольге в спину глядели чьи-то глаза, и она понимала: обернуться надо, и оборачиваться нельзя.
И она спасалась нежным тайным смехом, как веселым теплым мехом, поднимала тихий смеховой воротник, улыбаясь, уже не медленно, а быстро, стуча по мертвому асфальту каблуками, шла мимо сверкающих витрин, там за ледяными стеклами скучал мир картонных недвижных людей, печальный, совсем один. И на тарелках площадей лежали яблоки и ягоды людских голов, рассыпались, варились в тазу времен, то крича, гомоня и визжа, то молча, без слов.
***
[БЕГ ОБОРОТНЯ]
Однажды я замерла у гигантского окна модного кафе. Дверь в кафе была открыта, оттуда доносился дух веселого кофе. Как я захотела хорошего, настоящего кофе! Мы все в те годы пили растворимый: дешевле и быстрее. А тут я втянула, всосала ноздрями забытый, детский запах молотых кофейных зерен. Выпить чашечку! Отвести душу!
Кто нам запретит красиво жить, шептала я себе, кто нам запретит...
Я зашла в кафе. Села за столик. Заказала кофе и к нему пирожное эклер. Гулять так гулять. Облизывалась. Развеселилась. Как мало человеку надо, чтобы ощутить счастье: чашка крепкого горячего кофе, свежий эклер - и вот он рад и доволен, и на седьмом небе. Жизнь! Тепло! Милая кофейня!
Неужели больше никогда...
И тут сквозняком дунуло гуще, холоднее. Ворвался ветер, легко ударил меня в лоб и грудь. Я даже шатнулась за столом. Ухватилась за чашку с кофе и чуть ее не пролила. На лету поймала. Эклер сиротливо, толстой шоколадной гусеницей, лежал на фарфоровом блюдце. Посетители все так же гомонили вокруг, легкий нежный шепот вольно гулял по залу. Я смотрела на дверь. Никто в нее не вошел. И никто из нее не вышел. Чуть ярче вспыхнули золотые фонари под черным потолком. Я ощутила себя сидящей в подземелье. Или в трюме гордого тонущего корабля. Забытого "Титаника".
Да мы все на "Титанике" плывем, усмехнулась я сама себе, а куда бы мы с него сбежали? С тонущего в ледяном океане корабля? На Марс? На Венеру? На дно морское?
В смерть, как в святое закулисье пошлого спектакля с настоящей кровью и болью?
Но легкая, смутная дрожь поднялась из глубин, обняла, облепила меня холодными водорослями.
Я не могла допить кофе. Пирожное не лезло в глотку. Меня как ветром выдуло из кафе. Я взбросила на плечо сумку на широком мужском ремне, я любила такие сумки, большие и мощные, и пошла, быстро пошла, почти побежала. Вечерело. Улицы пустели. Ну, не как сейчас, сейчас едва сойдет тьма - и никого народу. Каждый трясется за свою шкуру.
Время приучило нас всех бояться.
Тогда же еще помину не было о всецелом, всеобщем страхе. А люди все равно боялись. Дрожали. Спешили. Убегали. От страха. От самих себя.
Я шла, почти бежала, по сторонам не глядела, мне стало страшно. Смеялась над собой: Ольга, ты как ребенок! С тобой что, в догонялки играют? Дичь, дурь! Так не бывает.
Не бывает, чтобы человека - посреди города и многолюдья - преследовал...
Кто? Кто он?
Я боялась назвать сама себе его имя.
Погоня. За мной - погоня!
Так не бывает!
Я ускоряла шаг.
Уже бежала. Задыхалась!
...и он бежал за мной.
Мой волк.
Я не видела его.
Я не слышала его!
Я - о нем - думала.
Я его - чуяла.
Чутье. Оно убивает человека. Зачем оно человеку?
Оно нужно зверю.
Я не зверь.
А кто ты?!
Я просто...
Погоня. Я бегу!
И он бежит.
Я лечу!
И он летит. Быстро.
Обернусь - никого!
Торжество. Боль. Внутренности горят. Их сжигают в хищной топке.
Видеть затылком!
Нет. Не могу. Нельзя.
Если посмотришь - превратишься. Во что? В кусок соли? В ледяную глыбу?
Нет. В него. Станешь - им.
...как можешь ты им стать!
Человек может стать - всем.
Человек, он приспособленец. Он надевает чужую маску и пляшет в чужой шкуре.
Шкура. Обернуться! Я ее вижу.
Догоняет.
Погоня, чушь, блажь.
Он меня никогда не догонит.
А ты его?!
Ты бежишь быстро!
А он - еще быстрее.
Он бежит невидимо.
Может, он тебя уже опередил?
А ты этого не заметила?
Он - впереди?
Да. Он - впереди.
И это ты бежишь за ним по пятам.
И это он боится тебя, а - не ты его.
Быстрее! Ты догонишь его!
И что? Ты догонишь его... и что ты с ним сделаешь?
Оглянись. Он - за тобой.
Это погоня.
Сейчас он догонит тебя.
Все обернулось тем, чем нельзя.
Не думай о нем! Зачем ты думаешь о нем!
Погоня. Хриплое дыхание. Ты бежишь. Он бежит.
Вы бежите оба, и нет выхода.
Только догнать.
Или ты его, или он тебя.
И тут, знаете, меня как прошибло. Будто кто меня изнутри ударил: помада!
Я забежала за угол. Сумка на ремешке болталась на плече. Странно, я ее не потеряла. Щелкнула замком. Быстро открыла. Выдернула из сумки помаду. Зеркальце. Зеркало. Опять зеркало. Кого там увижу? Может, морду волка?
Некогда думать. Держу круглое зеркальце одною рукой, другой размалевываю лицо. Люди, если бы вы видели тогда мое раскрашенное лицо!
Мою - маску.
Он - в маске. И я - в маске.
Он - в маске зверя.
Я - в маске - кого?
В маске СМЕХА.
Клянусь, я даже беззвучно смеялась, когда раскрашивала лицо, делая из него клоунскую личину!
Толстые губы. Вывернуты наружу. Громадные. В пол-лица. Красные углы губ загнуты кверху. Смеюсь. Хохочу!
Над Волком! Над собой!
Над миром, что катится к обрыву, и спицы в колесах мелькают, слепят.
Мы, люди, только притворялись умными! Всезнайками! Снисходительно глядели на Бога на старых иконах, дрожащих, плывущих мимо времени болотных, ромашковых фресках в разрушенной церкви, и краска осыпалась медленно и тягуче, и мы скользили глазами по старому морщинистому, со снежной бородою, детскому Богу равнодушно, сожалеюще. Мы - сильнее! Умнее! Мы никогда не допустим...
Я раскрашивала щеки помадой. Они уже походили на красные яблоки.
Я рисовала помадой на лбу красные длинные морщины.
Подмазывала красным глаза.
Они горели, как у василиска.
Кто такой василиск, знаете? Помните? Ах, нет, не помните... ну и ладно...
Я - СМЕХ!
Рожа моя красная. Рот до ушей.
Я - СМЕХ!
Хоть завязочки пришей.
Меня отовсюду гонят взашей. А я все равно пляшу между всех.
И надо всеми смеюсь!
Во все горло!
Я - СМЕХ!
...и над тобой, Волчара, смеюсь.
Сдохла грусть.
Корчится в муках ложь.
От правды - не уйдешь!
...я еще бормотала стихами, когда выходила навстречу ему.
Выбегала! Раскинув руки!
Беззащитная! И сильная!
Смех корежил и ломал меня. Я смеялась во все горло.
Смеялась над тем, что вот сейчас упаду к его серым когтистым лапам, и распластаюсь на асфальте, и он наступит мне лапой прямо на лицо.
Когти - серпами!
Серый - дыбом - мех!
...а я - знаешь - я чистое пламя.
Я - СМЕХ!
Я стояла на тротуаре и хохотала во все горло.
Прохожие оглядывались на меня. Кое-кто убегал. Кто-то стоял, потрясенно открыв рот. Молодая парочка, обнявшись, дико хохотала вместе со мной. Я была не одинока в смехе своем.
Заливалась! Нескончаемо!
Вокруг меня стали собираться люди. Кто стучал пальцем по голове: спятила бабенка! Кто свистел в два пальца, одобряя это форменное безумие. Кто кричал: эй, сюда, здесь кино снимают! А где камеры, кричали ему в ответ, нет же никаких камер! Где операторы? А что за фильмец? А как называется? А когда в прокат выйдет? А про что он? Какой страшный красный клоун! Как он корчится!
Это не он, а она, разуй глаза!
Мои веки, заляпанные алой помадой, не поднимались. Я еле видела сквозь отягченные сладкой помадой ресницы призрачный вечерний мир, бешенство огней, людскую сутолоку. Мелькала красная паутина ветра. Улыбки, зубы, блеск белков, снованье пальцев, мельтешенье кулаков и туфель, нагие шеи, обкрученные бусами и цепями, локти и затылки сливались в одно варево, булькающее в черном, закопченном ночном котле.
Зрачки плыли, пытались выхватить из толпы и тьмы - его.
Тусклый огонь глаз.
Торчащую шерсть на затылке.
И эти когти, когти, нагло торчащие из жилистых сильных лап.
А может, у него не зверьи лапы, а человечьи быстрые ноги?
Что нужно сделать, чтобы его умертвить? Я не знала.
Он стал мехом, а я стала смехом, только и всего.
И это было лучшее, что я могла так быстро придумать.
Пока он не набросился.
Не прыгнул.
Люди сновали между нами. И я опять не видела его.
Мне так хотелось его увидеть!
Мне казалось: если я его увижу, умирать будет легче.
Будь что будет.
И вдруг настала тишина.
И из этой тишины, из ее черного провала он ко мне подошел.
Я хорошо различала его. Каждую шерстинку на его морде. Мерцанье красно-желтых глаз, и вдруг радужки отсвечивали зеленым, призраком изумруда, а может, нефрита. На лапах когти, не втягиваются. А лапы сильные, и правда как ноги человека. Еще немного, и ноги. Бесполезно убегать. Догонит.
Лучше идти навстречу.
Хвост вытянут над землей. Напряжен. Он охотится.
Он еще не знает, что я - охотник за ним.
И что мое оружие - без промаха.
Я снова смеялась. Смех накатывал волнами.
Я смеялась так, что вокруг меня смеялись теперь не только люди, но и камни.
Дома. Тротуары. Крыши.
Город - смеялся.
Смех и крик. Крик и смех. Смех стал воздухом и ветром.
Небом стал смех.
Кто смотрел в небо, начинал содрогаться в приступе смеха, валиться на землю, держась за живот.
От смеха можно умереть? Можно, если в смехе задохнешься.
Но я не задохнусь. Мы - не задохнемся!
Я - СМЕХ. Я смеюсь над тем, кто из человека стал сначала зеркалом, потом - злобой, потом - ненавистью, потом - местью, и месть превратила человека в зверя навсегда.
Расколдуй зверя смехом! Смейся над ним во всю глотку, заливайся, покатывайся! В смехе ходи колесом! Смех, это веселый цирк. Пляска добра! Солнца! Смех велик там, где никакая молитва не спасает. Злоба рушится под натиском смеха. И никакой войны не надо. Тебе весело, когда ты видишь ненависть? И другим - смешно! От всеобщего смеха когти ненавидящего теряют ножевую остроту! И отваливаются! На бегу!
И гаснут хищно горящие глаза! И выпадают жадные зубы!
Он хотел тебя уничтожить?
А ты - посмеялся над ним!
Любовь! Где ты! Сиротка! Смейся вместе со мной!
Хохочи во всю глотку!
Забудь, как быть нежной, кроткой!
Наглой будь и хмельной!
...и тут, о чудо из чудес, кто-то непонятный, лица его я в диком смехе не различила, всунул мне в руки - живого петуха.
Ночь! Мрак! Заполошные огни вдоль по улицам, то кривым, то широким, как ветер и воля.
Ночь, из ночи выхода нет.
Кроме утра.
И петух на моих руках вдруг разинул клюв широко, широко - и запел!
Так заблажил, на весь город!
И люди вокруг меня, Смеха, вздернули в воздух кулаки, пальцами показывали: победа! - танцевали в обнимку, кое-кто пошел по улице вприсядку, из тьмы явились скрипки и гармошки, забренчали гитары, вторя хриплым веселым голосам, затанцевали все, как в моих давних стихах, стихи ожили, я вживую глядела, как моя улица, как площадь моя танцует, и мелькали румяные лица, и сияли смехом, радостью глаза, и из сотен глоток раздавалось: "Победа! Ура!" - и это был не день победы, как встарь, после войны, а ночь победы: люди вместе со мной победили свой страх, свой ужас и унижение, злобу - победили: хоть на час, на миг! Неважно, на сколько! Важно, что это случилось! Откуда-то вынырнули, а может, слетели с небес и развернулись в ночи, по ветру, флаги, они реяли и переливались перламутром и кармином старого атласа, и выходили на улицу, к дому, перед которым я так громко хохотала, старые люди, в морщинах, в жалкой последней седине, и на их пиджаках, на груди и лацканах гремели, сияли и светились ордена и медали, и старики улыбались, ведь за этот смех, за эту радость они жизнью заплатили, и настоящими смертями, и разрывами, и слезами в окопах, так слепо и страшно похожих на могилы, и люди эти подходили ко мне и весело смеялись вместе с мной. И обнимали меня, и чуть в объятьях моего петуха не задушили! А народ катался по улице колесом, и выкатывался на площадь, и мелькали в воздухе муаровые ленты, погоны со звездами, черная кожа военных курток, болотный рясный камуфляж и кружевные дамские панталоны, и бабьи фартуки, и разношенные тапки, и охотничьи сапоги, и шахтерские шапки со вшитыми в них фонарями, и автоматы Калашникова за спинами мелькали, и иное оружие, базуки на плечах и пистолеты в кобурах на боку, солдаты должны были завтра уходить на войну, война шла всегда, а они плясали на улице вместе со всеми, обхватывая за талию то молоденьких девчонок, еще не знающих, что такое помада и поцелуи, и старух, беззвучно поющих: "Да надо не стареть... и в этом весь секрет!.." - пляска шла и гремела, и я стояла в центре этой вселенской пляски, посреди нее, и снова смеялась, и петух кричал у меня на руках: он смеялся вместе со мной! Радость! Радость жизни! Радость быть - между двумя пропастями! Мрак и мрак, а между - я. И я смеюсь! И я люблю! И никакой зверь...
Я сильнее сжала петуха в руках, крепче притиснула к груди, к сердцу, и оглянулась.
Нигде не было его.
Моего Волка.
Он исчез.
Как не бывало.
Люди пели и плясали, а я из Смеха превратилась в обычную женщину с петухом на руках.
И так стояла.
А потом закрыла глаза.
Я думала, я его, волка, с закрытыми глазами увижу.
Под закрытыми красными веками. Как красный негатив.
Нет. Только крики и сполохи.
Только эта бешеная, могучая пляска на весь город, на полмира.
[ОБОРОТЕНЬ УБЕГАЕТ В ПУСТОТУ]
***
...а может, милые мои, я вас тут морочу. И не было никакой нарисованной губной помадой маски, и не было никакого зверя. Никто не шел по пятам. А все мне привиделось. Я же поэт. Ветка так неистово хотела, чтобы я стала сумасшедшей. Я и стала! На время. Пока видятся виденья. Ветки скрещаются, ветры сплетаются. Над головой. Эй, кто живой! Никого. На губах молчит торжество. Застыло. До могилы.
Знаете, если бы я захотела, я бы заговорила стихами. Поэт, это такой страшный зверь. Страшнее всех зверей. Его медом не корми, а дай ему слова - в музыку сложить. Музыка! Она звучит. Стук сердца - она. Она умрет только вместе с тобой.
Какие жесты из тьмы! Какие веера, белые гипсовые маски! Это вам не маска безумного коверного. Всклокоченного, яростного клоуна. Смех, он родился вчера. И вчера умер. А сегодня - да вот она, россыпь ужасающих рож и изломанных болью фигур. Двигаются на меня из тьмы. Мимо вас плывут! Рука еще сжимает настоящий каменный парапет, и настоящая вода течет внизу, под камнем, под падающим взглядом, - а вокруг пляшут глазастые птицы с красными поющими ртами и гадкие крокодилы с человечьими руками и ногами. Мой волк - из этой же семьи. Как течет слюна между его зубов! А лапы, как у человека ноги, ошалело сгибаются в сочлененьях сонных суставов!
Склоняется с веером корова в пышной юбке с оборками. На рогах у нее алые розы. Две змеи выползают из-за угла, у одной ясный и светлый женский лик, сияет ярче Луны, у другой надо лбом - козьи рога. И язык высовывает по-обезьяньи. Полна чудес могучая природа! И куда только люди смотрят! И вдруг обе змеи сплетаются изгибистыми, блесткими телами, переплетаются хвостами. Они так любят друг друга. А мы на эту любовь смотрим. И чудовища любят. И чудища ласки хотят.
Рука настоящая. И стискивает в кулаке настоящие деньги. Плату за проезд. Сегодня повысилась! А леопардов, тапиров, грифонов, павлинов и птицу Гаруду мы катаем бесплатно!
Как вспотела ладонь. Ночь и мрак. И движутся тени. Они движутся вон по той стене, по другой, по горящим и темным окнам, по частоколу колонн, по чугунной решетке, по ветхому дощатому забору, он давно покосился и вот-вот упадет. Тени изображают живых. Кто они? Мне трудно произнести их имена. И описать вам я их не могу. Они слишком страшны, чтобы жить внутри человеческих слов.
Они знают о себе все. Поэтому закрывают свои лица, а вернее, морды и клювы, белыми алебастровыми масками, торчащими на тонкой костяной ножке. Крепко рука, затянутая в перчатку, держит костяную палку. Мотается во мраке безглазая маска. Белые веки то ли закрыты, то ли открыты белые пустые глаза, без зрачков и радужки. Маска, ты видишь мир? Маска, закрой зрячие очи. Ты слепа, и пусть мир будет слеп.
Ты все равно не сможешь смеяться над ним.
Так, как это делаю я, живая.
А может, мне и тебя красной помадой разрисовать, белая маска? Ты, ледяная! Может, по тебе пройтись красным патроном? Размалевать тебя солдатской, военной кровью? Много кровушки пролито по всей земле. А ты все такая же белая, бесстрастная. Мертвая. Ты хочешь сказать, маска, что мы все такими станем, белыми и холодными, когда придет срок? А! Пустое. Пусть станем. Мы уже будем не мы. И мы никогда не расскажем людям, тем, кто остался, что с нами сталось. Зачем им знать тайну? Мы сохраним ее.
Люди, люди, вот война. Вы-то уж понюхали ее. Мы все ее теперь понюхали. А думали, не понюхаем никогда. Мы теперь знаем, что такое минометы. Как из брюх самолетов валятся черные дикие подарки на землю. А земля делает вид, что ее нет; так разлилась сама по себе, так утончилась, тоньше пленки воды в черной ночной луже. Земля притворилась водой. Да неудачно. А кем мы все притворились? А кем притворялись умные ракеты в широких небесах, когда летели нас убивать? Рыбы знают, куда плыть. Птицы - куда лететь. Белая маска на тонкой палке, ты дрожишь в холодной руке, обтянутой белым шелком глухой перчатки, чье лицо ты прикрываешь? Уродливое? Чудовищное? Опять прикрыла лик чудовища? Значит, ты сама чудовище. Безглазый оборотень. Ты только обернулась миром, вежливостью и улыбкой. А ты - смерть.
Я видела на улицах маски смерти, они торчали над нищей и богатой одеждой и заслоняли лица. Морды и пасти. Раздвоенные языки. Говорят, в южных реках, далеко, отсюда не видно, водятся такие рыбы, они обгладывают человека в воде за пять минут. Или даже за минуту. Война, это тоже пиранья. Она тебя обглодает не за пять минут.
Пять минут - это жизнь. Это целая жизнь.
За секунду.
За миг один.
И что? Где твои слова? Поэзия твоя? О чем ты? Бормочи сколько угодно. Записывай свою бредятину. Перед лицом войны никакие писульки не нужны. Они просто смешны. Ха, ха, ха, ха!
Ты лучше, чем писать всяческую романтическую похабень, подумай на досуге. Просто подумай. О том, как люди целятся в людей. И стреляют. Прямой наводкой.
Думай, да, хорошо думай. Живо себе все это представляй.
И то, как ракеты, их много, летят к назначенной цели. К городу. К военной базе. К кораблям в порту.
Летят умно, ловко, гладко так летят, огибая препятствия, скользя в небе, в чертовой земной атмосфере, непонятные, темные безглазые рыбы. Рыбам зачем глаза? Они не должны видеть. Те рыбы, что живут на огромной глубине. Они видят колючками, плавниками, усами. Шевеленьем хвоста. Они - о жизни - догадываются.
Они нацелены на жизнь. Чтобы - убить.
Мы нацелены на жизнь, чтобы жить, а они, чтобы...
Ты, подумай о том, что ты никогда не был ранен. Не была ранена. Стишки твои! Ты думала, это кровавые раны, и ими вся твоя грудь располосована! Нет. Не так. Все это суета и картон. Рана - другая. Она настоящая. Смерть - настоящая. Когда я увидела, как человек умирает на войне, мне все наши поэтические страсти-мордасти показались стыдным хороводом вокруг кокетливой елки. С одной стороны тебя за руку держит Волк, с другой Снегурочка, с третьей Дед Мороз, а еще тут кто-то вклинился, ба, да это же твои родители, Мать, Отец. Они еще живы. Или нет: они ожили, восстали из могил, чтобы прийти к тебе, забытой, и походить с тобой хороводом вокруг твоей последней, военной елки. Сиротской. Бесстыдной.
Мать, Отец, это тоже тени. Они вот-вот исчезнут. Я ловлю их взгляды. Взглядом целую их лица. Они без масок. Они очень живые. Такие живые, что я плачу.
...ах какая тоска сединой у виска я вижу Зверя его шерсть высока его хвост вытянут по ветру силен и прям он кажет стать свою всем трусливым нам Я вижу Зверя а не видите вы я вижу звезды поверх его серой головы он из лесу вышел а мы помираем в городах на задах жизни у смерти на задах я говорю Зверю: ну ты что не гляди с тоской ты же почти человек ты ласковый такой а кровью питаться - так это ж выдумка все по снегам древним катится морды твоей колесо а Зверь оскалился и капает у него с клыков слюна он рычит мне: берегись одинокая одна на тебя дура идет охота я прыгну вот-вот ты птица высокого полета да жаден мой ловкий рот нет жальче потери крика слезней нет я вижу Зверя смерть моя здравствуй на множество лет распахиваются двери в лицо вижу смерть мою я вижу Зверя я тебя нынче убью
...а там далеко где звезды тихи Зверь выл на луну Зверь писал стихи и я его голос слышала через мощную мглу: страх твой как волос по голому ползет столу Эй ты там жертва пониже пригнись чтоб ни крика ни жеста а только запах он и есть жизнь я тебя все равно настигну я тебя загрызу на задворках или на стогнах кровь пущу как слезу
Люди, люди мои... Люди мои, звери мои... птицы мои... все живое мое... Люди, да вы ж сами не знаете, кто вы: вы и люди, и птицы, и звери, и маленькие букашки, ползаете-летаете, о себе много чего мните... вот - возомнили... На горе, на беду себе. Что же вы сделали с нами со всеми, люди? Ведь с людьми ЭТО - люди сделали. Не волки и не птички. А умные люди в высотных горделивых зданьях, обложенные со всех сторон умными машинами, с умными бумагами на столах, с умными роботами под мышкой. Своими умными башками помыслили, умными ртами отдали приказ - и все. И полетели металлические стрекозы! Стальные жуки! Железные птицы! А люди, они что? Они ни при чем. Смотрели в окно на дело серого умного студня своего! И рук своих! Пока эти каменные столбы, в которых они зады отсиживали, от взрыва не рассыпались в пыль. Сами себя, идиоты, грохнули! А вы? Вы вот тут сидите у камина, сидите... и вы - знаете вы кто?.. выродки. Да! Выродки. Ни на кого вы тут, у камина этого гаснущего, не похожи. Сейчас все ненавидят друг друга. Обманывают друг друга. А вы тут - как на острове любви. Скажите, кому из вас в голову пришла эта мысль? Ну, к себе кого-нибудь такого же сумасшедшего, как я, зазывать - и просить рассказать что-нибудь такое, этакое из прежней жизни? Не знаете?.. А может, всем сразу, во все головы и пришла... Молодцы вы, какие умники... Выродки, уроды на прекрасном, призрачном Острове Любви. Ты еще поживи. И ты поживи. Самые красивые... самые мои... Во тьму плывущие - на Корабле Любви...
Стихи, говорите, красиво читаю? Красивые? Ох, не смешите... какая тут красота... Это экспромт. Ну я ж все-таки поэт, я же должна вам что-то сымпровизировать. Раньше, во времена там... Шекспира, Боккаччо, Гете... Пушкина там, Лермонтова... да что я: Пушкин, Лермонтов... глубже, Лелька, бери!.. импровизаторы пели песни еще там, при египетских пирамидах... да что там, в пещерах первобытных - пели... при огнях, при факелах... Я старуха, а вы выродки; и у вас есть вино, такое вкусное вино, я думала, я навек забыла его вкус. А вы вот меня угостили. Спасибо вам! Вы добрые.
Да, вы на Острове Любви, здесь, на этой старой погибшей даче, у этого беззубого камина, осыпается в пропасть, во смерть благородный мрамор, распадается на осколки и на крошево, и дрова потихоньку обращаются в пепел, и мы смотрим, как они сгорают, - мы в любви, а вокруг все погрязло в ненависти, на земле, сами видите, что сейчас творится. Царство подлога! Злобы! Лжи! Царство оборотней! Я уж забыла, как выглядит человек, который остался самим собой. Трудно его найти.
Знаете такое иностранное слово - фейк? Я забыла, на каком это языке. Страну забыла, как называется, где на этом языке говорили. Сейчас вроде бы она зовется как-то по-другому. И тоже я забыла, как. Ну и наплевать. Главное, я еще стихи помню. Свои. И Веткины. По ходу дела вспоминаю. А так специально не помнила. Я же их наизусть не заучивала! Ветка что, Пушкин, чтобы ее мне - на память учить! А раньше, слушайте, раньше - в школе - Пушкина - на память - учили... декламировали... и руками размахивали, и голос повышали, это называлось - читать с выражением...
А вы помните, люди, кто такой Пушкин? Да? Правда? Что-то такое вспоминаете? Ну помните, помните... Сколько можете, помните.
А сейчас царство лжи. Обман рулит! И больше ничего. Как я-то к вам сюда пришла, сама удивляюсь! Я, когда вы пригласили меня, посидеть у камина, попить вина, а в уплату за это удовольствие рассказать что-нибудь интересное из прежней жизни, сначала вам не поверила. Ни единому вашему слову! Ну, думаю, какие-то странные люди ко мне на площади подошли, в капюшонах, лица за капюшонами едва видно, глаза и щеки в тени, только губы горят и зубы светятся. И сразу мне - раз! - и просьбу на ладони. Как подарок. Мол, приходите к нам, не пожалеете! Мы тут рядом, на старой даче. И раскопали в погребе запасы старого вина. Еще довоенного. Ну вот скажите, что мне было думать? Верить вам? Или не верить?
Знаете, милые, я такая дура, ну, что с поэта взять, - поверила. Поверила! И пришла! А что мне терять! Иду и думаю: приду, а там, на старой даче, меня убьют! И что? Пусть убьют! Раньше, помните, кто помнит, убивали людей на органы. Но ловили юных. Детей, подростков. Чтобы потроха были свежее. Ужас, да. А теперь кому наши старые потроха нужны? Правда, ходят слухи... Слухами, я это хорошо знаю, земля полнится... Ну, страшные слухи. Что люди людей едят. Не кривитесь, не плюйтесь! Один выживает, а другой ему идет в пищу. А я? Что - я? Убьют, съедят, значит, такая судьба. Ничего не боюсь уже. Это не бравада. Мне, честно, давно наплевать на мою жизнь. Поэтому я смело к вам пошла. И... не жалею... Пришла, дверь открыла, а тут... стол накрыт, и даже вареная тыква, и забытые помидоры... и в бутылках - вино... и бокалы на скатерти... как во сне... и тепло, так тепло, дрова в камине трещат... Сказка! Я чуть в обморок не упала от такой сказки. Вы меня - под локти подхватили... а у меня голова кругом...
Вот вы просите меня сказать... подумать вслух... почему мы дошли до жизни такой. А я разве знаю! Разве я понимаю что-нибудь в устройстве мира! Ложь постепенно, медленно поднималась, дошла до ватерлинии, и поднималась дальше эта грязная вода, и затопила сначала наш трюм, потом дошла до иллюминаторов, до нижней палубы... и хлынула, и корабль осел в воду... а ложь все поднималась, заливала коридоры и каюты... и затопила все. Наш корабль ушел под воду. Наш "Титаник"! Я и про "Титаник" тогда стихи писала. Во времена катастрофы. Я уж вам говорила. Про богачку, что плывет на "Титанике" и наслаждается яствами, икрой, коньяком, хочет соблазнить капитана... и ничего, ничегошеньки не знает о том, что нынче ночью - умрет. Вместе со всеми. В тонущем корабле. Захлебнется.
Открылись створки, сломались перегородки, надломились отсеки, и хлынула вода. На все. На всех нас. На наши злые города. Прямо в лицах нас, злых людей, что зверино злились и злились друг на друга, и подсиживали друг друга, и обливали грязью друг друга, не думая о том, как эта злоба наша завтра отзовется.
Ах, как хочу, люди, прочитать вам этот стих! Можно? Не будете меня ругать? Ну, что я вас стихами забодала? Можно?.. правда?.. вот спасибо вам... спасибо...
...Перекручены простыни. И корабль плывет. И сладчайший сок на тележке катят, и пахнет кровью семга, и углем горит икра... Сколько роскоши, и соль зимней воды льет и льет со щек, по губам льет, по шее закинутой, по всегда, завтра и вчера. Это просто духи!.. сколько стоят они, а черт знает нежных их!.. Мне-то все равно, что на пальцы лить, на седые виски: а корабль режет носом волну, ударяет морю в морду, под дых, и на палубе сдохнуть можно от сини, ветра и от тоски. Льется музыка с мостика. Знатно гуляет, знать, капитан, одинок?.. - закадри!.. а женат - соврати!..
...что ты порешь чушь. Ты плыви и молчи. Ты хотела жемчужных, песчаных далеких стран - так глотай и давись, ведь в икре столько рыбьих ребячьих душ. Нерожденных душ. Человечек, он жрет всю дорогу детей, лишь детей - ведь нежней, теплей, сочней и вкусней они! Над икрой круизной, крупной слезы крупные лей, над цыплятами табака рыдай, заливай слезами огни. Ты - богачка?! Ах, это всего лишь подачка: зажарь и сожри любовь! - лишь подначка: а ну-ка, ты сдюжишь вот эту, жирную эту судьбу - в шелке-бархате, купленном на дымную нищую кровь подворотного беженца, безносой девчонки в чадре, в гробу. А корабль плывет, ведь ему же нельзя не плыть, капитан, слыша дальнюю музыку, щегольской крутит, умный ус, пусть другие живут, если никак уж нельзя не жить, но, когда все умрут, семга все такая ж будет на вкус! Ты - богачка? На себя в зеркало пялься. Себя презирай!
...о, нет-нет, так не надо, ты лучше себя люби. Накорми повкуснее. Пусть другие идут в ад и в рай. Ты живи на земле. Не умирай. Пусть другим сколотят гробы. А тебя пусть целуют. Ласкают. Пусть клопами воняет коньяк. Пусть не знаешь ты уже ничего про вопящий в ямах народ. Пусть другие живут как хотят, коль иначе нельзя никак! Это просто помада, в ее жирной крови улыбайся, красивый рот! Это просто духи!..
...может, духи. Вокруг кровати дымно толпясь, пахнут кровью, слезой, табаком, потом, слизью, вином, икрой. Бормочу им, кричу им: укрой меня! холод! снег! и метель! и грязь!
...нищета. Ее призрак. Прошу, теплей, теплее меня укрой.
Вот какое... какая судьба... Мы сами не знали, как мы богаты. И не понимали, что такое настоящая нищета. А настоящая бедность - вот она: жрать нечего, еда отравлена, мысли людей отравлены, на лицах поддельная вежливость, нарочное внимание, а сейчас уж и этого нет - ненависть поборола все, она одна осталась настоящая.
А я никогда не была богатой. Это в разумении Ветки мы были богачи: муж - дорогой художник, я - дорогой писатель, оба в почетных премиях, громадных гонорарах и щедрых подачках от благосклонной власти!
Туман кружевной Веткину голову обволакивал... туман и обман... И верила же она во все это, верила...
Человек человеку врет - и страны друг другу врут. Врут и не краснеют! А почему старинные земные страны начали друг другу лгать? Кто первый начал? Я думала об этом, да. И теперь думаю. Только все чаще бедную голову мою, не Веткину, еще живую, обнимает облако скорби. Боли туман. Мне больно. Я запуталась. Я не хочу так жить, как теперь все живут. Но я не знаю, куда убежать от своего обманного, подлого времени.
И никто не знает, люди, слышите, никто.
***
Время текло и летело, под ногами моими плыла земля, и земля кренилась палубой корабля, и вцеплялась я в релинги: земля, о, где ты? справа по борту? слева? в последних дымах красоты? Я еще чуяла мою землю. Я любила ее. Я любила людей: бежали, ковыляли, хромали по ней. Повторяли ожоги огней. Летели, по ветру с веревок белье. Мой народ. Колким жнивьем торчал из земли. Таял молитвой во вьюжной пыли. Люди шли, корабли; в кишках, под брюшиной, под сердца винтом аршинным, под ребрами недобрыми жадных железных трюмов спал угрюмо избитый, исхлестанный солдатами Бог, и был Он опять одинок.
И всяк на земле холоден был, одинок, и никто никому не давал зарок, и одинока была земля, и никто не стоял у руля, один плыл безумный летучий корабль на далекий маяк, на солярный, полярный, пожарный знак, на лунный огонь, а на деле - во мрак, а иначе нельзя никак.
Время текло и летело, я чуяла под ногою жгучие корни, под ногой становилось все шире и все просторней, земля раздвигала, как в родах, в любви, ложесна, она тоже была одна. Хотела любить. Рвала кровеносную нить. Земля раздвигала границы, миры, смеялась ртом черной дыры, почва пахла смертями, червями, травой, всяк, несчастен и наг, наглец ли, мертвец, был живой, навеки живой, почва вспыхивала казнящей водой, шальною рекой, взвивалась грязной рукой, рука сжималась, последняя малость, в предсмертный кулак, - а иначе нельзя никак.
Река и небо, братья и сестры земли, вы от меня недалёко ушли, я время, я же почти река, я осока у тростника, я еще чуть - и небеса, у меня льются, текут и бьются слезы, скулы, глаза, волоса, наизусть поются голые, гордые, гончие голоса, я земля, я под ногами плыву, я разымаюсь, я вас в себя, внутрь, зову, потому что я родина, я одна ваша родня, последняя ваша вера, а вы - одно, что есть у меня: отпечатки ваших ладоней, сургуч ваших ступней, на моем лугу пасутся ваши смирные кони под табуном моих полночных диких коней, я родина, я последний мягкий пласт, черный отвал, глубокий раскоп, я земля, меня любой из вас затопчет, предаст, я умру под тяжестью ваших изумленных стоп: под кирзою сапог, полозьями санок, изморозью танков, узорочьем шин, ваша земля, олениха, белуга, утка-подранок, в дерюге туч - журавлиный клин, вот сейчас, вот теперь, пока войны еще нету, пока дыма разрывов, волчьих жертвенных воплей нет еще, нет, сию минуту, до тьмы, до света, не включайте, не надо света, ослепну, оглохну, ни клейма, ни пятна, ни меты, да вот он, бесстрастный, бесстрашный, суконный ли, медный, калашный, огонь, елей, вино и брашно, мой Судный Свет.
Я ночами молилась Богу. Что переглядываетесь? Смеетесь надо мной? Вы еще помните, кто такой Бог? Ну помните, помните. Это хорошо, что помните. Не забывайте. Мы тогда с Богом жили, Бога все время поминали, то плечами пожмем: Бог знает, то улыбнемся сквозь слезы: Бог простит! - то просто горячо воскликнем: Боже мой! - теперь-то так не восклицают. Над столом моим висела старая икона, еще прабабкина, а той тоже, может, ее прабабка в наследство оставила. Века насквозь эта темная, земляная икона прошла. Из ее коричневой глубины просвечивал золотой нимб вокруг туманного лика: я так мыслила, это и был Бог. И Ему надлежало молиться. Сколько народу молилось перед этой иконой! И я туда же. Лик, нимб, полустертое золото, а вокруг - крошечные такие картинки, величиной со спичечный коробок, старинную почтовую марку. И в самом низу я еле различала: две нагие фигуры стоят. Темные, цвета земли, жалкие и дрожащие. Себя за плечи обхватили. Холодно им. Мужчина и женщина. Адам и Ева, значит. И стоят они в Раю, и прямо над ними свисает ветвь, а на ней - крупные золотые яблоки. И Ева так смотрит на яблоко, громадными очами, слезно глядит...
А я крещусь. Крестным знамением себя осеняю. Что вы смеетесь? Да, осеняю! Пусть это всего лишь знак. Да он древний. Само время, когда мы крестимся, крестит нас. А со временем шутки плохи. Время само тебя настигнет, накажет. Ты преступник - оно все запомнит, запишет в незримой, небесной золотой книге!
Время, оно, наверное, и есть Бог.
Просто все об этом молчат.
***
Везде и всюду из земли время выдирало корни. И я смертельно цеплялась за землю. Я цеплялась за родину, за мою широкую холодную реку, что текла из ничего и утекала в никуда, в те страны, где я не буду никогда; за жизнь, за полевые цветы на косогоре, за лай собаки в солнечном дворе, за горячую, сильную руку мужа, написавшую и бросившую миру в лицо столько ярких картин, за страшную грозовую тучу над осенним заречьем. Я была корень, и я уходила глубоко в землю. А люди сами себя вырывали из земли и поселяли в роскошь блестких апартаментов, в сверкающие позолотой и лабрадором дворцы, люди истерично окружали себя великолепием, чтобы не умереть от великого страха - а что там дальше, завтра.
А завтра была война; люди чуяли ее ноздрями, нюхом.
Люди не умели держаться за гибнущую землю; им казалось это грязным, невозможным. Земля катилась в никуда и погибала, а люди жили, жили их тела, и не знали, что погибали их живые души. Они все меньше становились живыми, и все больше - гнилыми. И, еще живые, ходили по улицам люди, мертвые давно.
Стихи, зачем я всю жизнь жила ими и внутри них?
Стихи, они были всего лишь выживанием моей души среди умирающего мира. Стрелки часов ползли, отмеряли время. И лишь стихи за меня твердо знали: времени нет. Есть только великая, безбрежная боль, тоска по нем.
Странная, Лелька, жизнь. За последний разум держись. Да брось! На разум наплюй. За последний держись поцелуй.
Так стояла я однажды на крутом берегу моей ледяной широкой, на полмира, реки, глаз таял и исчезал в дымных просторах, и вдруг привиделось мне виденье. Я увидела, как с севера прямо на меня, на крутояр, где стою, катится громадная, величиной с упавшую на землю луну, волна. Идет серая холодная цунами, великая смертная вода. Я попятилась, а волна надвигалась быстро, и до меня уже доносились страшные крики людей с другого берега. По мосту катился черный людской вал. Цунами навалилась и накрыла заречье, мост, заслонила свет. Холод ударил мне в лицо. Краем сознанья я ухватила: затопление, потоп. Новый потоп? А, это всего лишь прорвало шлюзы! Вода подточила и прорвала старую, ветхую плотину!
Я вцепилась пальцами в чугунную кружевную ограду, чтобы не упасть под напором воды. Последние глотки воздуха. Сейчас меня захлестнет.
Волна упала на меня сверху. Это чугун упал. Камень неба упал и раздробился на тысячу кусков. Я лежала, придавленная прозрачной холодной плитой, и странно, внутри смерти я понимала: тоже страшная смерть, от воды, не легче, чем от огня.
...когда очнулась, первой мыслью моей было: да ведь все, все под водой безверия, зла, ненависти! Я дрожала. Дул северный ветер. Осенние деревья корчились в его объятьях, сбрасывали листья, как баба тряпки для любви. Видение потопа врезалось в меня намертво. Шлюзы там, вверх по реке, и правда уже истончились, одряхлели. Я просто в лицо увидела то, что могло случиться с минуты на минуту. Да ведь люди отворачиваются от истины. Смеются над ней. Топчут ее ногами: замолкни, истина, сдохни, раздавим, как червя, не хотим тебя видеть и слышать!
И потом, после этого виденья, в стихах своих я все кричала миру: погибнем! Утонем! Задохнемся в погоне! За пошлой роскошью, за поддельным златом! А были - крылаты...
***
…я вижу двумя глазами два мира
один пошлый
приторный и тягучий сироп
на сладкое слетаются мошки
алым вареньем обивают гроб
второй мир умирает он совсем плох
он - последний глубокий вдох
последний подлинный поцелуй
последняя правда Исайя ликуй
глубина никому не нужна
ни зима ее ни весна
глубина океана
глубина - распахнули ножом рану
в жемчугах поддельного пота лоб
поддельным брильянтом пылает сугроб
поддельная смерть
никому не посметь
намазана прокурена вусмерть пьяна
глянь как красива она
позорница покойница
бесья беззаконница
а причеши и пригладь -
царица глядь
обман больше правды любят всегда
на обман распадаются города
на ложь разымаются небеса
жить полчаса
осталось
такая малость
глаза человека
волка глаза
желтый янтарь старая бирюза
твою душу зверь уже отгрызает от тела
ты этого не хотела
последним живым криком страшно кричишь
...поддельное молчанье
трусливая тишь
***
Гулянья мои, ну, значит, Ольги по городу становились все безумней и путаней. Молчанье обочь клятвы и голода. Мерцанье обочь мрака распутного. Вылететь из дома, бежать внутрь города, в его каменное чрево, морду стозевную, нырять Ионой в брюхо кита, медью ли, золотом, укрыться, спастись, кануть в озеро зеркала. Где бедная птаха-жизнь гнездится, прячется?
…от ненависти - некуда. Да и незачем. Выйти на площадь. Открыто плачется. Тебя нынче ловят снежным неводом. Открыта грудь. И лицо открытое. Бейте, люди! До скрежета зубовного!
…люди, я не сделала ничего позабытого. Люди, я лишь глотнула напитка любовного.
Круги мои, ну, значит, Ольги по городу все темней гляделись, все невозвратнее. Не круги, а заячьи петли по холоду.
...петли
...пуля
...боль
...безумие вкуса мятного
Хмель валерьяна водка - из-за пазухи плюнут завтра войной а сегодня на кладбище мчит княгиня кафтан парчовый пылающий и вдруг падает снежным комом на паперти и вдруг разбивается на сколы памяти и плачет незнамо незримо незнающе
...вбирай жадно зрачками бухарский ковер над ночной патлатой башкой полнощною: дегтярная кошма развышит простор ледяными, алмазными зернами проросшими
...этот мир, синий, темный, морозный, он так горько просторен
…он упрям, умен и упорен
...а для тебя тесен
...белое поле для твоих волчьих песен
...не повторяй волчьего воя
...монисто звезд и планет, чернь-серебро над головою
...я безумна, от горя и боли помру я
...наплевать на жизнь первую, дайте вторую
...дайте жизнь темную, слепую, царскую, господарскую, праздничную, высокую
...это кто же там плачет, на снегу животом, за сухою осокою
...да это я, всего лишь я, только я, и никто более
...поклянусь криком
...поплыву ликом
...захлебнусь болью
...я, ну, значит, Ольга шла, и шла, и шла, катилась пустой рюмкой по краю стола, под черной густой нефтью полночного неба скрипели шаги и стонали немо, петляли шаги на широком снегу, пылали - ни зги! - на последнем бегу, трехпало, зверино горели следы, трепыхались поземкой беды, стекали письменами к покрову воды, заберег-шуга, золотой ряски крап, рассыпались крестами птичьих лап на лютой, под полной Луной, белизне: не стерпеть! Мы живем в зимней стране. Снег, жемчуг! Изобильны тьмы святые дары. Мороза престол - до утра, до поры. Хитра и щедра ведьма-зима. Сведет с ума. Ольга, не обезумей, княгиня, держись. Это же твоя единственная жизнь. На птичьем лезвии зимнего ножа. На звездном острие: ресницы дрожат. Слеплено сердце из красных слов. Все в крови! Горят! Это любовь. Сыплются и шепчут, шьют морошкою путь… Не уйти. Не умереть. Не уснуть. Не вздохнуть.
Волк, выходи! Ну, давай! Из-за угла! Твоя взяла. Я, княгиня Ольга, нынче во всеоружьи! Мое вьюжно, недужно, жемчужно окружье! Стара? Молода! Какие мои года! На мне нынче ночью, для торжественной встречи тебя, расшитый смарагдами, лалами павлиний кафтан; наряд, это бабья судьба; клеймен красотой мир, пьян; кафтан-алтабас, воротник-адамас, из широких, холодней реки, рукавов нежно глядят, обнимая запястья, высвечивая покров, золотей, чем солнечный глаз, зарукавья нижней атласной рубахи. Я нарядилась на свадьбу? На плаху! Рубаха розова, ярче зари! Это свет мой сквозь ребра бьет, изнутри! Это зарю я в ночи надела, окутать нагое снежное тело, тебя, волк, светлой зарею встречать! Ты просто зверь из чащобы, ты рык из утробы, ты не отец мне, не мать! А еще из богатого сундука вынуто, на плечи мои небрежно накинуто, по снегу волочится корзно:
богатым горностаем подбито, одиноко - во стае - убито, бархатом красно и грозно, белые шкурки пушистей сугробья, гляжу исподлобья, а бархат-кровь истово льется-горит, страхом-ужасом, инда птиченька-душенька, смертно изрыт, под звездным полоумным, залетным светом играя древним пурпуром, заморским стилетом. На плече крупный яхонт пылает, что иконная скань; им заколола богатую ткань, чтобы в сугроб не свалилась с плеч. Устала! Вот бы в снег лечь! Кика надо лбом высится кремлем, алой башней, как в печи взошедшее брашно, вся сплошь расшита мальками-сердоликами, гранатами-ликами,
пшеничными зернами перлов отборных! Сама, волк, в ночи вышивала! А мне и горя мало! Вот самоцвет, вот камея! Я все умею! Ты, зверь, так-то сумей-ка! Я - златошвейка! А ты, когтистые лапы твои?! Тебе лишь бы перегрызть глотку любви! Разве коготь твой шелкову нить удержит, золотую иглу! Канет счастье во мглу! Рыбой вырвется любовь из когтей. Выходи! Жду сегодня гостей! Разве сердце твое горит, как мое, целым небом громадным, алмазным, полночным?! Вижу Бога воочью! Крыла за спиной. Крест на груди. Давай, смелей ко мне иди. Ступай по снегу ко мне. Зенит весь в огне. В снег впечатывай лапы. Смоль небес в брызгах златого херувимского крапа. Река молчит подо льдом. Это моя жизнь, волк. Это мой дом.
Из-под сверкающей кики на лоб мой спускается поднизь. В ней сметаною, маслом кругло, светлейше горят жемчуга. Волк, я, княгиня, все забываю; все помню. А жизнь без песни не дорога. Без любимых снегов. Без родной ночи. Волк, стой, не вой, нынче молчи. Я, княгиня Ольга, к тебе по снегу, по зимнему лютому веку, в красных ордынских сапожках,
в чаше ночной золоченая ложка, медленно подхожу. Не дрожу. Я руки в перстнях, в тяжелых полночных огнях, высоко подниму. К тебе протяну. Ну, загрызи. Или обними. А хочешь, я тебя обниму. А потом прокляну. От смерти спаси. Меня. Одну.
...петли вьются, затягиваются
...княгиня, красавица
...и выбегает на площадь, и ветер флаги полощет, а это вокзал, как уехать навек, ей никто не сказал, и в голос ревут поезда, увозят твое времечко туда и сюда. Она бежит против снега, сундук распахнулся, угрюмый вокзал, на груди смарагд оберега, как молиться, опять никто не сказал, как помнить, никто не поведал, как любить, как прощать, рукава кафтана реют флагом победы, сапожки ханские, кровавые, в бою добыты со славою, кладут на время печать, втаптывают в грязь и снег время, сверкают из-под шелковья корзна, мимо вокзала грохочет, гудит война, а огромная люстра висит надо всеми, кренится, грозно и дико вращается, обещает, улещает, взрывается, падает, возвращается,
она всем не нужна, хрустальная, медная, золотая мошна, на нее даже глаз не вскинут, вверх, в небеса, не глядят, а сиянье кружится над отцом и сыном, надо всем, что мед и что яд, над толпой, опозданье вечно, над тобой, княгинюшка, над тобой, посреди старого вокзала оплывшей свечкой ты горишь, воск слезы над губой, застывает, друзами наползает, снова тает, течет опять, ты разве святая, течешь слезами, люстра, помоги, тебе исполать, мое небо, стекло битое, моя Вселенная, крыл размах кристальный, живучий, живой, моя жизнь, изменная, неизменная, бешено, горьким золотом, серафимским молотом сверкает над головой.
Я и в земле буду тебя зреть, чудо!..
...я от земли... не убегу...
...круг пламени
...птичья клеть
...жемчугов остуда
...баба в расшитом звездами княжьем кафтане плачет.
Незряче.
На коленях.
В снегу.
***
Выставка, и снова живопись на квадратах холстов, краски текут и вспыхивают. Лава застывает. Из пламени и горечи своего сердца ты лепишь этот безумный цветной квадрат, а бывает, и черный, а бывает, и красный, и белый. Сердца, души? Проще сказать, нутра. Художнику не до высоких слов, когда он может себя поджечь, сгореть и умереть. Сдохнуть ни за понюх табаку. Снова выставка, и мы с мужем идем по ней. Как ходили Вчера. Год назад. Сто, тысячу лет назад. Павел выставил мой портрет. Другие художники, наши друзья, выставили все что угодно: портреты, пейзажи, яблоки, цветы, похороны, праздники, круги Ада с натуры. Все есть натура, даже выдумка. Нет разницы между натурой и видением. Мы живем в потустороннем мире, а умираем в мир настоящий. Сколько у него мер? А весов? Мы с Павлом медленно перешли из зала в зал - и увидели.
...она сидела так же, как я, в такой же позе, накрест, наподобие Леонардовой Джоконды, сложив на коленях руки. В пальцах торчит карандаш. В три четверти повернута голова. Кок взбитых крашеных волос надо лбом. Легкая полуулыбка. Павел даже зажал рот рукой, чтобы - что? Не засмеяться? Не закричать? Не изругаться страшно и дико? С портрета на нас обоих смотрела Виолетта. Она позировала, как я. Она карандаш взяла в руку, как я. Да это все ерунда. Может, сто, тысяча женщин во всех веках так вот, в этой же позе сидели перед художниками, с карандашом в руке, и художник ударял кистью по холсту, живописуя - правду.
Все тут, на портрете, была правда. Это была живая Ветка, старательно написанная художником с натуры. А может, с красивой фотографии; но опять же правдиво и старательно. И все же тут нагло сидела и с холста на людей глядела ложь.
"Ложь!" - крик едва не улетел с моих губ далеко, далеко. Я прижала палец ко рту и оглянулась на мужа. Он так понял этот мой знак: молчи, - и молчал. Люди столпились возле галеристов. Говорили пышные, никому не нужные речи. Мы оба, муж и я, увидели живую Виолетту. Ее вызвали благодарное слово сказать. Она, одергивая на себе юбку, бойко выбежала и встала перед толпой зрителей. Голый голос взмыл и взвизгнул. Она начала читать. Муж сказал мне глазами: уйдем. Я глазами ответила: нет. Я слушать хочу. Слышать.
Иуды поцелуй, подлых сребреников горсть, всякий в мире лишь гость, Магдалина перед крестом, оставь слезы на потом, рыбак ловит неводом звезды, Парфенон, Трианон, виноградные гроздья, жадная живопись, живое письмо, яблоко падает в руки само, Леонардо, Веласкес, Рембрандт, Тициан, залечите красную тьму моих воспаленных ран, покажите мне ярость заоблачных стран, я поэзии капитан, мой персиянки стан, Средиземное море, средьнебесные сны, ах, только бы не было никогда никакой войны, а художник это святое, художник не знает простоя, и я готова художнику позировать года и века, ведь у него Вселенная на дне всевидящего зрачка! И он меня видит, меня, высокую поэзию, насквозь, от земных голых ступней до Космоса волос! Я Афродита! Я Джоконда! Я Саския! Я Форнарина! Я самая лучшая в мире картина! Мой художник! Спасибо! Обнимаю тебя! Я твоя краска, военная каска, слеза и судьба!
...не помню, как мы оказались в этом застолье. Зачем сюда пришли. В эту гиблую, полутемную столовую, с голыми столами, а еду в мисках разносили; так смеялись над временем, искажая его в угоду неведомой вечности. Ножи, вилки - стальными нержавеющими рыбами - около детских, а может, тюремных мисок. Пахло вкусно, а гляделось страшно. Гул, гуд голосов стоял в зале мощно, плыл сизым дымом. Я различила тонкий бабий визг поблизости: "Ах, какая же котлетка у вас вкусная, просто вкуснятина! Чудесная кухня!" Кто-то опасливо на моего мужа косился, исподлобья глядел. Молча сидел. Как не у дел. Люди, кто весело, кто угрюмо, работали вилками, ложками, челюстями. Все это были художники, наши друзья. Кто-то еще. Я не различала лиц. Лица качались взад и вперед над мисками, вспыхивали и гасли. Вечеря, страшная, бесконечная. Снова люди едят, а поедят - разойдутся. Салфетками утрутся, умоются, уймутся. Обоймутся, попрощаются. С метелью во тьме повстречаются. Но это потом. А сейчас, на миг, это дом. Сиротский приют. Накормят, не убьют. Баба там, в углу, прекрати, не визжи! Тускло блестят тупые ножи. Все едят и пьют, а баба верещит восторженную чушь - для жрущих и пьющих, бедняцких душ. Она поет людям лицемерную хвалу. Кто там в углу? Осколки на полу. Вечеря страшная. Слезы кровью ползут по ножу. Я со своим зеркалом рядом сижу. Я со своим волком рядом стыну. Помолись. Быстро, неслышно. Слава Отцу и Сыну. И Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков, аминь. Ты, Ветка, валяй, от пуза ешь. Красное - пей. Лукавое - лей. На ветру - не простынь. Страшная вечеря не кончается две тысячи лет. Нашелся богомаз, намалевал Иудин портрет.
Я пила. Слепо. Не помню, что. В запахе коньяка надевала пальто. Муж держал, я вдевала железные руки в пьяные рукава. Плакать сил не было. Стояла едва. Лампа горела как на допросе, как... Кисти платка зажала в кулак.
Не помню, как вышли. Бил в щеки снег. Вышептала мужу: брось, я не волк, я еще человек.
***
Друзья мои... милые люди... ах, Господи, еще одна бутылочка!.. откуда!.. из каких таких богатых закромов!.. красного?.. красненького, синенького... хоть зелененького... знаете, мне все равно... зелено-вино... А, вот, вспомнила, что хотела вам сказать важное: знаете... нет, не знаете... откуда ж вам-то знать... у нас в городе жил один такой умный, ну просто очень умный, невероятно умный человек. Умнее всех нас во сто раз, может. И вот он однажды сказал такое золотое слово, и я его навеки запомнила. Он сказал: на ложь надо отвечать правдой. Потому что если вы молчите, рот на замок, ну все вокруг и думают, что та ложь - и есть правда. Самая правдивая! Ну ведь вы молчите. Значит, с ложью соглашаетесь. А соглашаться - не надо! Надо на ложь - отвечать правдой! И только правдой!
Я крепко запомнила эти умные слова. И про себя их все время повторяла.
И вот наповторялась.
Захотела - правды. Живой. Настоящей.
И что, люди, что, вы думаете, я сделала?.. Что ты такого сделала, Лелька, безумка... зачем в это во все ввязалась... А, видите ли, не могла больше терпеть лжи... И - ненависти... И - подлости... Захотелось, видите ли, тебе - справедливости... Где ты ее видала, ту справедливость?.. Только во сне. В светлом и солнечном сне. А наяву? Мы все, люди, сейчас вволюшку войны хлебнули. Мы-то уж знаем, что такое ложь. И где живет правда. Похоронена она давно в земле, правда наша. Спит, глубоко под землей. Рядом со слепыми червями.
Я... А что я сделала? Ну, что? Да, что я сделала? Я написала большими словами, большими буквами большую картину. Во всю стену маленькой жизни. Расписала пустую жизнь - огромной фреской. И на фреске той изобразила себя и Виолетту, как мы есть. В полный рост.
И я выставила эту фреску во храме моей жизни для всеобщего обозрения; доведенная до отчаяния, я только так и могла спастись, чтобы не сойти с ума; протянуть руки людям: люди, ну вот же правда, вот правда, вот!
И на фреске той мы обе оживали, стихи читали, детей рожали и кормили, в ресторанах пили - за счастье, за радость, за совесть, за очередной Новый год, за чей-то кружевной день рожденья; а бывало, и за день чьей-то безвременной смерти поминальную рюмку водки выпивали; и на фреске той обнимались, целовались и мирились, после всех Веткиных страшных стихов, навек; и на фреске той Виолетта, вдохновенной ночью, опять мне ребра ломала и у меня теплое, бьющееся сердце из груди жадно, хищно тащила, а потом в свои слова кровь мою переливала, а потом заново лепила - меня не меня, себя не себя, а такую забавную куклу из краденых кровавых слов быстро, ловко шила: и трясла ею в воздухе, над алой площадной тряпкой, и кричала свои слова, наспех слепленные из моего смеха и моих слез. А это, по правде, набитая ватой кукла кричала, под яростным площадным снегом, с размалеванными помадой щеками, с нарисованным алым сердечком ртом. И на фреске той я, Ольга, отчаянно обнимая людей, чужих и друзей, и прижимаясь к ним в жалком объятьи, ища у них бестолковой защиты, скользя по их холодным зимним щекам мокрой горячей щекой, выплакивала им в плечо, в ухо: люди, меня убивают словами, спасите! И на фреске той Виолетта, возненавидев меня за правду, словами ненависти на широкой снежной площади больно и прилюдно расстреливала меня.
И на фреске той видели люди мою настоящую правду; и разбирали те слова правды по слогам; и молчали, не зная, что сказать и что подумать.
Ведь их правда звучала и выглядела совсем по-другому.
И фреску ту внезапно увидала и по знакам и вздохам, по теплым от крови костяным строкам, по узорным золотым, красным буквицам однажды прочитала несчастная Виолетта; и взъярилась; и забилась в истерике; и завопила неистово; и прокляла меня за живую правду мою; и подала на меня за ту правду - в суд.
***
Люди, люди... ну что вам сказать про суд. Вас судили кого-нибудь... когда-нибудь? Нет?.. Значит, вы не поймете. Суд - это стыд. Кромешный и всеобщий. Судьям стыдно задавать тебе вопросы. Тебе стыдно отвечать. Потому что судьи всё и так понимают. Без всяких там позорных, жалких слов. Я сидела на скамье, старалась не горбиться, сидеть прямо и гордо, чтобы не выглядеть старой. Мне надо было предстать перед всеми сильной, веселой, а не печальной: правдивой. Потому что, это я так наивно думала тогда, на суде, правда была на моей стороне.
Меня медленно и важно спросил человек с черной челкой, с надутыми щеками, с полоской крохотных кукольных усиков над подрагивающей губой: "Вы сознавали, что, сочиняя ваш текст, вы оскорбляете им другого человека?" Я героически улыбалась. "Я сочинила один текст! В котором все - правда! А истица сочинила сто, двести, тысячу оскорбительных текстов! На протяжении многих лет! В которых все - неправда! Так кто же кого оскорбил? Вы что-то перепутали, господин... товарищ..." Я не знала, как назвать человека с усиками. Растерялась. Из зала кричали: "Она не виновата! Не виновата!" Кто "она", я не понимала. Я? Или Виолетта?
Виолетта тоже сидела на скамье. Поодаль. Я смутно видела ее напудренное и нарумяненное лицо. Ее серьги остро и больно сверкали в свете судебных ламп, ярче софитов стадиона. Вдруг она вскинула голову и тоненько заверещала: "Досточтимый суд, товарищи, ой, граждане, ой, господа, ой, люди, а может, это я виновата! А я виновата, да! Виновата лишь в том, что я - вдохновенна! Я творческий человек! И я как хотела, так и писала свои стихи! И в них речь совсем ни о какой Ольге Ереминой! Княгиня Ольга - это, между прочим, историческое лицо! Еще какое историческое! Это гордость наша! Она давно уже святая! А если вы прицепляетесь к имени Ольга, так мало ли, дорогие товарищи, ой, господа, конечно... Ольг на свете! И у меня в стихах речь идет совсем о другой Ольге! Я с ней, господа, сейчас сужусь! У меня, между прочим, идет сейчас одновременно два судебных процесса! Этот - третий! Да! Я такая! Я смелая! И я - за справедливость! А в стихах меня вдохновляла другая Ольга! Ее фамилия, если хотите знать, Мразьева-Блаженных! Но она давно уже вышла замуж... и уехала жить в другую страну! Хвостом вильнула! Не найдете!"
Судьи переглядывались. Виолетта так надсадно орала и на такой высокой ноте, что человек с усиками закрыл ладонями уши. Когда Ветка перестала истошно кричать, он отнял руки от ушей, измерил меня глазами сверху донизу и веско изронил: "Оскорбление чести и достоинства, вдумайтесь сами, господа. Это оскорбление личности и клевета на гражданина нашего государства. Унижение, слышите ли вы все, унижение! Унижение человека - это страшно! И это - наказуемо!"
Раздался другой голос. Откуда, я уже не понимала. Меня стало мелко трясти, будто я заболела страшным забытым тифом. Лоб пылал.
"Но ведь в тексте Ольги Ереминой и намека нет ни на какие подлинные имена! Я все внимательно читал, господа! Там нет имени истицы, тем более имен ее друзей, родных и знакомых! И вся эта история, господа, она же насквозь выдумана, ибо она настолько чудовищна, что и в кошмарном сне никому не приснится, а не только абсолютно невозможна в реальности!"
"Реальность порою круче всех ваших диких выдумок!" - кричали звонкие молодые голоса из зала, с дальних кресел. "Реальность - жесть!" - вторили молодым голосам голоса погуще, постарше. Вы что молчите, сердито сказал мне человек с усиками, а мы вот считаем, что все уже почти доказано, ведь так все совпадает, тика в тику, и то, и это, и еще вот это, ну как вам не стыдно отпираться!
"Как вам не стыдно говорить мне это!" - крикнула я отчаянно и криво, жалко улыбнулась, я понимала, что все крики мои и даже слезы мои тут напрасны, есть деньги, тут бал правят деньги, у Виолетты есть деньги, в отличие от меня, жалкой нищенки и церковной мышеньки, жены бедного художника, и она этими щедрыми деньгами уже благополучно купила все: суд, адвокатов, производство важных бумаг, обсуждения, реплики, свидетелей, решенья, приговор. Да смешной это приговор, шептала я себе, ну, подумаешь, штраф заплатить присудят... это мне-то, мне!.. хлебнувшей столько грязи из Веткиных рифмованных корыт, из слов, смачно и красочно, наспех прилепленных друг к другу... а я... что я?.. подать встречный иск?.. какая чушь... оскорбили... достоинство... и честь... люди... а что такое честь?.. она живая?.. а где живет честь?.. ваша честь, а вы знаете, где честь живет?.. где бесчестные люди прячут ее?.. За пазухой... за щекой... за шиворотом... дома, в бабкином сундуке?..
Честь... да, есть... да не про вашу честь...
Вот как восстану я гордою и величавой... наслажуся сытостию Божественной славы... вот как отверну лице мое от морд звериных и зубов змеиных... погляжу добродетелью ясноглазой на грех подлый, козлиный... А тут внезапно мимо меня, царицы, слава-то земная вихрем дракониим пронесется... с небес рухнет, повозка шальная, на дно чернаго колодца... Да и я пойму, лишь за Господа моего в ответе, бессловесно, тайно уразумею: счастье-горе смертно, как все на свете... и от догадки той горькой - навек онемею...
Мне становилось все хуже, я боялась грохнуться без чувств, это было бы уже совсем смешно, уродливо-сентиментально, по-старинному, в воздухе пахло нафталином, мышами и хлоркой, в зале суда недавно вымыли полы с хлоркой, как в больнице, суд и был больница, здесь жестокостью лечили от человечности, Господи, как жаль всякого человека, кого стискивают эти рачьи правосудные клешни! Ветка, зачем тебе этот позорный суд, так и хотелось мне крикнуть ей, пульнуть горячий, обжигающий снежок крика со скамьи на скамью, зачем ты все это затеяла?.. меня прилюдно, вслух оскорбить и унизить, и чтобы меня торжественно осудили за оскорбление и унижение - тебя?.. Оборотень... ну ты-то ведь и волен поступать так... именно так... и не иначе... Я закрыла лицо руками. Чтобы не видеть мир. Этих людей в пыльном зале. Пусть его дочиста, до блеска вымыли, он все равно пыльный и затхлый. Мне надо было что-то правильное говорить. Оправдываться. Защищаться. У меня был жалкий, чахлый видом адвокат; откуда он явился, я не знала, не поняла; кто его ко мне, как коня, пристегнул; он сидел молча и равнодушно глядел в окно, на вечную нашу зиму, на голодных воробьев, крупными темными ягодами качавшихся на голой ветке.
"Она все лжет! - кричали с задних рядов, возможно, это была Веткина клака, заботливо приведенная ею в зал суда. - Лжет она, ваша поганка Еремина! Сама без перерыва строчила и строчила гадкие стишки, очерняющие прекрасную Виолетту, да!.. и тискала везде, где только можно!.. всю Сеть этой своей поганью завалила, все журналы!.. а потом испугается, тварь, и враз все уничтожит!.. Следы хвостом заметет!" Грузный мужик, сидевший на передней скамье, прогудел досадливо: "Еремина госпожу Волкову называла своим эпигоном! Да разве ж она не тварь! Тварь, конечно!" Усатый судья нервно тряс колокольчик. "Попрошу не выражаться публично! Тварь, это тоже оскорбление, прошу заметить!" Может, это был обвинитель, не знаю. Неужели я уголовная преступница, думала я о себе, старалась думать равнодушно, но мысли метались под черепом, так звери в горящем лесу в панике спасаются от гудящей стены огня. Неужели я тварь. Тварь? А что, что же сделала я? Я, да, я? Я одна? Перед кем мне встать во весь рост, чтобы за себя ответить? Перед Богом?
Да, лучше перед Богом, думала я, чем перед усатым. Колоколец опять тонко, пронзительно звенел. Вставал внутри вертикальной деревянной коробки новый человек, со светлым, ласково сияющим лицом; я не понимала тогда, что это адвокат Ветки. Светлый, будто чисто выстиранный и аккуратно выглаженный, воспитанный человек поднимал руку, вытягивал палец, пальцем невоспитанно показывал на что-то такое в зале или на кого-то, а, да, на меня. "Глядите! - возглашал чистенький человек. - Подсудимая вся залита краской! Ей стыдно! Да, ей стыдно! Видите сами, как ей стыдно! Этот стыд - намек на то, что в ней еще не окончательно погибла совесть! Кроха совести осталась! Однако за преступления надо отвечать! По закону, господа! Оскорбление внутри искусства - это тоже преступление!"
"Это поэтические метафоры!" - истерично кричали из дальнего хлорного угла. Хлорка забивала ноздри. "Она сама меня в стихах клеймит... а я молчу... молчу как рыба... вот уже три года... нет, четыре... нет, уже пять лет... и всю жизнь так будет, так... и это ужас..." - шептала я, и никто меня не слышал. Ни мой сонный адвокат, ни судья, ни государственный обвинитель. Вдруг адвокат мой, странно схожий с голодным и хохлатым зимним снегирем, поднимался с места и тоже вставал в рост за судебной деревянной конторкой, и вздергивал подбородок, и подавал слабый голос, и все в зале утихали и напряженно прислушивались к скрипучим звукам, доносившимся из его птичьей глотки. "Вы все тут собрались умные люди! Мне не чета! А вот я вам скажу. Можно воспринять эту историю как распрю двух бабенок. А можно ее понять, как борьбу двух культур! Вернее, господа, культуры и бескультурья! Не смейтесь. Мы, в нашей стране, забыли, что такое подлинное благородство! А оно было не только у господ. У аристократии. Оно было и у простого народа. У рабочих! У крестьян! У людей от земли, от сохи! Внутреннее благородство, сила духа, сила рода, стойкость, гордость, невозможность сделать подлость... подлянку, простите за просторечие. Да, так было в нашей стране! Но рядом с благородством и чистотой, с героизмом и честью были, сновали... на рынках вопили... базарные тетки, торговки. Да! Еще как вопили! Если отомстить кому хотели - раздирали себе лицо ногтями и визжали: этот, вот этот подлец меня в кровь избил! Если в тюрьме сгноить кого желали - сами себя ножом протыкали и на ненавистного указывали: вот он, он меня убить норовил! Так, господа, переворачивался наш мир. Так наступало царство базарных теток! Хитрых и наглых! Мне кажется... - Птичий голосишко угас, потом опять заскрипел, захрипел. - Мне кажется, что перед нами именно такой случай! Гражданка Еремина не оскорбила гражданку Волкову. Она просто, господа, как могла, наконец-то защитилась от бесчестного нападения! Которое, прошу заметить, продолжается уже много лет!"
Ох, как тут Ветка взвилась! Она не дала адвокату договорить. Она стояла и дрожала от возбуждения, вцепившись пальчиками-коготками в деревянную плаху судебной трибуны, и орала что есть силы, с надсадом. "Вы врете! Вы все врете! Да, прошу прощения, это грубо, да, я знаю, но вы врете! Еремина написала на меня настоящий пасквиль! Вы его, надеюсь, уже изучили! Этот пасквиль - ложь! Там каждое слово - лживо! Там все-превсе - грязь! Мне что теперь, всю оставшуюся жизнь от этой грязи отмываться?! Ну уж нет! Досточтимые судьи! Прошу вашего пристального внимания! И справедливого приговора! Гражданку Еремину надо убить! - Она так и выкрикнула - "убить!". - Правильным, справедливым приговором! А не убьете ее вы - так... так... - Она гневно тискала кулаки. Задыхалась. - Так я ее сама убью! Убью!"
Мой птичий адвокат развел руками и сел на скамью. Он опять стал замерзшим зимним снегирем.
Я встала. Голова кружилась. Я крикнула беспомощно: "Это неправда!" С задних рядов кричали: "А вы тут сами запутались, чья неправда, чья правда! Кто-то из вас, бабы, точно лжет! Вы уж разберитесь!" Бабий голос выкрикнул визгливо, заполошно: "Эй вы! Кончайте балаган! Не мечите бисера перед свиньями! В Писании сказано!" Мужской голос возмущенно прогудел: "Это кто же тут свинья, а?!" Рокот перетек в ропот. Колоколец гремел. "Бабы - это тоже оскорбление, осторожней на поворотах!" Усатый человек вытирал пот с утонченных усиков. Мой адвокат молчал, смотрел в окно. Воробьи разлетелись. Голые ветки мотались на ветру.
"Она виновна!" - раздался крик. Кто это кричал? И кому? Мне? Ветке? "Вы добейтесь правды!" - кричали в ответ. "Какое там правда, тут все ложь! Ложь на лжи сидит и ложью погоняет!" - вопили будто с потолка, голос откуда-то сверху падал, с люстры. Вскочил светлый человек, нервно пригладил ладонями прилизанные русые виски. "Так ведь мы тут только этим и занимаемся! Тут ложь борется с правдой! Еще как борется!"
"А на чьей стороне правда-то?! - злорадно вопили вблизи, с первого ряда. - Ага! Сами запутались! Или вас так искусно запутали! А может, эти дамочки взялись да сговорились, такое вот судилище устроить, чтобы назавтра все паршивые газетенки нашего городишка о них пропечатали! И в Сети! И в журнальцах бульварных! И все сразу о них узнают! И стишки их будут недуром читать, книжонки их поганые как пирожки горячие будут расхватывать! Любопытно, ах, две бабешки схлестнулись! В космы друг дружке вцепились! А то, видите сами, интерес сейчас у народа к поэзии иссяк! Надо подогреть! Вот и подогревают! Выволочкой прилюдной этой! Судилищем этим позорным! А вы и повелись, господа судьи! Стыд! Сразу не раскусили, что к чему!"
Колокольчик звенел уже не переставая. Жирная рука усатого, с короткими толстыми пальцами, мелко и сердито тряслась, вызванивая бесполезный запрет, в хлорном, пропитанном криками воздухе.
"А судьи кто?!" - оглушительно, на весь зал, грянул одинокий голос, густой и плотный, как бас профундо в церкви.
"Правда все равно победит! Оля, мы с тобой!" Кто это крикнул? Высокий голос, юный. Голоса для меня звучали музыкой, то страшной, то спасительной. Я плыла на их звуки. Била руками по воздуху. Тонула. Я тоже что-то важное хотела сказать. Вынырнуть. Выкрикнуть. Правду. Неужели правду никто не услышит?
"Никто".
Кто это сказал? Рядом? Далеко? Внутри?
Это я - сама себе - сказала?
Усатый толстый человек в черном балахоне встал и протянул ко мне толстую руку с дрожащим колокольцем. Я глядела на перстень с крупным квадратным изумрудом на его пальце-сардельке. "Суд удаляется на совещание!"
Я хрипло крикнула, глядя в уходящие черные псиные спины судей: "Правда на моей стороне!"
Усатый обернулся и мазнул по мне усталыми маленькими, свинячьими глазками. Вытер пот со лба носовым платком. "Вы можете считать вашу правду истиной в последней инстанции. Мы так не считаем. Оскорбление чести и достоинства - пока что уголовное преступление в нашей стране, и наказуемо по закону".
Когда судьи вернулись в зал для оглашения приговора, зал гудел, как ветер в зимних трубах. Я различала отдельные слова в грозном гуле. Месть! Ревность! Бабьи подсидки! Шпильки! Каков удар!.. Ножом! Из-за угла! Злость! Не лечится... Ненависть! Месть... Отомстила!.. и радуется... Кто кому отомстил?! Жизнь, господа, это жизнь! Упадет в обморок... бледна как снег!.. белая... Бедная! А поделом! На чужой каравай рот не разевай! А кто разинул?! Друг у друга тащат и не краснеют! А что им краснеть! Время рынка! Время лжи!.. правда одна... Одна?! Ой, не смешите! Правд столько, сколько людей! А чья правда сейчас победит? А вы разве знаете? А вы? А вы?! А вы за кого болеете? За ту или за эту? Это не стадион, братцы!.. не спорт!.. Сейчас все рынок и спорт... кто кого обгонит! И подножку даст! А как думаете, раскаяние будет?.. Какое?.. все такое... Раскается та... или другая... в том, что сделала? Какое там покаяние! Как глядят! Полюбуйтесь! У них в глазах - Бога нет! Одна вражда! А кто из них первый начал? Да, господа, да, кто первый начал?!
Усатый взял в руки черную кожаную папку, раскрыл и стал читать. Я слышала, его голос осип. Архип осип, а Осип охрип, вспомнила я детское присловье и тихо, беззвучно рассмеялась. "Сошла с ума, бедняга", - скользнул ящеркой шепоток рядом со мной. "Ольга, что молчишь, припугни их! Подай встречный иск!" - кричали справа. "Поздно!" - кричали слева. "На работы принудительные поедешь, паскуда!" - кричали со скамей у огромного стрельчатого окна. Удары деревянного молотка рассыпались по гудящему залу. Опять истошно звенел колоколец. "Граждане! Тихо!"
Усатый читал мой приговор. Мой? Не может быть. Какая мне казнь? Работа, тюрьма или деньги? Я ничего не слышала. Уши залепило хлорным воском. Под черепом свистел ветер. Мне вдруг стало все равно. Стало бесповоротно все.
***
Муж продал картину, и я заплатила судебный штраф. Я не знала, на что и кому ушли эти плевые, хреновые расписные бумажки. Ветка, думаю, радовалась, что я была раздавлена и унижена. Праздновала победу; может, выпила с друзьями. За мое нездоровье. Знаменитыми мы с нею после суда не стали, хотя город немного посудачил об этом грязном процессе, немного громко поахал-поохал, немного посмеялся в кулачок, тихонько, злорадно. Картину, милости ради, купили наши старые друзья. С холста в мир смотрела я, молодая и нагая. Так мой приговор привели в исполнение, и так я, казненная, воскресла. Для чего? Для какой новой жизни? Я не знала. Жизнь была все та же - старая, необъяснимая.
Я наблюдала утекающую в ничто жизнь вокруг себя. Жить-то я жила, да часто охватывала меня странная оторопь, и я слышала странный, глухой и дальний голос, он доносился вроде с неба, из-за стены, из-под крыши, из подвала, а может, из-под земли; голос говорил со мной на непонятном языке, и я слушала его, до крови закусив губу, так Одиссей, привязанный к мачте, слушал ядовитых сирен. Голос Бога? Я знала: это голос Супротивника. Он лишь прикидывался Богом. Он заступал Его место и гудел, бормотал: громадный, величиной с целое небо, обман, чудовищная подделка, подлог на полмира.
Мертвец, а как живой.
Я то разбирала, то не разбирала его слова. Да это даже были и не слова. Гул и гуд, сто причуд, а все равно ведь все умрут. Бейся не бейся, страдай не страдай, выдумывай не выдумывай себе Рай.
Страшный голос, хорошо, что вы, друзья, не слышали его. Слышали? Говорите, слышали? И что? Испугались? Или нет? Говорят, он сейчас в горах живет, зверь этот. Высоко и далеко. И наблюдает нас. Нашу жизнь - наблюдает. А иногда протягивает руку, она мгновенно увеличивается до размеров войны, превращается в гигантскую когтистую лапу, обросшую серой шерстью, серая, черная лапа сгребает когтями с поверхности земли беспомощных нас, сцарапывает, подгребает себе под ребра, всех... людей, зверей, иную живность... стягивает в орущую, визжащую кучу, разевает пасть, оттуда вырывается огонь: огню тоже надо жрать. Он тоже хочет жить.
Да, так живет в горах Последний Зверь. Никто не видел его. Только слышал. Слышал его невнятный голос. Вот я слышала. Мне было страшно. Я дрожала. Я понимала: наступит меж Богом и Небогом последняя битва, и ляжет поверх людских голов последняя, вслух, молитва. Нежным, слезным шепотом. А может, молча.
Я - часто - молча - молилась.
...я молилась перед старой иконой.
Молилась простыми словами: Господи, помоги, отведи от меня чужую лютую злобу, научи эту безумную женщину добру, любви, милости, озари сиянием Своим, спаси ее, сохрани, вразуми! Сними с волка, Господи, шкуру! Верни ему обличье человека - навсегда, на все оставшиеся земные дни! И больше волком его не делай! Злым волколаком! Мстительным вурдалаком! Спаси дочь свою заблудшую, в мести и ненависти живущую, заново ее Своей великой любви - научи! Бедную Ветку, захлебную поэтку, то ли ума, то ли сердца лишенную...
Любовь, любовь моя, ответь мне, не покинь мя, пойми мя, обними мя, шепни мне на ушко: я здесь! Не плачь! Да где же ты?
Любовь моя, куда ты канула, где голову сложила... о, только ненависть одна...
Я брала икону в руки и целовала ее, заливаясь слезами. Адам и Ева плакали мне в ответ, глядя на меня, далекую, стоя, обнявшись, в дальнем Райском Саду. Скоро их из вечности изгонят в смерть. Я вставала перед иконой на колени. Подсудимая Бога. Осужденная на последнюю веру, пожизненно. Через коричневую толщу, наслоения времен тускло светилось золото несбывшегося. Просвечивала легкая, нежная улыбка нарисованного бедным человеком Бога - надо мной, надо всеми, кто из тьмы пришел сюда и в свой черед уйдет отсюда.
***
Зачем я одна, без мужа, пошла на эту встречу Нового, не помню какого года? Дорогие мои, мы тогда еще встречали Новый год. А вы помните елку? Я помню елку так хорошо! Во всех подробностях! Много елок. Не одну. Разве елку можно упомнить? Ею можно только любоваться, вдыхать ее хвойный нежный запах, понимать: она живая, и игрушки и сокровища на ней - живые.
А люди? Они - живые? Тогда еще были живые. Зачем я пошла туда, к людям? Меня пригласили. Я не могла отказать. Я была хорошо воспитана. Пришла. Люди стояли вокруг столов. Столы поставлены каре. Накрыты белыми скатертями. Люди тянут к столам руки, хватают с тарелок еду, жуют и пьют. Открывают бутылки. Пахнет коньяком, пузырится в бокалах желтое шампанское, виноградная моча, детский яблочный сидр. Волосы вздымались и складывались в прически. Зубы скалились: живые улыбались и хохотали. На глотках вздувались яблочные шары кадыков. Бросали, шутя, серпантин, он вился цветными лентами. Конфетти густо усыпали казенный паркет. Люди чмокали друг дружку, летели воздушные поцелуи, брякали в воздухе связки ключей: куда-то спешили, отмыкали чужие двери. Звенело пианино, рассохшееся, как в пустыне, клавиши западали, музыка заикалась. Лица превращались в хмельные рожи, кривились, отражали друг друга живые кривые зеркала. Смешные, а через миг страшные. Я не боялась. Стояла близ накрытого стола, и мне становилось все хуже. Я не ела, не пила. Водила глазами по лицам. Ни одного знакомого. Всё рыла и хари; кто хрюкает, кто хихикает, кто меленько трясет над тарелками с золотою каймой ожирелыми подбородками. Всё морды! Нет, кричала я себе молча, это всё лица, лица, лица! И еще вчера они были моими друзьями! Мир менялся так бредово и хищно, что друзья быстро обращались во врагов, а потом, смотря какая погода стояла на дворе, опять в друзей; снег отливал радужной шкурой хамелеона, и в радужной бутылке плескался цветной сумасшедший, поддельный подлый коньяк. И елка, Боже мой, какая же елка была цветная! Павлинья, цыганская, с кистями, тяжелыми золотыми серьгами величиною с машинную шину, пьяная, кашемировая, расшитая вдоль хвои изумрудами, а поперек ветвей - вьюжной серебряной нитью! По ней взад-вперед летали стрекозы, их сетчатые золоченые крылья сухо шуршали. Жемчужные ожерелья обвивали всю ее колючую старую стать. Я была еще молодая, а ель была старуха, и мне было жаль ее, и радовалась я себе, себя уговаривая: мне еще долго на свете жить, долго. Люди, стоящие вокруг стола, разевали широкие рты, и хищные зубы быстро, на глазах росли изо ртов вниз, и клыки касались нагих плеч и белых крахмальных воротников, белой, уже заляпанной винными пятнами и майонезом метельной скатерти. С мужских тоскливых лысин свисали бабьи седые косички и медленными змеями вились меж лопаток, вздрагивающих под мятыми пиджаками. Опять застолье, и опять я все это вижу. Как люди вливают себе в глотки безумье. Как чавкают и втягивают слюни, наслаждаясь вкусной едой, последнею в жизни. Ну да, а почему нет! Может, это пиршество и впрямь последнее на земле! Я ощущала запах горелого времени. Я, как все, улыбалась и делала счастливый беспечный вид, что нет, никогда не будет никакой войны, все это выдумка и бредятина, во все это упоенно играют злые владыки, а мы - что мы, кто мы, мы добрые художники, поэты, музыканты, у нас свое карнавальное братство, нам меньше всех надо; нас накормили-напоили, мы и рады. Праздник! Пылкий! Раз в году! "С Новым годом!" - орали друг другу юнцы и старики, а может, крокодилы и бегемоты. На миг мне показалось: я стою среди мертвецов. Среди скелетов. Скелеты льют себе меж зубов паленую водку, скалятся, тянут кости рук к тающему, как лед на солнце, столу, перебирают костями ног, чтобы потанцевать. А елка стоит гордо. Ждет. Чего? Иного времени? Да ее, лишь закончится пир скелетов, выкинут на свалку, воткнут в усыпанный угольным черным конфетти, могильный сугроб.
Издалека, как во сне, я увидела взбитый рыжий кок. Даму с рыжим начесом, в сильно открытом, черном с блестками платье подняли высоко над жрущей публикой. Она сначала стояла на стуле, потом ее подсадили, и ногой в узкой лаковой туфле она храбро ступила на стол. Угнездилась ногами на столе, среди рюмок и вилок. Стояла, чуть качалась. Ее услужливо поддерживали под локти. Я видела: ее плечи дерзко обнажены, вниз, от ключиц к грудям, опасно ползет декольте, а морщинистую шею туго обнимает дешевое яркое колье из крупных поддельных изумрудов. Красные крашеные волосы пламенем вздымались надо лбом. Лживые лягушачьи изумруды радужно, конфетно сверкали под лучами казенных светильников. "Изумрудные мои! - закричала, стоя на столе, рыжая дама. - Золотые мои, серебряные! Лапочки мои, расчудесненькие! Как же я вас всех люблю! - Она выше вскинула рыжую голову. Далеко, за границей зренья, увидала за столом молчаливую меня. - А! вот и она! самая чудесная в мире! Я-то и люблю ее горячее всех, сильнее всех! Я только ей, люди, свои нежненькие поцелуйчики шлю! Все шлю и шлю! Все нежнее и нежней! Год от года все нежней и упоенней! А она, люди, она - молчит! Надменная! Ледяная! Вот как сейчас! Вы же видите, я к ней - всей душой! А она меня - ненавидящим взглядом меряет! Сверху донизу! Ах! Олечка! Драгоценненькая! Любименькая! Я ж тебя, душечка, все равно люблю! Сколько бы ты мне зла, голубонька, ни сделала! Как бы ты в меня, золотенькая моя, зубками своими ни вцеплялась! Эй! - Она обернулась и щелкнула пальцами, чуть не упала, ее подобострастно подхватили на лету, и она уже держала в руке огромный, как земля, бокал, и в него уже наливали красного вина. - Желаю выпить! Я поднимаю этот бокал..."
Все за безумным зверьим столом смотрели на меня. Кто набычившись, кто косясь, кто подмигивая, кто глазами рыбьими, круглыми и глупыми, всклень налитыми дармовою водкой, кто печально и презрительно, кто радостно, кто злобно. Всяко люди глядели. И я должна быть для них всякой. А я была лишь одной. Лишь самою собой. Люди, знаете, не выносят, когда вы носите на себе свое лицо. Они предпочли бы, чтобы вы им в лицо - льстили. Лесть груба? Зато сладка. А сладким, да, можно обожраться. Но ведь мы сладкое так редко едим! Только в праздники!
"...этот бокал!.. с изумительным алым вином!.. алым как кровь!.. как наша кровь!.. а наша кровь, алмазные мои, она и есть любовь!.. за наше наконец-то великое и последнее примирение с Олечкой Ереминой! За то, чтобы это чудо и правда случилось! - Она поднесла красный бокал ко рту. Отпила. Все вокруг загомонили, закричали; кто-то пустился вокруг стола в пляс, вприсядку. Упал, его оттаскивали в угол, клали на составленные рядком стулья. Дама выше, еще выше подняла бокал. Она держала его над рыжей головой, и вино плескалось в бокале и выливалось ей на голову, и сверкали в красных кудрях цветными ягодами мусорные конфетти. - За тебя, Леличка ты моя сапфировая! За чудо нашей дружбы и любви! Я ведь - я одна! Среди всех! По правде! Люблю тебя! С Новым годом, золотенькая моя! С новым счастьем!"
Кто-то подскочил к пианино, застучал по клавишам пьяными пальцами. Люди вокруг стола шумели, хохотали, подцепляли на вилки колбасу и ветчину, пили, ругались, целовались, и все, да, все показывали на меня пальцами. Что, мол, ты стоишь как столб? Что не скажешь ничего своей закадычной подруге?! А ведь вот она, твоя-то подружка, такая душевная, щедрая, такая сердечная! Широкое, ясное сердце у нее! А ты что встала, глазами луп да луп?! И ни словца не сбрякнешь! Холодный ты айсберг в океане! Гордыней одержима! И правда что мертвая кость! Ну же, выдави из себя, Еремина, хоть слово!
Я глядела на рыжую даму, пьяно, победно стоящую на столе. Узконосые туфли, высокий каблук. Глаза мои расширились и поплыли впереди лица. Я не могла отвести от женщины с крашеными волосами всей своей широкой, привольной жизни. Глядела на нее жизнью всей. Люди кричали и звенели бокалами. Жевали мясо и рыбу. Плевали в кулак виноградные косточки. Поднимали виноградные кисти над головами и ощипывали ягоды с веток жадными веселыми ртами, как козы в деревне - зелень за чужим забором. "Поцелуйчик, пошли ей поцелуйчик!" - кричали даме. Еще кричали: "Прощенья у Ереминой попроси! Ты же ее в стихах называла дурой! змеюкой! старухой!" Дама закидывала красную голову за голые плечи и громко хохотала, и смех ее огнем бежал вдоль по столу, по метельной, заляпанной осколками бокалов и виноградной кровью дороге. "Ах! Да что вы говорите! О! Это же все не ей! Нет, это все не Леличке! Она ж у нас золотая, жемчужная! Старуха, это же всем известная мелкая речонка такая, тут в нашу большую великую реку впадает, речка Старуха! Ну вы разве не знаете! Я ж мимо этой речки Старухи каждый день проезжаю! А змея, так это ж опять не ей! Мало ли, люди, на свете баб, как змей! Вот это я им! Им! Змеюкам! Гюрзам! Анакондам! Гадюкам! А совсем не Олечке! Ах! Олечка! Так, значит, ты меня читаешь?!"
Радость и торжество вспыхнули злым румянцем на ярком, густо намазанном бабьими заморскими красками, воском оплывающем лице. Рыжая дама, раскинув руки, победно сияя счастливым и сытым лицом, пошла ко мне, далекой, по столу. Мимо тарелок, рюмок, мимо фруктовниц с золотом апельсинов и блюд с нефритами и аметистами заморских виноградин. Я стояла молча, золотая, серебряная, нищая. Дама ступала меж чашек и бокалов осторожно, хмельная, упрямо шагала вперед, ставила узкую туфлю так, сяк. Не рассчитала шаг. Покачнулась. Нога толкнула бокал. Посуда упала на паркет, разбилась с диким звоном. А может, с тихим. Не помню. Дама стала падать, и ее не успели подхватить. Она упала боком на стол, поперек белой дороги праздничных яств, давя грудастым телом хрусталь и фарфор, приминая голыми плечами пирожные и мандарины, и черная, с пошлым люрексом, маскарадная ткань поползла вверх, обнажая копченое, вкусное, нежное бедро, утянутое в баранью кишку иноземных колгот.
***
...эта, из бывших, княгиня. Бывшее в переделках, штопаное пальто. Я ее растоптала! Змеюку! Врагиню! Она теперь ничто, никто. На куски на сосновой доске порезанное старое сало. Она плывет на "Титанике", говорите?! Да мой, мой корабль "Титаник"! Я готова на нем погибнуть, утонуть в океане, как щепка в корыте, лишь бы грызть на палубе сладкий бессмертия пряник! Говорите, идет она гордо, бывшая, ход ее по земле - золотая поземка во мраке?! Это мой ход! Это я, не она - народ! Это за мной бегут в истерике шавки, шакалы, бешеные собаки! Это она, лепечете, о войне и мире так спела - волосы дыбом?! Это я развязала войну без края-предела! А потом до упаду плясала у мира каменной глыбы! А она, княгиня бывшая, забвеньем заплывшая, по улицам города моего ковыляет, шкандыбает, хромает - бывшая пташка певчая, бывшая кисея белопенная, а нынче свеча бессвечная, слепая, глухая, немая! Да! Онемела она! А нынче только я ору! Кричу! Блажу! Воплю на весь белый свет! Мой "Титаник" кренится! Платье мое - красный флаг на ветру! Корабль мой, тони! Мои бессмертны огни! Мне конца-краю нет! Я сама себе весь и столица! Я сама себе торжество! Праздник! Кулич! Кагор! Звездная Пасха! Я сама себе воля! Простор! Костер! Распятье и Рождество! Кровавая правда! Золоченая сказка! Я для народа моего - и волчий вой, и колыбельная песня! Я никогда не буду мертвой! Только живой! А умру - сама себе крикну: воскресни! Я для народа моего - Святые Дары, дух вина дотемна, витая золоченая лжица! Я всего лишь вашей кусок просфоры! Причащайтесь! Вам это счастье не снится! Все наяву! Я - ваше причастье, люди! Меня вы, крестяся, радостно ешьте и пейте! А эта, из бывших, пусть несет себя на старом, в морщинах, блюде, пусть, дрожа, горло кутает в истертые ветхие песни! Издырявлены ее кружева! Измолвлена о ней вся молва! Исстонали уже над ней все поминанья и все проклятья! И летят, летят с бывших губ бывшие, высохшие слова, когда она мимо меня, спотыкаясь, бредет в безвозвратье!
...да, люди, вы догадались, я именно так живу! Выхожу на ночную охоту. Мимо избенок ночных иду-плыву, мимо серых тоскливых заплотов. Я вышел из лесу, я дикий зверь, дрожу, искрю всей шерстью, костями, во мне огнем кровь играет! Снег тает под когтями, под будущими смертями, на тропах колючего зимнего Рая. Я играю с живыми. С мертвецами играю. Скалю зубы из мглы. Зверю зверьим Богом разрешено это - свист пули, визжанье пилы, блеск топора и стилета. Вервием перевяжут лапы... завоют собаки... если охотиться буду плохо и глупо... Звезды ползут в зените, алмазные раки! Облизну черные адские губы. Красный язык. Глаза желты. Горят, смоляные топазы. Я волк, охотник, а ты, людской тягомотник, не выстрелишь в меня ни разу - ни в грудь, ни в ребра, ни в лоб низкий, серый, не подобьешь на скаку и в стойке: не успеешь Бога позвать, прохрипеть: в бога-душу-мать, горит и гудит твоя вера в звериной, хвойной попойке! Глотку перегрызаю - жизни чужие грызу. Высасываю из чужих костей жар и сладость. Над плачем чужим пущу зверью слезу. Из горя чужого сделаю сахарно-снежную радость. Из тюрьмы чужих вздохов выпущу волю хищную, ледяную - во имя Световида и Чернобога, во имя проруби, где утону я! Человек прежде был зверем! И я не предам в себе злое, звонкое, зверье! Человек уйдет с земли, и захлопнутся двери, а обо мне новые лютые звери новое сложат поверье! И будут выть на весь лес: это Волк, это Волк желтоглазый и среброликий похищал, себе на царствие, кровь-красный-шелк, россыпи кровавой брусники и земляники, - похищал всю полоумную жизнь, что так горячо, так страшно отстреливалась вслепую... хватал зубами все людское, что плохо лежит, от топора до палача, от предательства до поцелуя! Это вера моя - похитить, загрызть! Это воля моя - охота! Мне в жизни моей не корысть! Я - Волк безумного, по снегу и веку, полета! Я только так жил и живу! И дальше только так буду жить, от вашей крови пьянея! Во сне! На опушке! В тайге! Наяву! А смерть придет - повенчаюсь с нею! Налягу на смерть всем телом мохнатым! Острым ребром! Я хищник, и все ваше - мое, не успеете пикнуть! Цельтесь! Ловите на мушку! Поигрывайте в голицах, на морозе седых, седым топором! Мой прыжок! Бросок! Не успеете к раненой мною глотке привыкнуть. И, пока на снегу лежите, раскинув руки, глядя отверженно в небеса, прощаясь с дымом-душой, а кровь все льется на снег, белизну покрывая красным парчовым крапом, - я, Волк, еще не человек, уже не человек, на жалких чужих полчаса устало прилягу рядом с жизнью чужой, положив на нее свою тяжелую нежную лапу.
...да, Волк я, дремучий Волк! О жизни моей кривотолк! А я так люблю людей! Зверь, приди и людьми владей! Зверь, я человечней всех! Узнайте мой плач и смех! Узнайте мой долгий вой - им выдам себя с головой! Я так же, как вы, дышу! Сильнее, чем вы, люблю! Я вою, как на духу, над пропастью, на краю! Я вою в родильной мгле! Я вою в посмертной тьме! Я вою по всей земле - по всей звенящей зиме! Летит мой огненный вой в морозный грозный шатер! И воет мой мир живой! И вторит мне звездный хор! А эта?! Вражина моя?! Кровавое бытие?! Завою победно я над мертвою песней ее!
***
Я уже ничего не писала в ответ на эти бесконечные крики Виолетты. Я устала отвечать. Устала так жить. Устала молчать. Люди, мне, честно, хотелось тихо закрыть глаза и уснуть. Умереть. Просто - умереть. Ведь умереть, это так просто.
***
...и я собрала однажды - все эти буквицы, крики, визги, колдовские шепоты и парадные словеса - в один огромный, чудовищный туес - в одну страшную, из жил и костей плетенную корзину - а проще сказать, в старую, потрепанную сумку для картошки - все ее оскорбительные стихи - все ее яростные нелепые вопли - ее, Ветки, кружевной виньетки, с ядовитой начинкой конфетки, с лягушачьей икрою отравной тарталетки - и послала ей. Обратно. По ее адресу. Заказной бандеролью. Второй раз на меня в суд уже не подаст! На потеху всему городу! И киллера, уязвленная, не наймет: убийство раскроют, встанет себе дороже. Ведь это же ее слова! Ее собственные дикие вирши. Я сознавала: какой нелепый, бесполезный поступок! Я понимала: да, она может, любопытствуя, вскрыть непонятную бандероль, кинуть взгляд на свои бессмертные стихи, а потом, криво усмехаясь, кинуть в камин эту бесполезную пачку бумаги. Наотмашь. Заливисто хохоча. Глядя на пламя из-за плеча. Злорадствуя: а, проняло! Прислала! Мне - мое! А, все-таки читает, Лелька, дрянь! Лелька, блудь подзаборная! Читает мои стихи, волчий мой вой! Плачь, Лелька, плачь слезою живой! Ага, я для тебя, видать, острый нож! Рыдай! Пока ты плачешь - значит, еще живешь!
...да, все, все ее стихи, которыми она когтила меня.
...я тебя забываю ты змея ядовитая ты земля выжженная ты лохань разбитая
...ты топчешь меня а я виноград и вино мое будет слаще во сто крат дрянного кислого твоего будет мое великое торжество
...ты меня оболгала это значит - убила ты уничтожила меня на тебе моя кровь расцвела на тебе сплелись мои алые золотые жилы ты кричала: ты Волк! а я просто Небесный Шелк я такая нежная нежнее змеиной шкуры ты меня оболгала до вопля в веках и держу его алым цветком в зубах и смеюсь в лицо тебе ты иссохшая мертвая дура
...ты распяла меня и стреляешь в меня гадкий снайпер остроклювый и острозубый шепчешь в прицел: Бог с нами врешь Бог не с тобой он со мной и отчаянно и сурово и жестоко и огненно ракетой ночной в тебя летит мое слово
...я тебя сначала убью а потом тебя на глазах у всех поцелую исцелую все руки тебе насквозь навечно напропалую исцелую и засмеюсь: гляди как горят мои глаза как пылают губы как сверкают зубы как в небесах поют мои золотые трубы
...замолкни дуреха не сетуй не жалуйся и не плачь от сотворения света я - твой красный палач от сотворения боли я - по следам твоим - зверь беги и не оборачивайся не хныкай не льсти не верь я все равно тебя настигну повалю на снег загрызу в чащобе или на стогнах пускай не пускай слезу охриплой обвиты стужей старые кости твои волосы вымокли в луже и мне не нужна на ужин кровь гиблой твоей любви
...я яркая я хрустальная я жемчужная-шею-обвивальная ты серая ты плоская ты - паутиной меж ветхими досками я ясная я яростная ты ползешь под пятой подлой ящерицей я радужная я звездная ты каторжная ты бесслезная я птицей лечу над Отчизною ты сухая корка собакой изгрызенная
...ты сеешь каменные зерна и они каменно прорастают ты железная мертвая ты Смерть Святая не я тебя а ты меня предала не я тебя а ты загрызла меня там на снегу где дрожит на ветру ветла где над затылком крутятся звезды Полярный Свет храня я кричу тебе: тебя люблю! хоть я тебя ненавижу я кричу тебе в угарном хмелю: ближе ближе ближе ближе я на грудь твою голову опущу как на плаху а потом тебе в глотку зубы вонжу и все и нету последнего страха
...дура и блудь сучка и плуть слышу твой лай вижу твой путь рвется мой крик: сдохни! умри! Гаснут следы возле двери на голом горьком грязном снегу тебе желаю того что не желала врагу: только любви не надо ха-ха смеется лишь тот кто без греха
...ты вопила: воровка! воровка! стащила хитро и ловко! А я тебе - грудь нараспашку! на! рви кружевную рубашку я просто Венера нагая не мразь и не шваль а другая сегодня я не безрука дрожи я войду без стука я скину хищную шкуру дрожи я любовь твоя дура не вазу не одеяло я нынче любовь украла - тебе старуха-чернавка тебе слепая козявка
...выходи я тебя вызываю выходи на сраженье со мной я тебя словно гвоздь забиваю в русский крест мой немой ледяной что ж ты шлюшно так тварь ты ползучая что ж ты шелестом втихаря ты гюрза твои кольца падучие ты поземкою января что ж ты прячешься там под камнями что узорчатой спинкой блестишь ты змея выползай между нами только мести последняя тишь выходи я тебя вызываю секундантами - Ад и Рай умирай я тебя забываю ты беспамятно погибай
...ты хаос и распад ты мой змеиный яд калечный звукоряд изорванный наряд
...то не я тебя обокрала на виду средь шумного бала с черепашьей шеи - кораллы ты себя - у меня украла а тебе меня было мало ты колени мои обвивала ты следы мои целовала дай твое я выдеру жало ты гюрза с ядовитой мордой ты змея посреди пустыни извивается хитрая хорда меж барханной бесплодной стыни трон взорви средь тронного зала перекуй мечи на орала на концерте моем на гала я тебя вдрызг переорала переплюнь меня что не можешь что слабо тает хмель твой гадкий заклейми ты ногтями кожу расцарапай рожу украдкой прокричу я всем: ты - воровка проору я всем: потаскуха ты дешевка возле столовки сгнившей снедью набито брюхо а я радуга я птица-тройка я царица мне мира мало кто ты битая рюмка в попойке ты себя - у себя украла
...она кнутом стегала меня она веревкой вязала меня и возле бредущего в дыму огня она в упор расстреливала меня а я стояла у людей на виду а я стояла рвалась как нить такое счастье - лишь раз в году: на голом юру расстрелянной быть
...да я мщу тебе страшно мщу всей любовью убитой влет я держу в руке сердца пращу ах никто никогда не умрет ах да чьи же это стихи ах твои а может мои ты ответишь за все грехи мощью дикой моей любви
...ты Мертвое море гнилая вода Титаника трюм ты и путь в никуда скелет ты костями гремящий в гробу ты смерть закуси костяную губу ты смерть-деревяшка утрачена прыть из этих костей даже суп не сварить те кости не поцеловать никому твой череп зубами вцепился во тьму ты смерть не глядеть на тебя всё отбой ты только в могиле пребудешь собой
...ты дрянь ты грязь ты шваль ты мразь ты блудь ты так пьяна не вяжешь лыка ты дойдешь до дома ночью как-нибудь шатаясь спотыкаясь о кресты вминая в грязь от Гуччи сапоги плащ от Версаче тротуар метет ты мусор пыль и не видать ни зги сестра моя неужто мы враги любовь моя ты вмерзла в адский лед река моя я из тебя пила земля моя брела я по тебе ты гадость голь и гиль гори дотла тебя со днища ржавого котла скребла глотала солью на губе
...водяные часы и песочные твое время шлюха неточное врач шепнет средь мензурок-иголок: шлюхин век продажный недолог проститутка ты шлюха только у тебя нынче имя - Лелька приговоры твои бессрочные смоляные часы полночные
...ты мое отвращение я твое неприятие ты мое преступление я твое проклятие ты мое песнопение я твое выживание ты мое исступление я твое умирание
...я тебя простила а ты меня нет ну и наплевать семь бед - один ответ смахну тебя с полки шкатулкой разобью осколками - жизнь - у солнца на краю
...люди! все просто! волком под звездами завываю: ты - мертвая а я - живая
...и я пошла на почту, и протянула бумаги в стеклянное окно, и женщина, что сидела за холодным стеклом, странно и протяжно посмотрела на меня. Она, знаете, так вглядывалась в меня, что я даже испугалась. Потом взяла у меня из рук стихи Ветки и тщательно, время от времени остро взглядывая на меня, упаковала их в большой серый конверт, заклеила его и быстро, ловко наляпала на конверт россыпь марок. Я, трудно водя бледной казенной ручкой по грубой серой бумаге, написала на конверте адрес. "Быстро дойдет?" - глупо спросила я. "Быстро, - кивнула почтовая работница, - вы же с адресатом живете в одном городе". Она опять посмотрела на меня так, будто все знала про нас с Веткой. Тускло горел в вышине, на потолке, над нами плафон. Он освещал два наших лица. Женское и женское. Я в ужасе провела ладонь по лицу сверху вниз. Ото лба к подбородку. Я боялась ощутить под рукой зверью шкуру.
Гладкое лицо. Человечье. Я расплатилась, обернулась и побежала к выходу из почтамта. Выбежала из стеклянных дверей. Хватала воздух ртом.
А потом долго, задыхаясь, бежала по длинным, бесконечным улицам моего города - к реке.
***
Река моя широкая. Холодная. Родина. Родная. Земля внизу, и вода внизу, и я - над ней. Сколько раз мне, ну, значит, Ольге хотелось, на обрыве стоя, раскинуть руки - и взмыть с земли, и полететь над любимым, вечным простором, подставляя солнцу лицо! И снегу. И ветру. И звездам. Они все тоже были - родина. Ольга опять стояла на крутояре над родным городом и родной рекой, и все крыши, купола, стальной, парадный блеск воды, тучи, набрякшие снегом, зальделые ветки, их ксилофонный небесный звон, хохлатые птицы-синицы и серо-синие, зобатые голуби, перья их переливались радужно, нефтяно, все это входило иглою под кожу и достигало сердца, и сердце от боли вскрикивало, а потом пело от любви. Любовь и боль! Ольга вся и была - любовь и боль.
Не бросайте святыни псам, шепотом все повторяла и повторяла она, не бросайте святыни псам... а дальше, как там... не мечите бисера перед свиньями... бисера?.. Где столько бисера набрать?.. Река внизу горит, пылает рассыпанным бисером... Но она, Ольга, не свинья... А кто она?..
Господи, кто же я? Любовь? Это я - любовь? Где же я? Где же любовь?
Стояла на обрыве. Это был обрыв ее жизни. Почему? Она не знала. Знать поэт и не должен. Он может только чувствовать. И любить. И плакать. И глядеть в широкое небо, голову задрав. Что станет с любимой родиной? Что с любимой землей станет завтра? Она закрывала глаза и видела войну. Война все равно будет, шептала она себе, все равно, мы от нее не отвертимся, а над ней летали вороны, надрывно кричали, хрипели, горел на солнце начищенный к нынешней Пасхе купол церкви Рождества Богородицы, блестела под холодным солнцем тусклая, серая жесть реки, внезапно вспыхивая неистовой лазурью, и вставало перед Ольгой видение грядущей войны: квадратные железные, в заклепках, машины, тонкие горла жадных пушек, железные птицы летят над рекой, низко, страшно раскидывая недвижные крылья, за стеклами и железом - лица летчиков, они тоже недвижны и ледяны, им приказали расстрелять эту землю, и они приказ исполнят. Смерть! Это война. Она так рядом. Ольга так близко видела ее, что щеками чуяла ее горячее стальное дыхание, запах машинного масла, ее железных слез. Обрыв, и первый снег, и тучи вдали, за ширью реки, сгущаются, громоздятся, встают горой под волчьим ветром! Снег тает. Грязь болотно, слюдяно мерцает под ногами. Ольга глядит вдаль, сощурясь, из глаз на ветру катятся слезы; она их не просила катиться. Они сами. Сама справься со своей бедой! Родина, земля моя бедная, богатая, роскошная, страдальная, возлюбленная, ледяная, огненная, живи, только живи! Не умирай! Господи, спаси землю мою! Пашни мои! Реки мои! Мои плесы и отмели, мои излуки и заводи! Отраженья моих кудрявых, овечьих гор в изумрудной тихой воде! Золото моих берез! Алмазы моих сугробов! Плач моей старухи о расстрелянном сыне возле воскресшей из мертвых церковки Ильи Пророка! Боже, Боженька мой, но ведь ненависть - это не только беда, что загрызла на свете одну меня! Война, она же от ненависти! Она - от ужаса жить! От страшной боязни неминуемой смерти, от черного страха перед ней! Вот ты есть, и вот тебя нет. Как и не было никогда. А что там, после смерти? После того, как закроются твои глаза, полные последних слез? Ничего. Ничего?!
...там будут скелеты вместо домов. Разбомбленные стены. Сгоревшие до пепла крыши и срубы. Оплавленные тротуары. Застывшие мрачными углями, прежде такие золотые, белые, как чайки в полете, светлые храмы. И черная, цвета погребального крепа, в седине отравного инея, земля: трава сгорела, деревья сгорели, вся жизнь, укрывавшая любимую землю вкусной, пахучей, нарядной, слюнки текут и глаза от радости пляшут, скатертью-самобранкой, да, вся любимая жизнь выгорела. Осталась пустота. Ей имя война. Вот что такое война. Она будет страшной. Последней.
...нет... не последней... война будет еще... и еще...
...она такая живучая, ненависть, месть...
...и женщина будет сидеть, на земле, в обгорелом грязном рубище, спину согнув, молодая, а как старуха, лицо в коленях, руки бессильно повисли, волосы по плечам седой водою текут, молчит, одинокая. Одна. Покинутая.
...О, не положи на нас, Господи, Своего гнева... о, не лиши нас Духа Своего звезднаго сева... Мы, люди, отчаянным гласом в метели глаголем: о, да будет на все, на все Твоя святая воля... О, по заповедям Твоим нам жити остави... в беззвездном людском окияне... в занебесной славе...
...ты же веруешь, Лелька, ты же веруешь в Бога, там же будет Он, Он... Он простит и обнимет, поймет и благословит... ты не должна так думать... не бойся...
...я и не боюсь, Господи. Я уже ничего не боюсь.
***
И вот… однажды, дорогие люди… однажды я осталась одна. Ну, в доме, то есть, в квартире нашей городской, совсем, совсем одна. Муж уехал на выставку в столицу, повез туда свои картины. Дети, они жили теперь в других городах, очень далеко от нас, я скучала по них, правда, они часто звонили, но разве далекий голос в жесткой трубке заменит живое объятие? Одна. Совсем одна. Вы когда-нибудь, милые, оставались совсем одни? Что я спрашиваю… конечно, конечно, оставались, каждый человек хоть раз в жизни да оставался один… Ну, и вот я села за стол и стала думать думу. Мысли всякие текут. Их не остановишь. Я и не останавливала. Пусть бегут куда хотят.
Они и разбежались: в разные стороны. Разбрелись… заблудились…
И я заблудилась вместе с ними.
Ах... еще подливаете?.. совсем немного?.. да, чуть-чуть... Один глоток... один плеск... красный прибой... у самых губ... бокал... Разбить на счастье... раньше, знаете, разбивали... выпьют - и бросят через плечо... и осколки хрустальные брызнут... как жизнь... ваше драгоценное здоровье, люди, люди... бедные друзья мои... на один только вечер... на один...
Сначала я думала о моих детях. Как все матери, я думала: они живут неправильно. Не так работают, не так зарабатывают. Не так любят родину. И власть ее. А разве власть надо любить? В те времена я думала: да, надо! Иначе родина развалится на части, порвется по швам, если у нее не будет крепкой власти. А дети сопротивлялись власти. Им казалось: всякая власть, и наша тоже, это зло. Что же тогда не зло, мысленно спрашивала я их? Что же такое добро? Добро - что это: ласка, мягкость, нежность, сюсюканье, объятия, улыбки, - или это нечто суровое, жесткое даже, острое и стальное, отталкивает, если к нему приблизишься? Нож хирурга - он добрый или злой? А Иуда? Он добрый? Или какой? Поцеловал, предал, пошел и удавился. Но ведь должен же кто-то был известить Господа о казни Его! И солдат, чтобы увидели Его и схватили Его! Ведь Сам-то Он знал все прекрасно о Своем Распятии!
Я отогнала от себя мысли, что клевали меня, как птицы, и, дай им волю, заклевали бы. Мы все в жизни бываем Иуды! И все - Христы! И, может, права злая как черт, хитрая Ветка! И нужно, нужно всегда иметь перед собою зеркало, и обыкновенное, и кривое, всякое, любое! Чтобы заглянуть в него - и сразу увидеть свое отраженье. Не всегда нам его показывает Господь. Он - щадит нас. Ибо слабые мы. Мы, в зеркало вечное заглянув, можем не вынести страшного вида своей бездонной души. У многих там - тьма безвидная и пустая. И люди заталкивают тьму эту глубоко внутрь себя, чтобы жить спокойно, чтобы улыбаться другим: я обычный, я светлый и добрый, я такой же, как вы!
Где в человеке кроется тьма? Зачем она?
Может, и тьма человеку нужна?
Зачем-то нужна, для чего-то важного, непонятного?
Для того ли, чтобы мы могли отличить тьму от света?
Почему человек так зол? Почему жесток? Почему бьет другого, убивает?
Неужели ему доставляет удовольствие убивать?
Почему Ветка терзает меня? Ей хорошо от этого? Ну да, наверное, хорошо, если она, скаля зубы, бежит и бежит за мной. Значит, она делает себе хорошо? Себя ублажает?
Ну да, верно; ей важно, чтобы ей было хорошо, а ты чтобы была стерта в порошок.
В какой порошок?.. зачем в порошок… опять в порошок... я не хочу в порошок…
Почему один издевается над другим? Оскорбляет другого? Да что там обижает: почему он ему, другому, нож в бок сует? Неужели убийство - это высшее наслаждение? Но нас же еще в школе учили: так делают только больные, маньяки. Я однажды в детстве видела маньяка. Он вечерами ходил по нашей улице, поднимался на цыпочки и заглядывал в окна первых этажей. В руке он держал что-то длинное, острое. Я думала, это нож, кухонный тесак, а когда он подошел ближе, я рассмотрела: это была вяленая рыба чехонь, пьяницы любили ею закусывать водку, что распивали во дворе на лавочке. Или пиво. Я запомнила мертвый, белый рыбий глаз. Такого стрекача дала домой! Вбегаю, а мать мне: с собаками, что ли, за тобой гнались?
И, слушайте, чем же можно излечить жестокость? Злобу? Ну, чем, чем? Скажите, да, вот вы мне скажите, сейчас, прямо тут, есть ли от зла лекарство? Сколько тысяч лет людскому миру, а никто никогда еще не вылечил злобу. Прилипучая это болезнь. Тот, кто болен злобой, жалко его. Не избавится он от нее. Это как родимое пятно. Он бы, больной-то, и рад стряхнуть его с себя. Да не стряхивается. Вросло навек. Намертво.
Добром? Ха, ха. Пробовали. И не раз. И всякие. И никому не удалось. Хотя кричали о добре вовсю, на весь свет восхваляли его, в грудь себе стучали: добро, добро! Мы добрые, мы светлые! Мы несем свет и радость! Идите к нам, к нам! Люди, обманутые, подходили ближе - а эти, что прикидывались добрыми, добренькими, внезапно оскаливались, маску добра с себя наземь сбрасывали, и вставали перед обманутыми в своем настоящем обличье - кто в каком, зверей-то ведь сорок сортов, как и людей, и все разные.
Любовь, думала я, а где же в мире любовь? Где она теперь прячется? Почему о ней поэты громко и взахлеб кричат, вопят во всю глотку, а когда надо не кричать, а просто любить, любовь из стихов, да что там, из жизни куда-то исчезает? Где любовь? Ау! Куда провалилась? Ну вот я люблю. А меня - любят? А кто меня любит? А может, меня никто не любит? А зачем надо, чтобы тебя любили? Это тебе надо? Или кому другому, тебя любить?
Зачем люди любят друг друга? Может, они просто делают вид, что любят? В стихах о любви кричат, в постели о любви на ухо шепчут друг другу? А если - без слов? Если - молча? Каково это - просто любить? А не орать об этом на весь свет?
И дальше я думала: а звери-то порой благородней, чем люди, они знают, что такое добро, они просто его нюхом, кожей чуют, если со зверем по-доброму, так он на твое добро - своим добром ответит: головою прижмется, будет ласкаться… у ног твоих ляжет, заурчит, завздыхает…
…нет, не все звери, хищника так вот, наивной лаской, не возьмешь, хищник, если он голодный, тебя загрызет, ты со своей любовью и пикнуть не успеешь…
…ты, ты… Ты все о себе…
…а ты - о другом… о другом подумай… каково ему…
…ей…
…и стук раздался дверь.
Почему стучат, изумленно подумала я, у нас же на двери звонок, можно же нажать на кнопку, и раздастся звон на весь дом, такой громкий звонок у нас, я одна, Господи, кого это черт несет, а сколько времени, я посмотрела на часы да так и обомлела, двенадцать ночи, вот какие пироги, не звонят, а стучат, вот еще раз стучат… и еще, и еще раз.
Я медленно шла к входной двери в ночной рубашке, и длинный подол рубашки волочился за мной по полу.
Я понимала: надо подойти к двери, близко, близко, и громко спросить: кто там?
Я подошла близко-близко. Кажется, я слышала биение сердца того, кто стоял за дверью.
А может, это просто чирикали воробьиные часы на старинном шкафу.
Иду к двери. Еле ноги волочу. Страшно!
А может, соседи… случилось что… и нужна помощь… срочная…
А может, это просто воры. Грабители.
Проверяют, дома ли хозяева.
Люди, знаете, о чем я подумала тогда?
Я подумала: если я не открою, а у них отмычки, и в квартиру все равно ворвутся, и меня убьют, я увижу смерть в лицо.
Жаль только, я уже не смогу ничего написать о ней.
Записать ее - стихами.
Брось, грабители в дверь не стучат, они просто - нападают… окно разбивают, в окно влезают… взламывают дверь…
Я приблизила губы к дверной кожаной обивке и спросила, совсем не громко, ровным спокойным голосом, будто разговаривала с малым ребенком:
- Кто?
За дверью молчали.
И тогда я заорала что есть мочи.
Во весь голос.
Дико, надсадно.
- Кто?!
Молчание. Шорохи. Я закрыла глаза. Перед закрытыми глазами, перед краснотою век пробежала бешеная вспышка.
- Лелька, открой!
Голос овечки. Жалко блеет.
Я узнаю овечку.
Господи! Хорошо узнаю.
Господи! Ведь это несчастная, заблудшая овца Твоя, нежно и страшно думаю я.
Не волк!
И я открываю дверь.
ФРЕСКА ВТОРАЯ. ЛЕМУРИЯ И ГОНДВАНА
Ветер нес по небу серую рогожу туч, рвал на куски, на мелкие лоскуты. Тучи слетали с высоты ниже, еще ниже, вот уже летели низко, как птицы перед дождем, задевали лохматыми краями за крыши. Высотные здания, разрушенные, торчали, протыкая и без того дырявое небо каменными скелетами со снесенными черепами: одни ребра и пустые глазницы выбитых окон. Дома пониже жались к грязным подолам небоскребов. В тени великанов многие из карликов уцелели. Бомбы пощадили их.
Мир людей пока оставался с людьми. Еще водились на земле люди. Но они все чаще гляделись в зеркала диких зверей. А еще люди гляделись в пустоту. Звери вымирали, и люди, такие, какими их знало умирающее время, вымирали тоже. Мир обернулся на войну и поглядел в войну, и посмотрел на самого себя, и обернулся тем собою, кем всегда боялся стать.
А не бойся. Просто иди вперед.
Эта женщина просто шла вперед. По ее медленной походке можно было угадать: она - старуха. Она шла по темной стороне улицы, и нельзя было заглянуть в ее лицо, чтобы понять, в каком времени она жила.
Время остановилось. Так думало большинство. Оно думало еще проще: времени уже нет, и прекрасно. Оно только помеха ходу жизни, жестокой и лживой.
Женщина стала идти еще медленнее, возила истертыми подошвами по неровностям асфальта. Она остановилась под фонарем, замерла и повернула голову. Безжалостный свет очертил круг, украл у тьмы кусок. Стало хорошо видно лицо: щека, нос, высокий лоб, - профиль. Потом женщина обернула голову. Свет бил в ее лицо. Стара, но не страшна, скорее царственна. Развенчанная царица, которую жестоко и больно высекли на площади. И вместо лютой казни - отпустили, опозоренную, на все четыре стороны: иди, живи!
Если подойти к женщине ближе, еще ближе, вплотную, можно увидеть, как густая сеть морщин исчерчивает ее лоб, скулы и подбородок. Да, она была слишком стара, чтобы жить, и еще слишком молода, чтобы умереть невзначай. Молодые глаза, налитые черной болью, закрылись от резко бьющего света. Так, с закрытыми глазами, старуха немного постояла под фонарем, перевела дух - и дальше пошла. Побрела.
Старая женщина работала на почтамте, одном из почтамтов, еще выживших после бомбежек и обстрелов. Сеть, в чьих призрачных ячеях люди полвека бились, как крупные рыбы, порвалась и затонула. Народ утратил былую быструю связь и вернулся к старинным телеграфным сообщениям, и даже не к буквенному телеграфу, а к азбуке Морзе. После Второго Великого Сражения мгновенные средства связи остались только у правителей двух полушарий планеты: Гондваны, южного, и Лемурии, северного.
Первое Великое Сражение перемешало в железном, с окалиной, котле страны и народы. На землю, что раньше звалась Европой, обрушились с Востока сначала смуглолицые, потом желтолицые люди. По окончании Второго Великого Сражения раскосая раса захватила Сибирь и земли вокруг Каспия. Европа не сдавалась. Из северной Европы, из земель, что прежде назывались Англией, Германией и Скандинавией, на бывшую Россию хлынули толпы; их теперь именовали викингами. Когда неведомые, никто и никогда их в лицо не видел, владыки поделили Землю надвое, как яблоко, и северное полушарие окрестили Лемурией, все в Лемурии стали носить английские, немецкие, шведские, норвежские имена. Дряхлая Европа не сдавалась. Она не хотела умирать и решила остаться жить хотя бы в звучании людских имен.
Старуху, что шла от света фонаря до света, звали Хельгой.
Южное полушарие, нынче именуемое Гондваной, оказалось под черными людьми и под народами - исповедниками наполовину благородного, наполовину зверского учения ша-ри-ат. Говорили, что эти исповедники учения ша-ри-ат - наследники тех, кто когда-то верил в бога по имени Аллах. Викинги, населявшие Лемурию - она пострадала во Втором Великом Сражении больше всех, - когда-то верили в бога по имени Христос. Узкоглазые народы, ходили слухи, верили в бога по имени Бутта или же Будда. Богов и религий не было уже давно. Еще жили люди, что помнили их. Но и они постепенно, крепко их забывали.
Гондвана и Лемурия делились на ровные куски земли - квадраты. Землю намерили ровными квадратами еще после Первого Великого Сражения. После Второго Великого Сражения эта нарезка была забыта, а потом о ней вспомнили и к ней вернулись, как к наиболее удобному обозначению места на обитаемой суше.
Стран больше не существовало; земные гигантские квадраты назывались так: Лемурия-Квадрат-3, Гондвана-Квадрат-58, Лемурия-Квадрат-181, и все в таком роде.
А города и улицы в них обозначались просто цифрами.
Адрес Хельги звучал очень просто: Лемурия-Квадрат-63, город 125, улица 330. Легко запомнить. А если трудно, можно записать. На площади можно выменять старинные серьги на толстый карандаш. И у тебя будет чем записывать. Все что хочешь.
Бумаги нет - пиши хоть на стене. Кто-нибудь да прочитает, если не ты.
Дома, где люди жили, назывались по внешним приметам: Дом с Башенками, Дом со Сгоревшим Эркером, Дом с Разрушенной Аркой. Частные дома назывались по именам тех, кто еще жил в них: Дом Элены, Дом Вильгельма, Дом Дамиана.
Хельга жила в Доме с Флюгером.
Жизнь людей то текла, то подпрыгивала, то ползла, и она была страшна, как визги ночных крыс. В основе этой жизни-смерти лежало одно: быстрое, часто даже мгновенное переворачивание слова, действия, положения, события. Воцарилась ложь, и она называлась правдой. Правда тут же становилась ложью. Смирение, не успев родиться, тут же обращалось в зверство. Преступление тут же становилось ангельской чистотой, а чистота - преступлением. За образец бытия было взято зеркало. Кривое.
А еще простой призыв, и кто-то когда-то где-то его читывал в старинных, мертвых книгах: ВСЕ ДОЗВОЛЕНО.
Работать люди не работали. Кто хотел лениться - ленился, просто умирал намного раньше срока. Чудовищная лень порождала чудовищное мародерство. Людям надо было есть и пить, как во все времена. Люди грабили друг друга - беззастенчиво и нагло. Войны уже не было, но люди продолжали жить внутри нее, только каждый воевал с каждым, и утомительно-непрерывно. Гибель подстерегала на каждом шагу. Человек шел по улице, и на него могли внезапно напасть и сунуть ему в бок ржавую заточку. А если ему удавалось улизнуть от заточки или остро наточенной крышки старой консервной банки, он находил таких же голодных, как он сам, и вместе они нападали на безоружного, что припозднился и крался домой в бесконечной, зимней северной темноте. Хруп-хруп по снегу. Шаги. Это твои последние шаги, живой. Сейчас ты будешь неживой. Просто тело, мясо, вещь. Радуйся!
Солгать - недорого взять. Люди забыли, как выглядит правда на слух, на вкус. Хочешь жить - умей обмануть, так переиначили старую поговорку. И многие этому быстро научились, и обманывали ловко, искусно. Такие - жили и выживали, и было их царство.
И еще царило, плыло в воздухе одно: зависть.
Люди завидовали друг другу. Старуха завидовала молодой - она еще не обменяла красивые древние сережки из ушей на пачку старинных довоенных макарон. Бессильный завидовал сильному - у него не было таких мышц, - и бессильный стачивал наждаком зубы, чтобы в темном переулке больнее, острее вцепиться зубами в запястье, в глотку сильного. Девчонка завидовала другой девчонке - ей парень влюбленный подарил настоящую заколку для волос, видать, у бабки стащил, и так ослепительно сияла на тусклом солнце заколка с поддельным красным камнем! - и девчонка без заколки подстерегала счастливую девчонку с заколкой в подворотне и убивала ее старым, как мир, способом: наступала на грудь коленом и стискивала пальцами ее горло, до тех пор, пока счастливая, теперь несчастная, не переставала хрипеть и выгибаться.
Завистью в новом мире было оправдано всё: любое преступление. Зависть, это было самое сильное чувство на земле. Зависть рождала злобу, злоба рождала ненависть, ненависть рождала месть. А месть рождала рукотворный ужас.
Поэтому люди привыкли к всеобщему, на каждом шагу, преступлению - так, как привыкают к дождю или снегу.
Судов и приговоров нет. Они уже ни к чему. Квадраты выживают как умеют. Людям не нужны ни справедливость, ни наказание, ни возмездие. Каждый сам себе и возмездие, и наказание, и справедливость. После Второго Великого Сражения и оружия больше нет. Кое-где оно валяется, мертвое, ржавое, - ненужный хлам. Правда, из штыка можно сделать отличный нож, а из ствола револьвера - отличный кастет. А базукой, если изловчиться, можно крепко ударить жертву по голове. От сильного удара может расколоться череп. Это уже хорошо известно.
Ходили слухи, что у властителей Лемурии и Гондваны есть самолеты и оружие, но на самолетах давно не летали и никакое оружие в ход не пускали. Заводы, где изготавливались патроны, снаряды и бомбы, по слухам, погибли в пламени Второго Великого Сражения. И все понимали: их больше не восстановят. Никто. Да и незачем.
Человек сам оказался для человека самолучшим оружием. И стараться не надо выделывать бомбы и пули.
А может, где-то еще работали, производя смерть, военные заводы. Никто не знал. Не знал ничего.
Старая женщина, передохнув, снова идет от света фонаря до света другого. Чугунные столбы отмечают ее путь. Вот она вступает в новый круг света и прерывисто, как ребенок после плача, вздыхает. Она уже дрожит: вечер, тьма, и страшно. Страх привычен. От страха никуда не деться. Страх можно зажать в зубах, как травинку, щепку или обрывок веревки, и крепко закусить, до хруста зубов. Тогда он не так силен. А можно зубами впиться себе в кулак, в ладонь. Боль на миг победит страх. Боль мучительна, но не так, как страх.
Хельга прошла ряд серых пустых домов, тесно прилепившихся друг к другу, будто кто склеил их торцы старинным клеем или забытым пластилином, а сами они гляделись, как картонные; налитыми страхом глазами ловила разводы сажи, они напоминали ей настенные рисунки давно минувших лет; дошла до угла и повернула за угол. Асфальт под ее ногой дал страшный крен. Поехал у нее из-под ног. Она еле успела вцепиться в выступ стены. Зажмурилась. На то, что увидела она, нельзя было смотреть. Она застыла. Под ее ноги, под старые изношенные сапоги текла кровь. Нельзя было глядеть вниз. И вперед тоже нельзя. Но ей надо было идти вперед - другой улицы, чтобы попасть домой, рядом не пролегало. Только здесь, и только сейчас.
Хельга судорожно вздохнула раз, другой. Переступила. И пошла.
Надо было идти осторожно, чтобы не поскользнуться.
Хельга шла по чужой крови, как по воде, и отражалась в скользкой, липкой темной красноте. Сначала шла без мыслей. С пустою головой. Потом мысли замелькали под черепом, взрывались забытым салютом и опадали в густую ночь. Жертва, думала Хельга, и палач, ведь палач когда-то сам был жертвой, и ему в те поры стало так плохо, что он из жертвы решил стать палачом. Мне плохо - и я атакую, думала Хельга про палача; а потом думала про себя: а я-то почему же не атакую? Где мое возмущение? Мой гнев, мое буйство? Все умерло. Я уже не человек, а только почтовый служащий; и хорошо, что я знаю азбуку Морзе, и я могу передавать людям известия - холодные как лед или пламенные, жесткие как железо, или текучие, как вот эта кровь. Кровь.
Она не поскользнулась. Не упала. Не выпачкалась в чужой крови. Чувствовала себя жалким младенцем, рождающимся на свет, вернее, в ночную тьму. Во тьму.
Ей удалось перейти кровь, аки посуху.
Аки посуху... аки посуху... откуда это?.. забыла...
Она оказалась на другом берегу улицы и открыла глаза. Запах соли и боли остался позади. Она вспомнила, как рожала своих детей и купалась в родильной крови. Та кровь, думала она, это же амброзия и нектар... нектар... А эта откуда?
Вспомнила, как недавно человек, встреченный ею на площади, где кукольник мотал своим тряпичным Петрушкой в красном колпаке над натянутой на веревке красной тряпкой, торопливо и жестоко шептал ей на ухо, и его теплые пьяные губы хищно касались сморщенной мочки ее уха: "Знаешь, старуха, я живу просто. Просто, как в аптеке! Ты меня обидел - ага, стоп машина, задний ход, я причиню тебе боль! Боль, это, старуха ты глупая, великая вещь! Если ты знаешь, видишь, что другой страдает - эх, тебе становится хорошо! Распрекрасно! Знание о боли другого, бабка, улучшает настроение и повышает аппетит! Так и знай! Что косишься, старая кошка! Я серьезно говорю!" Она и правда косилась на него: мужик еще не старый, а шепелявит, как старик, знать, зубы выбиты. Крепко досталось ему, хлебнул лиха. Лихо... лихо... что такое лихо?.. Мужик, щекоча горячими губами ее шею, шептал ей на ухо, хрипел: "Я наслаждаюсь, когда вижу слезы! Когда мученья вижу - я рад! Я - живая для всех угроза! Живая петля! Живой яд! Я - ваш нож, живой и острый, а вы все - ходячие мертвецы! Захочу - убью даже звезды! Кто меня видит - отдает концы!" Хельга пыталась отодвинуться от горячего влажного рта. Толпа толклась вокруг них, сдавливала их, слепляла. Хельга выдавила из себя зеркальный хрип: "Это вы мне что, стихи читаете?" Мужик забулькал, заклокотал, это он так хохотал: "Стихи, хи-хи, а что такое стихи, что мелешь, бабулька, ты объясни мне, вон какие заковыристые ты знаешь слова! Я таких не знаю!" Толпа навалилась, на них упали двое дерущихся парней и отлепили их с мужиком друг от друга.
Человек когда-то обнаглел и заступил место забытого Бога. Не было Бога единого, и не было всяких разных богов; а почему так произошло, Хельга не знала. Она не могла об этом думать складно, но все-таки иной раз думала. Как это все получилось? Почему мир так оборотился? Мир сам себя загрыз, думала Хельга, а все вокруг думали, что мир загрызет врага. А кто враг? Бог? Да, видать по всему, Бог и был первый враг. Ему люди завидовали лютее всего. Сначала человек захотел себя повторить. Не в ребенке: слепить себя самого, как скульптор лепит статую, и сунуть ее в станок, и размножить, и сделать из одного себя целый миллион; и сделать себя бессмертным. Вечная жизнь! Это был самый сладкий соблазн. Не умереть! Это же счастье! А куда мы денем лишних людей, если все станут бессмертными? Не беда! Лишних мы убьем! Или лишим их бессмертия! Сами сдохнут, и делу конец.
Потом... а что потом? Очень болела старая голова. Хельга подносила к голове руку и ощупывала ее, нежно, бережно и восторженно, будто то не голова была, а золотой котел.
Что же настало потом? А потом настало царство чудищ. Люди внедрились внутрь Божьих тварей; соединяли под микроскопом клетки дельфина и обезьяны, крокодила и тюленя, свиньи и тигра. Пробил час - и соединили плоть человека и волка. Да? Нет! Не получилось! А может, правда? Хельга боялась думать о человеке-волке; кого-то нездешнего напоминал ей этот виденный в старых мертвых книгах, на пожелтелых призрачных, ломких страницах покрытый шерстью человечий торс с неподвижной волчьей головой, где под серым лбом неистово горели желтые пронзительные глаза.
А дальше покатилось. Заключались браки между мужчиной и мужчиной, между женщиной и женщиной. Обман захватывал все больше неба, и на обширную землю царственно падала его властная тень. Тень ползла по земле в виде коварной ловчей сети, а та Сеть, которой были когда-то крепко связаны люди, погибла в огне Первого Великого Сраженья.
К счастью это было или к горю, Хельга не знала.
Потом с лица земли стали исчезать храмы. Их взрывали и расстреливали, как людей. Священников поубивали, иные сбросили с себя сан, как рваную одежду, убегали из городов, скрывались в деревнях, в катакомбах. Церковь, как в древние времена, стала подземной; скальной и пещерной. Люди, кто мог еще молиться, молились на берегу моря, под пологом дикого леса. Они молились, чтобы земля выжила и спаслась.
Молитвы таяли на ветру; земля погибала; всем было ясно, что наступают предсказанные времена. Пахло гарью, полынью и пустотой.
Никто людей не лечил и не учил. Не читал им стихи. И правда все забыли, что такое стихи, хотя иные люди еще бормотали их, и на площади кукольник громко верещал складные слова, выплевывал в колыханье толпы.
Если Бога нет, и вправду все позволено, думала Хельга, оставляя на сером асфальте красные ребристые следы. Она не видела свои следы - их за нее сверху видел ее зрячий страх. Страх вернулся и тряс Хельгу за плечи, руки ее превращались в обледенелые ветки, и она отчаянно махала ими на ветру. Ветер поднимался и креп. Да, думала она, искусство еще живет, бедное, стихи еще живут, живут песни, но теперь искусство варят на лжи, а еще - на грубых, низменных страстях: вот площадь, и вот Петрушка, он голосом кукольника визгливо выкликает пошлятину и ругань, и всем нравится, все бьют в ладоши и вопят, люди еще не разучились рукоплескать, но забыли, зачем нужен это глупый жест - ударять ладонью о ладонь. Ладоши отобьешь! Опухнут! А бестолку!
У Хельги друзей не было. Жила одиноко. Одна знакомая, одна-единственная, это не считается. Приятельница Барби, непонятно чем она промышляла сейчас и как держалась на земле, а до Первого Великого Сражения, она хвасталась, была актрисой. Актриса, это ведь тоже связано с искусством. Барби обладала старинным самогонным аппаратом и умела добывать опьяняющую жидкость из всего: из картофельной шелухи, из листьев, из опилок. Хельга всплескивала руками: да ведь это отрава! Барби пила. Пила и не пьянела. Только глаза ярче блестели. Потом, выпив две-три кофейные чашечки крепкого дикого пойла, Барби вставала из-за стола, задирала подбородок и декламировала. Из ее рта излетали торжественные, забытые звуки и гасли во тьме, в углах и паутине. Однажды Барби спасла Хельгу от смерти. Один клиент на почтамте вдруг стал ухаживать за Хельгой. Все время приходил на почтамт, горбился перед окошком, где в старом кресле сидела Хельга за телеграфным аппаратом Морзе, и пялился на нее. Да я же старуха, смешливо морща губы, говорила ухажеру Хельга, что вы на меня так смотрите! Он все смотрел. Часами. То на изморщенное лицо ее, то на быстрые, изящные старые руки, послушно отбивавшие на аппарате код Морзе: тире, точки, тире. Как-то Хельга засиделась на работе, и ухажер вызвался ее проводить до дома. Она согласилась. Ухажер вежливо вел ее домой под руку. У самого подъезда он дал Хельге подножку и быстро сдернул с ее пальца перстень, когда-то подаренный мужем. Хельга, не снимая, носила этот саянский лазурит в память о муже. Перстень пережил два Великих Сражения. Все уже забыли, что такое Сибирь и Саяны. Карт не было: истрепались, сгорели, их сожгли в печах в лютые холода, когда север надвинулся на сушу, а потом начал заглатывать море, поплыли, чуть качаясь над смертным соленым свинцом, угрюмые айсберги, и люди, воочию видя ужас ледников, отчаянно жгли в своих жалких печах все, что горело, пылало.
Хельга видела, как ухажер заносит над ее головой увесистый булыжник. Она лежала на трещиноватом асфальте и глядела вверх, и вместо камня видела только небо. Неба было слишком много, и оно было серое, каким осталось навсегда после Сражения, и сквозь тучи красным тусклым кругом жалко просвечивал волчий фонарь. Внезапно раздался оглушительный свист. Хельга на миг оглохла. Ухажер вздрогнул и выронил наземь камень. Повернулся и побежал прочь так быстро, как ему позволяли старые ноги: он тоже был хил и стар, а Хельгу убить хотел не потому, чтобы, как встарь, выгрести у нее из кармана кошелек: деньги умерли, деньги уже никому не были нужны. Человек хотел убить человека просто потому, что другой человек жил лучше. Другому, другой, этой старушонке, да, было лучше, счастливее: у нее на пальце светился синий перстень, и на лицо она, хоть и старая, была все же круглая, значит, хорошо ела, еще - ела, и значит, у нее в квартире могли храниться запасы еды: крупы, макароны, чай, сахар. Древние, полузабытые вещи.
Дикий свист повторился. Ухажер удирал со всех ног. Над лежащей на тротуаре Хельгой наклонилась старая Барби. Космы ее грозно растрепались, висели и вились осьминожьими щупальцами вокруг головы. Она беззубо смеялась. Потом протянула Хельге высохшую руку. "Вставай, подруга! Есть еще порох в пороховницах! Не разучилась я свистеть! Я всяко могу! И в козу, и в два пальца, и в четыре, и в кольцо, и в подкову! Как я его напугала, а! Удирает без оглядки!" Хельга встала, отряхнула плащ. Даже дрожи не было. Люди привыкали к ужасу, как привыкают к плохой гнилой еде.
Они пришли к Хельге домой, Барби сбегала к себе и принесла свой жгучий напиток, ртутный яд, и пила одна, Хельга только смотрела. Вот теперь, лишь теперь она начала дрожать. Барби насильно влила ей в рот чашку самогона. Хельга закашлялась, Барби била ее по спине, укутала в старые, изъеденные молью пальто и шубы и всю ночь сидела рядом с ней, раскачивалась из стороны в сторону и напевала забытую колыбельную песню.
Где сейчас Барби? Она исчезла. Хельга не хотела думать: умерла. Люди теперь не хоронили друг друга. Неоткуда гробы взять. На санках, на тележках отвозили усопших ли, убитых далеко, туда, где землю густо устилал черный вонючий пепел. Там бродили люди, кто сжигал мертвецов, перед тем обыскивая. Только обыскивать было уже нечего. Все ценное и памятное снимали с покойников и прятали задолго до сожжения.
Барби, где ты? Да не все ли равно. Вот и крыльцо. И дверь подъезда. Рвануть дверь на себя. Ох, какая же тяжелая. Тяжесть. Всюду тяжесть. Старость - это тяжесть. Когда же лететь? Да и придется ли? Все только врали всю жизнь: душа улетает. Куда она улетит из клетки? Из тюрьмы? В огонь? Скорее бы.
Подниматься по лестнице, очень медленно. Переставлять ноги аккуратно, не торопиться, не спешить. А то сердце зайдется. И будет резко биться и болеть. Боль в сердце - страх. Опять страх. Но хуже страх, когда сердце бьется с перебоями. Удар - провал. Удар - а потом множество частых, безумных ударов, будто бы сердце с ума сошло и само по себе танцует. И хочет выпрыгнуть из-под ребер.
Так, закрыть дверь тщательно, плотно прижать, всунуть ключ в замок и провернуть один раз, потом другой. Вот теперь все правильно. Теперь никто не войдет.
Да никто и не придет.
Она, крепко вытерев подошвы старых мужских сапог о коврик около двери, одетая, вошла в квартиру.
И стала раздеваться.
Стащила с шеи дырявый шарф.
Сняла побитую молью шапку, кинула в угол.
Расстегнула пальто. Но не стащила с плеч. Холодно.
Мебели почти нет. Все пусто, гадко, голо. Голый стол. Глиняная миска. Как не разбилась за долгие годы? Дверь в кухню отворена. Раньше там стояла газовая плита. Газа давно нет. Теперь там печка-буржуйка, и труба выведена в форточку. Хельга топит буржуйку чем придется. Дрова на улице находит: дверцы старых шкафов, ветки, хворост, доски, кипы старых журналов. Давно истопила всю библиотеку. Оставила только любимые книги. Их немного. Все уместились на полке над голым столом.
Еще над столом висели четыре старые желтые фотографии в самодельных бедных рамках. Два юноши, почти мальчика, и человек, причесанный по моде прежних лет, с седыми усами и сизой, будто в инее, бородой. Сыновья и муж.
И она сама, молодая. Глядит в объектив и смеется.
Она любила смеяться.
На другой стене, напротив, в таких же ободранных кривых рамках висели, пьяно клонились вправо-влево еще два выцветших снимка. На одном - дородный благородный старик, и улыбался белозубо, всеми искусственными зубами, - рояль, обнаживший все белые, слоновой кости, клавиши; на другом - столь же дородная дама, три подбородка, как у сытой царицы. Друзья? Учителя? Живы ли... умерли...
А может, эти... как их... ну, кто стихи в старину сочинял...
Никто не придет... никто.
У Барби был условный стук, они сговорились: Барби стучала азбукой Морзе, и это был крик о помощи: три точки, три тире, три точки. SOS. Помогите! Спасите!
Они, две старухи, прекрасно знали, что это за сигнал, и обе о нем хорошо помнили. А люди, что приходили к Хельге на почту отбивать родне телеграммы, и знать не знали о нем. Точки, тире, точки! Иголочки... лепесточки!
Тук-тук-тук... тук, тук, тук... тук-тук-тук...
...тук-тук-тук... тук-тук-тук... тук!
В дверь стучали. Только не условным стуком. Беспорядочно, настойчиво. Кажется, даже зло. Или ей это только казалось?
"Сейчас все злые, все", - шептала себе Хельга, пробираясь к двери, неуклюжая в старом толстом пальто, еле передвигая ноги в тяжелых, как гири, сапогах.
Любовь моя, где ты?
Она подошла к двери и бессильно прислонилась к ней лбом. Так устала, не было даже сил спросить.
- Кто там?
Постучали опять, слабым кулачком.
- Тетенька! Открой, тетенька! Дай поесть!
Детский голосок. Рука Хельги потянулась к ключу в замке и остановилась. Замерла. Висела в воздухе парящей над черной водой чайкой. А если ребенка вытолкнул вперед дюжий дядька? И она откроет, и ее ударят по голове, и на сей раз - наверняка.
- Кто ты?
Хельга постаралась, чтобы ее голос не дрожал.
Ребенок за дверью откликнулся готовно.
- Тетечка, да я же вас знаю! Я вас - на почте увидал! Вы моему соседу телеграмму отбивали! А я ему тогда сумку подносил, с награбленным! И мы тогда хорошо поели. Это недавно! Вы не бойтесь, я не граблю никого, я еще очень маленький! Есть хочу! Вдруг у тебя есть поесть! Отвори!
Хельга решилась. Повернула ключ.
На пороге стоял белобрысый мальчишка. Неряшливая челка сеном спадала на лоб. Из-под челки в Хельгу летели пронзительно-синие, слишком яркие глаза.
Мальчишка обнял себя за плечи и сгорбился. Глядел на Хельгу исподлобья.
- Ну, пусти! Что я на пороге!
Хельга отступила к стене, и мальчонка вбежал и сам захлопнул за собой дверь, и сам повернул ключ в замке.
Хельга крепко взяла его за руку, будто он собирался убежать.
- Ну, пойдем. В гостиную.
Она называла комнату, где ютилась, по старинке - гостиная. Кухня примыкала к гостиной, совсем маленькая, скворечник. Дверь в бывшую спальню была заколочена большими гвоздями. Чтобы зимой из ее нищего гнезда не уходило тепло. Кухня и гостиная отапливались буржуйкой.
Труба буржуйки высовывалась из фортки наружу, шея черного железного гуся.
- Тепло у вас!
Мальчишка повел плечами, наслаждаясь. Хельга склонила голову набок, как большая птица, и пристально на него смотрела. Будто узнавала и не могла узнать.
- Есть, говоришь, хочешь? Есть у меня поесть. Погоди. Разогрею.
Хельга насовала палок и обломков досок в квадратный зев буржуйки, сунула в печь для розжигу мятую обложку старого журнала. С обложки на Хельгу и мальчишку смотрело широкое, крупным планом, лицо юной актрисы. Актерка улыбалась во весь рот. За ней на солнце сверкало море. Хельга не узнала в ней молодую Барби.
Коробок спичек. Огромный, как птичья клетка. Она выменяла его на площади на позолоченную статуэтку собаки в прошлое воскресенье, в базарный день. Базар давно стал меной: ты - мне, я - тебе, и разошлись. Кто поест, кто повеселится, кто в сундук или под подушку бирюльку припрячет. Люди, смертельно завидуя друг другу, напоследок играли, как дети, в старые игрушки.
Когда буржуйка раскалилась, Хельга поставила на печку сверху, на черный железный ее кругляш, кастрюлю с супом. По гостиной поплыли манящие запахи.
- Вкусно пахнет! - Мальчонка втянул носом воздух и облизнулся, как волчонок. - Это с мясом?
- Нет, - слабо улыбнулась Хельга, - это рисовый суп, просто у меня еще остались приправы. Я приправы кладу.
Суп разогрелся быстро. Хельга вручила мальчику ложку. Они оба, склонившись над кастрюлей, ели. Будто молились вместе. Только Бога больше не было. А молитва осталась: она стала едой.
Оба быстро прикончили суп. Поглядели друг на друга. Хельга опять улыбнулась.
- А теперь чай.
Она вынула из шкафа огромный ржавый чайник. Потрясла им. Забулькала вода. Водопровод у Хельги в квартире давно уже не работал. За водой она ходила на старую фабрику поблизости; там вода свободно текла из кранов, наливай не хочу.
Чайника пришлось ждать чуть дольше: буржуйка остывала, а дрова тратить Хельге не хотелось. Она четко соблюдала дневную норму. Топила раз в сутки, на ночь. Чтобы ночью не околеть.
- Тетечка, а какое сейчас время - осень или весна? - странно спросил мальчик, грея руки в воздухе возле закипающего чайника.
Хельга задумалась над вопросом. Она и себя часто спрашивала: а что сейчас на дворе?
И не могла ответить. Смещались времена. Плыли разбитыми зеркалами.
- Думаю, поздняя осень, - осторожно ответила она.
Мальчишка кивал. Вдруг завопил, глядя на чайник:
- Пар! Пар! Вскипел! Ура!
Хельга разлила кипяток в две щербатых чашки. На одной были нарисованы лесные орехи, на другой - две ягоды вишни. Мальчишка опять облизнулся.
- Теть, а у тебя случайно варенья нет? Ну, может, завалялось в шкафу?
- Не завалялось, - горько сказала Хельга. - Я бы тебя угостила.
- И даже чая нет?!
- Могу бросить в кипяток щепотку молотого перца.
- Так мы же зачихаем!
Мальчишка хохотал, закидывая голову.
Хельга низко наклонилась над чашкой и шумно, как корова, вбирала губами горячую воду. Дула на чашку. Мальчонка грел о чашку ладони.
- Хорошо у вас, тетя.
Хельга внезапно заплакала и положила руку на головенку мальчика. Слезы слишком быстро текли по ее щекам и быстро пропали, высохли или впитались в воротник, как приснились.
- Оставайся у меня. Будешь у меня жить. Или тебе есть где жить?
Мальчишка опустил голову. Хельга видела: ему трудно говорить.
- Есть. Я живу там, сям... везде. Не сильно переживаю о том. Но у вас точно хорошо. - Он путал "ты" и "вы", да ему было все равно. - Ты меня на ночь - оставишь?
- Оставлю, - тихо и хрипло вымолвила Хельга.
Она постелила мальчонке на диване, на котором спала сама, а себе на полу, на старинном ватном матраце. Смены белья у нее не было, она стирала простынку и пододеяльник, сушила и опять ложилась. Теперь белье перекочевало к гостю. Хельга укрылась тяжелым драповым пальто, траченном молью, под щеку подсунула сложенные руки вместо подушки. Спала одетая. Мальчонка снял портки и юркнул под одеяло.
Уснули.
...проснулась от дыма. Дым забил рот, глотку и легкие. Не продохнуть. Она вскочила, тараща глаза, спросонья ничего не понимая. Диван был пуст. По комнате гулял огонь. Он веселился и танцевал. Хельга в ужасе заметалась по гостиной. Схватила верблюжье одеяло, под ним спал мальчишка. Стала бить одеялом направо и налево, накрывать им, шерстяным крылом, бешеное пламя. Задыхалась. Кричала!
...сбила огонь.
Подбежала к окну. Распахнула створку. Наружная рама не поддавалась. Хельга со злостью ударила в стекло локтем. Стекло разбилось, в комнату ворвался холодный воздух. Она стояла около разбитого окна, дышала жадно.
Обвела гостиную глазами. Обгорел шкаф. Сгорел деревянный стул. Сгорела старинная шелковая гардина. Выгорел угол дивана, но сам диван, странно, остался цел. Хельга подошла к ящику стола и выдвинула его. Ящик был пуст. Она смотрела в пустой ящик, и губы ее шевелились.
- Мамина брошка... пепельница отца, медная, в виде туфли... мои старые серьги с настоящим жемчугом... речным... запонки мужа... любил их носить с клетчатой рубахой... моя шкатулка, муж расписывал сам... подарок мне на день рожденья...
Еще вчера тут мерцала жалкая, как смерть, драгоценная память. Все это можно было обменять на площади в базарный день на еду, питье и лекарства. Сияла, переливалась у нее в тайном ящике - драгоценная жизнь. И вот этой жизни нет. Зачем она ей? А правда, зачем она-то еще жива?
- Ограбил, поджег и убежал... и он - как все...
Осознать это было тяжко. Ребенок оказался вором и подлецом.
- Воруют все... все... неважно, ты дитя или старик... важно - выжить...
Она села на обгорелый стул. Вытерла ладонью пот с лица.
От ужаса на лице проступили все морщины - даже те, которых не было раньше. Она видела сама себя как в зеркале, хотя зеркала не моталось перед ней; странно, причудливо, сверху и чуть сбоку; так теперь она часто видела себя и окрестный мир.
- И я буду жить... Огня - нет... памяти - нет...
Она посмотрела на разбитое окно. По комнате гулял ветер. Ветер был черного цвета, горелый, пахучий.
Она узнавала ветер в лицо.
***
Никто никому не должен. Никто никому не нужен.
Зато все следят за всеми: важно чужого подстеречь, запомнить, а потом и уловить, поймать, как зверя в капкан. И сделать с ним что хочешь.
И наоборот. Наоборот бывает чаще. Зверь ловит человека. Зверь-человек охотится на человека-зверя. Кто кого! Сегодня удачная охота. Я поживился. Я разбогател. На кусок времени. Время стоит нынче очень дорого. Оно не стоит чужой жизни. Оно стоит только моей жизни. Моей. И ничьей больше.
А если меня прижмет к стенке власть?
Какая власть, о чем ты?
О властях Лемурии и Гондваны в народе ходят легенды. Никто не знает, где они, эти власти, живут. Где прячутся. Если наказания за содеянное нет - нет и власти. Не об этом ли мечтали люди всю старую жизнь, о свободе? Свобода пришла. Но никто не узнал ее в лицо. У нее вместо лица - зверья морда. Страшно ее. Надо бежать. Чтобы ее зубы не сомкнулись на твоей трусливой холке.
Люди забыли про настоящие стихи и песни. Может быть, иной раз они и хотели попеть, как раньше, за накрытым столом, или ночью, на гулянье. Ночами больше никто не гулял. О застольях забыли так крепко, что накрой сейчас праздничный стол - испугаются и его, сервированного, с кучей еды, и убегут в ужасе, затыкая пальцами уши, ладонями закрывая глаза. Зачем петь хорошее? На площади, в базарный день, орут глупые припевки, голосят гадости. Дети вопят гадкие слова наравне со взрослыми. Детей на улицах все меньше. Раненые и облученные во Втором Великом Сражении люди не зачинают и не рожают. Просто - не могут.
Забыты праздники и колыбельные. Нет свадеб.
Но есть еще мужчины и женщины; а еще есть мужчины и мужчины, женщины и женщины. А иногда есть мужчины и дети, дети и старухи, старики и юницы. Есть любые пары, на выбор. Выбирай и гляди, вон, за углом; может, про это потом сон приснится.
Мужское и женское - это еда для тела. Тело просит и настоящей еды. Прокармливаются кто чем может: грабят тех, у кого при домах, в городах и в деревнях, есть свой жалкий огород. Лук, капуста, картошка. Удобряют пеплом, а чаще ничем. Само вырастет. Если не вырастет - помрем с голоду, только и всего. А у вас печка? Буржуйка? Чем топите? А у меня еще электричество есть!
Электричество, ведь это почти чудо. Первое чудо света. Еще остались станции, подстанции. Живы машины. Работают на последнем издыхании. Это неважно, первое или последнее, важно, что сегодня и здесь. Где электричества нет, там вовсю топят печи.
Печи топят чужой одеждой, украденной мебелью и даже убитыми в подворотне людьми. Это чадно, вонюче, но, если хочешь жить, терпи.
Едят ли людей? Быть может, это тайна. А для кого-то не тайна.
Это тайна ни для кого. Давно уже не тайна.
***
Хельга, дома, топила печку. Когда дрова разгорелись и затрещали, вышла в гостиную, уселась за стол и стала глядеть на фотографии мужа и детей. Воспоминания накренились сумасшедшим зеркалом. Внук, от старшего сына, они с женой успели родить ребенка, зачем, на мученья, Хельга спасла младенца еще во времена Первого Великого Сражения. Они все сидели под землей, когда город бомбили. Как назывался этот город? В зеркале всплывают и тают безликие цифры. Никому не нужные. И меньше всего ей. А имя города она не помнит. Помнит ли она еще имя сына? Старшего? А младшего? Да. А имя внука? О...
Внуки... внучки...
Любовь, где же ты?
Они сидели в подвале под огромным небоскребом, слышали дикий грохот и вой, доносящийся сверху. Время от времени земля сотрясалась. Хельга накрывала внука собой, своей грудью и животом. Неужели мое тело станет для ребенка теплым гробом, смутно и страшно думала она. Она забыла, о чем думала тогда. Имя, его имя! Черная доска. Черная амальгама, и зеркало косит, как косоглазый ушлый вор. Зеркало, не кради мое время. Я его тебе сама отдам.
Где теперь старший сын? А младший? В Лемурии? В Гондване? Никто не скажет. Недосягаемо. Пощадило ли ее детей Второе Великое Сражение? Некому ее будет похоронить. Ее соседи сожгут в печи, она станет дровами. А ее пеплом удобрят жалкий огород. Морковь, лук... капуста...
Глаза старшего сына, под волной светлых волос, протыкали ее насквозь. Младший сын на снимке тихо улыбался. А может, смеялся. Над ней. Надо всеми ними.
Она перевела взгляд на мужа. Фотография горько выцвела, мерцала желтой слюдой. Муж, кем он был на свете? Холст, масло, льющееся теплое масло, о, подставляй ладони, вымажь лицо, шею, руки, целуй, вдыхай. Святой елей. Святой художник, только нимба нет. Жив ли? О если бы. Надо молиться, но нет Бога. И не будет больше никогда.
Сзади, с противоположной стены, ей в затылок глядели дородный старик и пышнотелая царица с тремя царственными подбородками. Они глядели осуждающе. И тут же - радостно, шутейно: шутовски. На желтой фотобумаге они могли менять цвет и свет. И настроение. И волю. И судьбу. Они все могли. Хельга вспомнила, кто они. Художники, друзья мужа. Значит, и ее друзья. Старик когда-то жил в городе около большого океана, сытая дама - в бывшей столице, и столицу давно уже цифрой заклеймили. Будто цифрой в нее плюнули. Наверняка оба мертвецы. На них надо как можно меньше смотреть. А то однажды ночью придут и с собою утащат.
А вот их дорогие имена она забыла.
Есть не хотелось. Надо есть как можно меньше, так можно сохранить дрова.
Хельга отвернулась от фотографий к окну. Разбитое стекло она заделала, на задворках нашла стеклянную плашку, всунула в дыру и обклеила бумагой, смазанной мылом. Мыло у нее еще водилось. Она выменивала мыло на бусины: к жемчужным серьгам у нее когда-то имелось жемчужное ожерелье, из настоящих речных перлов, она надевала ожерелье, еще до Великих Сражений, на праздники и торжества; она разрезала нитку, собрала жемчужины в коробку, вынимала по одной и меняла на площади. Люди верили, что жемчуг настоящий. А может, и не верили, но уж очень завлекательно он блестел.
Люди, живущие внутри всеобщего обмана и вездесущей ненависти, еще верили в красоту вещей. И в драгоценность еды.
Еще верили в вещи. И в еду. Может, это было единственное, во что они еще верили.
Для верности, чтобы тепло не утекало, Хельга проложила подоконник во всю длину старой, свернутой в трубу шубой. Поздняя осень сейчас или ранняя весна? Ноябрь... или март... Никто не знает. Календарей нет уже давно. Кто-то ведет самодельные. Ей - лень. Да и памяти никакой.
Она смотрела на пустую тарелку посреди стола.
На тарелке была нарисована детская радуга.
- И где мне смерть пошлет судьбина? В бою ли, в странствии, в волнах? Или соседняя долина мой примет охладелый прах? Прах... как там дальше... И хоть бесчувственному телу... равно повсюду истлевать... чьи это слова?.. забыла...
Она наморщила лоб, пытаясь вспомнить имя. Опять имя. Везде и всюду имя. У всех. Она иногда забывала, как ее зовут. Раньше у нее было другое имя. Оно было записано в такой маленькой темно-красной, цвета венозной крови, книжечке, испещренной подписями и печатями, с розовыми, как забытые конфеты, страницами, с оттисками гербов и рисунками красивых узорчатых башен. Что это была за книжечка? Кажется, она называлась... называлась...
- Эти слова... стихи?.. сти-хи... Кто их написал?.. может, я сама написала?.. а разве я могу...
кто я такая...
Она посмотрела на часы. Часы давно остановились. Стрелки на циферблате застыли. Они показывали двадцать минут седьмого. Утра? Вечера? Хельга подумала: вот так они покажут время моей смерти.
О смерти она думала нежно и непонятно, вскользь, будто летела над черной рекой, и, главное, спокойно. Ни тревоги. Ни боли. Одна зияющая черная пустота.
Вдруг в пустоте забрезжил свет. Она вздрогнула. Ее внутренние часы, сердце, стучали громко и настойчиво. Она прислушалась к стуку. И вспомнила: пора идти на работу. На почту.
- Денег не платят... никому не платят... денег - нет... все равно пойду...
Те, кто еще мог что-то правильное сделать для уходящих во тьму людей - делали.
И Хельга делала тоже. Свое верное дело.
Она надела пальто, застегнулась на все пуговицы, целенькие, крепко пришитые, нитки и иголка еще оставались - заплату наложить и пуговицу пришить, она и пришивала: аккуратно, вовремя, не давая оторваться и потеряться; следила за этим.
А сапоги ей достались мужские. С убитого мужчины. Он лежал на проезжей части дороги. Его беззастенчиво раздели и разули прохожие. Мужик, что разувал труп, повертел в руках сапог. Увидел на тротуаре молча стоящую Хельгу.
- На! Пользуйся. Твои-то вдрызг износились!
Бросил ей сапоги.
Хельга поймала.
...влезала в сапоги медленно, с трудом, хотя они были ей велики. В носки сапог Хельга натолкала серую вату из старой коробки с бывшими елочными игрушками. Игрушки при последней бомбежке рассыпались вдребезги, в мелкий радужный снег.
***
Кто мог бы стать моим возлюбленным? Мог бы сейчас, да, вот теперь полюбить меня? Есть люди геронтофилы. Старолюбы. Они любят обнимать стариков. Я не старуха. Но это, я знаю, мне только кажется. Все враки, про молодую душу. Душа старится прежде всего. И быстрее всего.
Человек из прошлого тумана склоняется передо мной в поклоне, преподносит цветы. Цветочки чахлые, увядшие. Но мне все равно. Я беру букет и улыбаюсь самой своей изысканной, беззубой улыбкой. Цветы! Мне подарили их за что? Уж не за красоту. Я не красотка. Говорят, красивые люди и в старости красивы. Не верю. Красота сгорает на яростном, мощном огне. И ничего не остается. Ничего. Прах. Пепел. Крематорий.
Во Втором Великом Сражении горел город, раньше его называли Париж. Мы однажды гостили там с мужем. Пока еще работала связь, люди могли видеть на экранах дальней связи, как горит самый знаменитый собор в мире, посреди Парижа. Имя собора я забыла. Не вспомню. Такое короткое, звучное, будто в колокол ударяют. А, вот. Нотр-Дам. Нотр-Дам. Нотр-Дам. Нотр-Дам. По утрам! И вечерам! Надо, надо умываться по утрам и вечерам... а нечистым трубочистам... что?.. правильно, стыд и срам... срам... срам...
За что ты подарил мне цветы, безымянный кавалер? Ты хочешь стать моим любовником? Глупо. У меня даже нет кружевного белья. Под ветхой одеждой - голая я. А, поняла. Ты вручил мне цветы как мертвый орден. За то, что я выступаю против войны. Война, она была? Или еще будет? Запуталась. Не помню. Война, она идет всегда. Только нам этого не говорят. Не хотят тревожить.
Я, в знак протеста против войны, голодаю. Об этом никто не знает. Бог - да, знает. Кто такой Бог? Забыла. Я много чего забыла. А иногда так страшно, дико хочется есть. Вонзить бы зубы во что-нибудь. В кого-нибудь! В кого? Это еще страшнее. Нельзя жрать живое. Ни живьем. Ни убитое. Кто я, вегетарианка? Это еще глупее. Война - глупость, и жевать траву - глупость. Я же не корова. Муж мой рисовал на холстах древних коров, царских быков. У них в животах, под шерстью и ребрами, были видны все внутренности. Словно бока у них стеклянные. А у мужа моего кисть - всевидящая. Может, художник - рентген? И просвечивает все? Все, что плохо лежит?
А я, я плохо лежу или уже хорошо?
Не лежу. А сижу. На почте. Или стою. Наблюдаю снег. Или иду. Медленно иду, плохо, вот хожу - плохо. А быстрее не получается. Плохие суставы, сталь заржавела. Кости ржавые, потроха стеклянные. Я не священная корова. Не первобытный бык. Не лошадь, а надо бодро скакать, развевая по ветру гриву и хвост, и я что? Мне-то что?
По стеклянным кишкам течет забытое вино. Они греются, вспыхивают. Все воображаемое, все в мыслях. Мысли пьяные. Нельзя их допускать под лоб. Они разорвут лоб, взорвут изнутри.
...однажды я спасла человека. Странно это было. Меня бы кто спас. Я - мыло. Меня измылило время. Я выскользнула и скольжу надо всеми. Опять слова превращаются в знаки! В звуки! Не вынесу этой муки.
...человек был маленький, малого роста, или мальчик, не поняла. Стоял, качался на перилах моста. И все дела. Руками в воздухе поводил. У меня не осталось сил. Я силы в воздухе нашла. Свет! Мгла. Подбежала. Обняла, удержала. И все дела! И всё... как сажа... бела...
...брось, говорю я себе, брось чушь болтать. Спасла самоубийцу, и что? Это ничего не значит. Он завтра пойдет и снова на перила моста встанет. И покачается немного на прощанье. И утопится. Глотнет воды напоследок, вдохнет. Говорят, это больно, когда вдыхаешь воду. Она врывается в легкие и заливает их кровью и болью. Сильно жжет, так говорили спасенные утопленники. Жуткое жжение, будто ты проглотил огонь. Факел съел. Горишь изнутри. И знаешь, главное, знаешь, последними мыслями потрясен: ничем теперь не потушить, ничем.
А я - самоубийца? Мне - попробовать? Бог умер, и я не знаю теперь, что такое грех. Это раньше был грех. А сейчас? Грех, орех. Разгрызть и выплюнуть. Мне раньше твердили про дьявола, я не верила. Я немного верила в Бога, немного в дьявола, во всех понемногу, это значит - ни в кого. Плохо это! Ужасно! Счастлив тот, кто крепко, твердо верует. Ему ничто не страшно. Ни война. Ни смерть. Ни иная, отвратительная жизнь.
Есть ведь жизнь хуже смерти; вот такою я жить бы не хотела. Ни за что.
Врешь! А сейчас - живешь?!
...я готова спасти еще одного самоубийцу. Еще тысячу. Но никогда, слышите, никогда на перила моста не встану сама. Я хочу умереть по-настоящему. А не насильно. У меня не стеклянные потроха! У меня - живые! Сердце мое бьется! Еще как! Так сильно, вот-вот выскочит из-под ребер!
У Хельги однажды была встреча, она ее запомнила. Она медленно шла вдоль парапета набережной и смотрела на грязную, оловянную, холодную воду, ее слабо мял ветер и пытался закатать в серый рулон. Скамейка стояла бесстыдно, ножками вверх, у парапета. Рядом с перевернутой скамьей, на асфальте, сидели двое. Оба в штанах, в ободранных куртках. Хельга подошла ближе и увидела: он и она. Трудно было теперь определить у людей возраст. Сколько времени они прожили? У одного, это с виду был парень, светилось такое ясное, чистое лицо, другой глядел угрюмо, закусив губу, лохмы торчали из-под кепки. Девушка. Хельга сделала еще шаг и поняла, что ошиблась. Лохматый - парень, а девка - с чистым взглядом. Они сидели, скрючив ноги по-восточному, и играли в странную игру. Переставляли на асфальте маленькие колпачки. Хельга прищурилась и различила: медные колокольчики. Такие раньше, в утонувшее время, вешали на шею коровам, или под расписную дугу тряской телеги, или рыбаки привязывали к леске, забрасывая в реку снасть.
Лохматый парень внезапно рвал вверх медный колоколец тощими пальцами; под ним было пусто. Девчонка смеялась. У нее во рту были чистые и блестящие, ровные зубы, таких сейчас ни у кого не было. Все стеснялись улыбаться.
Хельга остановилась около играющей пары. Молодые люди вскинули головы и дружно посмотрели на Хельгу, потом друг на друга.
Думают, убегать или нет, подумала Хельга печально.
Остались сидеть на асфальте.
- Привет, - сказала Хельга.
Подростки молчали.
Они просто не нуждались в чужом лживом приветствии.
Хельга, сама не зная почему, присела рядом с ними на корточки.
- Можно я с вами поиграю? - робко, странно попросила.
Они будто не слышали.
Хельга показала этот вопрос жестами. Развела руками, приглашая подумать вместе: можно или нельзя?
Они оба смотрели мимо.
Хельга наклонила голову. Смотрела на них обоих искоса и снизу. Как зимняя птица на человека. Подростки прекратили играть. Девчонка цапнула с асфальта колокольчик, зажала в кулаке. Парень постучал себя по лбу кулаком, потом ее, между бровей, и девчонка сморщилась: больно. Хельга поняла жест. Он означал: "думай лучше, эта тетка безопасная, без истерики". Потом парень выдвинул руку вперед и повернул ее ладонью к Хельге. "Жди, что будет".
Хельга сосредоточилась. Сдвинула брови. Закрыла глаза. Она и с закрытыми глазами видела, что делают бродячие дети. Оба протянули друг другу руки, переплели пальцы. Так сидели, широко раскрытыми глазами глядели на слепую Хельгу.
И Хельга все это видела сквозь красные пульсирующие веки.
"Я читаю их мысли. Вот сейчас они думают: надо бы ограбить дуру-тетку. Вдруг у нее в карманах еда! А потом: да нет у нее никакой еды, не пахнет от нее едой! И тут же: а может, у нее при себе памятная вещица какая, ведь старуха, носит на шее какую-нибудь цепочку... бирюльку, бусину. И обменяем на площади! В базарный день!"
Веки Хельги вздрагивали.
Дети разорвали руки, девчонка поднялась с земли, подпрыгнула, разминая ноги, и встала за спиной у парня. Оперлась руками на его плечи. Обняла за шею, а ногами обняла его торс. Так сидела на нем верхом, кривлялась, показывала Хельге язык.
Хельга, с закрытыми глазами, видела: они смеются не над ней - над собой.
Веселятся, потому что им очень горько и больно.
"Думают: боль вокруг, да еще тетка приблудилась, надо поиграть с ней в веселье".
Девчонка сдернула с головы кепку и помахала ею в воздухе, как флагом.
"Они приглашают меня повеселиться с ними!"
Тут Хельга открыла глаза. Странные дети внезапно повалились на асфальт и прикинулись мертвыми. Как звери, мимо которых пуля охотника прошла, да чтобы еще не стреляли, надо упасть на землю, будто бы в тебя попали и застрелили тебя. Чтобы не дали залп второй раз.
Беззвучно сказала:
- Не... бойтесь...
"Мы не боимся", - услышала она их мысли.
"И я тоже не боюсь", - молча сказала.
"Мы видим", - молча сказали дети.
"Есть хотите?" - молча спросила.
"Еще как!" - молча завопили оба.
Хельга пошарила у себя в кармане и вынула засохший до твердости кирпича кусок сыра. Протянула детям.
"Разрежьте, если есть нож, и съешьте. Это сыр. Он может храниться хоть десять лет и не испортиться. Только он очень жесткий. Это не отрава. Это еда. Настоящая. И я - настоящая. Я вам не кажусь!"
"Мы видим!" - молча кричали дети.
"Если нет ножа, можно разрезать острым камнем!" - молча давала совет Хельга.
Дети не брали каменный сыр. Хельга положила кусок на асфальт. Парень вытянул руку и схватил сыр с земли. Поднес к носу, нюхал. Запустил зубы. Ему удалось немного откусить от жесткого куска.
Хельга следила, как парень ест.
Девчонка сидела тихо.
"Думает: доем, что останется".
Поймала ее резкий, вспышкой, взгляд и ее мысленный крик.
"Я не буду догрызать объедки! Пусть сам все ест!"
Жадно глядела Хельге в руки: а может, руки снова нырнут в карман и добудут оттуда еще кус жизни.
Читать чужие мысли неправильно. Она знала это. Она ругала себя за это. Но людей в городе становилось все меньше, и они, оставшиеся, становились все злее, поэтому было важно знать: надевает человек злую маску, а сам внутри добрый, или, наоборот, напяливает сладкую маску добра и любви, а внутри у него черная война: с миром и с самим собой.
Идти по улице, улица как сцена, ты самою собой, своим старым телом, музыкой шаркающих ног читаешь публике стихи. Публика! Она тоже была немая. И угрюмая. Нет, иной раз люди орали. Когда кто-то у кого-то что-то тащил. Из кармана; из сумки; из-за пазухи. Бил ногой в живот, человек падал, а у него выворачивали карманы, будто он лежал уже мертвый. Воры, мародеры! Все к ним привыкли. Привыкла и Хельга. Но ее забытый Бог миловал: после того, как на нее напал тот самый поддельный ухажер, заприметивший ее на почтамте, на нее никто не нападал. Она двигалась по улицам как в стеклянном колпаке. Стеклянная старость, хрустальные волосы, колючий иней висков. Иней на бровях. Иней и лед в руслах морщин. Реки времени, что текли по ее лицу, все высохли. Не напьешься воды. А тут читать чужие мысли! Это утомительно. У нее после этого болит лоб. А еще очень хочется пить. Да не воды. Вода, это скучно, обыкновенно. Хочется напитков, что водились среди людей в старину: клюквенного морса, сока манго, а может, лимонного, а лучше всего сок киви, зеленый и кислый, он хорошо утоляет жажду. Да просто собрать в саду смородину, намять ее столовой ложкой и засыпать сахаром. Боже мой, как это вкусно! И есть ложками, есть! Нет, ягода не зараженная! От нее нельзя умереть! От нее можно только жить! Жить!
Одна Хельга шла по улице, осторожно глядя по сторонам, а другая, залитая солнечным светом, стояла на ветру в шумящем листвой саду, и собирала плоды, и смеялась от счастья. Другая Хельга была счастлива. Война минула, и снова выросли фрукты. Толстобокие яблоки! Желтые лампочки-груши! Она умела варить из груш изумительное варенье; у варенья получался густой тягучий, душистый сироп розового цвета, таким сиропом хорошо поливать мороженое, да где теперь его взять.
Одна Хельга жила, другая не жила. Делала вид, что живет. Кого она могла этим обмануть? Уж только не себя. Ну и что, передвигаются ноги? Ну и кому какое дело, что еще шевелятся, вспархивают над телом руки? Это все видимость одна. Многое нам видится. Кажется. Если поглядеть на вещи глазами, не залитыми розовым сиропом, видишь все как есть, и это страшно. От этого страха можно закрыть глаза и никогда их уже не открыть.
А охота еще поглядеть на мир. Куда он повернет.
***
Иногда Хельга приходила к зданию, которое раньше в ее городе называлось вокзалом. Вокзал соединял в одну каменную точку железные дороги. Серебряные рыбы рельсов сталкивались лбами, носами, хлестали друг друга стальными хвостами и разбегались в густой толще снега или в парчовой пелене дождя, нахально поблескивая мокрой чешуей. Железнодорожный вокзал, сделанный из кирпича, бетона и чугуна, разбомбили во Втором Великом Сражении; разбомбили, да не весь. От него остался главный зал, а в зале - чудом держалась на косорылом потолке - золотая люстра.
Хельга приходила на свидание к люстре.
Она волновала ее. При видел люстры Хельгу охватывала великая тоска и вместе с ней яркая детская радость. Она пыталась вспомнить, с чем таким важным была связана вокзальная люстра в ее прошлой жизни. Не могла. Память при виде люстры буксовала гусеницами ржавого танка.
Хельга переступала то, что оставалось от порога. Осенью, зимой вечерело быстро, и люстра давно не горела, никто не кормил ее электрическим током. Однако три стены были еще живы, каменные и бетонные, а одной не было вообще, ее съела бомба, и свет города и неба проникал внутрь вокзала и зажигал висюльки люстры потусторонним медным сияньем.
Люстра, дикое чудо, и как сохранилось. Зачем людям сейчас красота? Она смертна. Память хоронит ее в своей нежной земле, в глубине. Люстра состояла из длинных золотых и бронзовых пластин, они висели на позолоченных крючках: внешнее кольцо золотых висюлек, потом другое, поуже, потом третье, четвертое, круги все меньше, все теснее ложатся, льнут друг к другу золоченые сосульки, а в самом центре мертвый золотой шар: раньше он празднично пылал, теперь тусклой болью и печалью светятся его холодные лунные бока.
Какой мастер делал эту люстру, и зачем, неужели для скучающих прежних пассажиров, что ездили на старых поездах туда-сюда по стране, по живой земле, пили газированную воду из узких бутылок, резались в карты, поверяли друг другу чувственные и пошлые дорожные тайны? Хельге это было все равно. Она вставала под люстру, закидывала голову и смотрела вверх. Любовалась. Или это было что другое, не любование? По щекам ее сами собой ползли золотые слезы. Ее сморщенное лицо сияло молитвенной маленькой люстрой, дочерью той, громадной. Хельга смутно вспоминала. Не картины: звуки. Внутри нее звучали слова, они перетекали в музыку, а музыка вспархивала забытым вокзальным голубем вверх, к потолку, и золотые пластины звенели на свободном ветру - ведь между люстрой, Хельгой, миром и войной не было никакой стены, ее взорвали.
Музыку такую не вспомнишь, ее можно только родить тут же, не задумываясь.
...о, если есть Бог!.. Копыта стучат. Лязгают гусениц сплавы. О, не будь так жесток к земле, кулебяке кровавой. О, не ножами разрежь!.. Ножи наточены. Баста. И будут кромсать, найдя великую брешь в стене орущей, глазастой, рукастой. И кровь потечет по белому снегу Великой Рекой, извилистой, дымной, - а кольцо сожмется, и будут стрелять рукой, так недавно нежно любимой... И будут стрелять в нас не пулями, не снарядами, - а глазами, живыми криками, слепыми ликами, немыми слезами... Какая война?! Сумасбродье, брехня. В хрипенье надсада едва различимо: в охвостьях огня вам уготовано хуже: БЛОКАДА. Кольцом проклятья охвачены вы! Вы разве не понимаете ЭТО?! - "Не понимаем. Жрем сельдей и курвей на куртагах-фуршетах". Грязный вокзал. Не Ладога-Волга в камнях-костях. А может, Ветлуга. Где границы страны, ревущей в черных сетях безумной белугой? От какого Ужаса мы куриную голову под крыло прячем?! - "Мне сыто. Счастливо. Мне - тепло. И - другим незрячим". А я, что ВИЖУ сей мир, сей Град, несчастнейший, в бабьей юбке, Нострадамус, что, раскинув руки объятьем, над горем стою, Настрадамус и Нарыдамус, - что прикажете делать мне, видящей все Замогилье, все Заблокадье, Заблудье, Забудье, все Беспределье, Бессилье?! И будут убивать нас, медленно наводя на нас не дула, а лица. Лица, с которых вниз, на землю, будут соленые ливни отвесно литься. Лица, что будут казать нам красные и черные пустые зубы. Лица, чьи губы будут трубить не в Судные - в Неподсудные трубы. И мы падем ниц. И затрясемся. И восплачем, возмолим, забьемся: "ГОСПОДИ! ГОЛОДНО БЕЗ ХЛЕБА-КРОВИ ТВОЕЯ!" - и слезами опять зальемся - а вместо слез - голод выжал все соки - по тощим щекам - по морщеным руслам - ржавая сукровь, красное пойло, плевое сусло.
Хельга вышептывала музыку слишком тихо, так, что сама не слышала шепота. Заканчивала шептать - а губы склеены. Зимний закат высвечивал последние медные ледышки высоко в каменном зените. В разрушенный вокзал, подобно ей, входили люди, стояли, смотрели, выходили. Косились на Хельгу: она стояла неподвижней и дольше всех. Люди, может, думали: она тут дежурная. Или думали так: ждет кого-то. Или не думали ничего. Сейчас мало кто о чем-либо думал.
Жизнь стала важнее мыслей.
Человек скатывался до дрожи растений, до твердости камней. А может, не скатывался, а поднимался. Все живое жило, но, что страшно, оживало и жило все мертвое. Мертвое тоже хотело жить, оно понимало брата, погибшего человека, и тянуло к нему отростки беззвучных мыслей и слов.
Хельга спохватывалась: а вот и темно. Да ноги сами прирастали к грязным плитам вокзального пола, густо усыпанным мраморными осколками. Она хотела лечь, растянуться на этом колючем гиблом полу, уснуть под призрачный стук убитых колес, под бредовые гудки замученных поездов. Где они сейчас? Вагоны, зачумлённые составы? Стоят на взорванных путях? Лежат на боку мертвыми железными тюленями? О чем они думают сейчас, железные сундуки, рожденные человеком для дальних странствий? Стальные бочонки, окошки-бойницы. Уже не влюбиться. Уже не присниться.
Люстра казалась ей огромной железной елью, Новый год опять был очень близко, руку протяни и поймай. Она видела новую войну. Она пыталась превратить ее в праздник, в очередную победу над смертью и жестокостью. Пули свистят. По снегу катят лимоны, орехи, нуга, шоколад. Это елка, корми ребят. Тебе говорю, накорми детей. Елка - кошелка: в ней груды костей. Груды снегов. Вот моя грудь, любовь - кожа да кости: блокадницу - ешь, мир наш голодный, пока рот свеж, а я дай-ка тебя, мир, покрещу, дай-ка я тебя, мир, за войну - прощу.
Однажды, когда Хельга вот так стояла на взорванном вокзале и пялилась на погасшую чудовищную люстру, к ней подошла женщина, на согнутой руке она держала девочку лет семи, уже взросленькую и тяжеленькую. Девочка, одетая в штопаное на локтях хилое пальтецо, обхватывала ручонками шею угрюмой женщины. Женщина стояла и молчала, и Хельга стояла и молчала. Она никого не видела: она бессмысленно, заливаясь слезами, шептала свою музыку. Девочка отцепила от шеи женщины одну ручонку и тихо коснулась ею щеки Хельги. Хельга проснулась и прекратила лепить музыку губами. Девочка внимательно смотрела на Хельгу, и Хельга узнавала в глазах ребенка свои глаза. Глядела в собственную старую фотографию. Внутрь времени. Цвет исчез, черное и белое воцарились. Одинаковые лица наложились друг на друга. Ты моя дочка, я твоя мама. Ты моя бабка, я твоя внучка. Я твоя перчатка, ты меня потеряла. Я вчера умерла, а ты меня давно нашла, только не говоришь никому об этом. Где ты живешь теперь? Я твоя дверь. Толкни меня, войди в меня. Пройди сквозь меня. Сквозь стену огня.
Вы ее мать, сказала Хельга хрипло, оденьте дочку потеплее, ей холодно в таком тощем пальтишке, на рыбьем меху. На рыбьем, повторила девчонка и захохотала. Я не мать ей, угрюмо ответила женщина, я ей случайная, она найденыш, она из Гондваны. Я поеду с ней в ее землю, я договорилась с солдатами, они возьмут нас, довезут до моря, там баржи сейчас в Гондвану караванами плывут, там война. Война, повторила Хельга, война. И тут будет война, кривая улыбка разрезала лицо угрюмой бабы, нас всех возьмут в кольцо. Блокада? Она самая. Уморить хотят? А зачем? Мы же сами умрем.
Угрюмая женщина с девочкой на руках уходила прочь, Хельга глядела им вслед. Ей казалось, мрачная баба невесомо идет, почти летит по снежному плато в горах, по ледяной крошке.
...я в этом городе воскресла горю бессмысленно - к чему какие дьявольские чресла меня всадили в эту тьму лодчонки узкие сапожек по смоляному в просинь льду а люди в пригородах кошек едят и на сковороду маслокипящего вокзала швыряют толстомясых баб все рыла хари и рыдала едальники заткнулись даб вокзал гудит орет и плачет и хрюкает подъяв клыки дедок в голицу воблу прячет и пряник скачет от тоски а девки крашеней японских в шелка укутанных куклят мат васильсурский и затонский вразмолку с сухарем едят гудит толпа она страшится сжимающегося кольца а еж топырится когтится иглится золотом венца громадной люстры ожидальной - свисает жестью с потолка ежихой жуткою сусальной златыми жалами сверчка - сто ламп в сто страшных лиц вонзают живые копья в полцены и над баулами-слезами - чей вопль: "Мы все окружены!" Ах город в тишине речонок речушек рек речищ речей беги с откоса салажонок по льду вокзал еще ничей вокзал - он наш его не взяли его попробуй-ка возьми и здесь тепло на одеяле сопит Спаситель меж людьми Он слизывает капли пота со щек бормочет Он: "Прости" одна у Господа забота - от нас блокаду отвести да вот беда уснул болезный и кулачок - под щечкой - как у ребятенка и над бездной мотается дорожный знак ты слышишь гул за кладкой мощных мычащих мукомольных стен?! Несется поезд Непорочных Зачатий Девственных Измен составы лязгают наживой грохочет близко пулемет собьемся в стог покуда живы покуда Боль нас не сгребет Эй-эй! Проснись! Но золотое в ночи набычено чело и морду ввысь подъявши воет собака тощая зело давно не кормлена ни мяса ни завалящего мосла жить нам осталось меньше часа слезой просвечена скула
...собака посреди вокзала повоет век - и миг молчит о ты не все нам рассказала поплачь повой еще навзрыд и грохот канонады рядом и трещина змеясь пошла по черепу земному - Адом - а Рай - убит - убит снарядом - на дне вокзального котла
...Хельга еще видела спину бабы в черной старой, лысой шубе и девчонку у нее на руке. По плечам девочки змеились черные коски. Хельга знала: она ей родная.
Она прошептала девочке вослед: я знаю, шепчешь ты, как я, святые буквицы и знаки, ты музыка, моя семья, на площади, во тьме, в бараке.
Она еще много раз потом приходила на вокзал, к золотой люстре, звенящему на ветру военному колесу. Но угрюмой бабы с ребенком на руках она больше никогда не видела.
Только черные коски и запомнила. Только коски. И черно-белые глаза.
И это тихое чувство родной крови. Острую эту боль. Не понять.
***
Круги, теперь она спускалась кругами все ниже и ниже. Круги затягивали. Город расстилался страшными окружностями, расходился медленными кругами по воде. Хельга шла по кругу зависти, осторожно обходя злобу. Злоба настигала. Она убегала от нее по кругу обмана. Хотела обмануть злобу. А за углом ждала ненависть. Хельга шла кругом ненависти, сцепив зубы. Ей было плохо, она не хотела ненавидеть, и все-таки ненавидела свое время, и эти серые круги, и их черные сердцевины. Точка в круге! Да это она сама. Мы живем не в пространстве, а во времени, шептала она сама себе, все напрасно думают, что они живут в пространстве. Время сыграло с нашим поколением злую шутку. Мы могли родиться в другом времени. И все в том же пространстве. Место ничего не значит, город, деревня, земля ничего не значат. Значит только время. Из него не вырваться. Надо прожить именно его, пройти из конца в конец.
Круг ненависти кончался. Земля уходила вглубь. Дома наклонялись, падали. Город хотел ухнуть в бездну. Бездна времени распахивалась рядом. Хельга старалась туда не смотреть. Восхищаться и возмущаться было бессмысленно. Время не позволяло. Его становилось все меньше, а круги расстилались все шире. Ноги уставали идти по ним.
Это Ад, это же Ад, шептала себе Хельга, вот и нет дороги назад. Круг замыкался. Вспыхивала ярость. Надо было, раззявив рот, бежать по кругу ярости, а он горел, и пламя лизало ноги, ребра и подбородок! И Хельга бежала и кричала. Никуда не деться. Надо бежать. Спускайся ниже. Все ниже. В глухой черноте, там, куда скатываются круги, тебя ждет безумие. А за ним месть.
Я никому не хочу мстить! Но мстят тебе. Я никого не хочу ненавидеть! Брось, расслабься, ненавидят тебя. А что там, за местью, там, куда валится тесный и душный последний круг?
Там война.
И ты ее участник или ее наблюдатель. Третьего не дано.
А можно, я понаблюдаю войну со звезд? А не из преисподней?!
Мне бы в Аду своего проводника. Старика, мальчика, все равно. Где мои сыновья? После Первого Великого Сражения я их потеряла. Я не верю, что они умерли. Мой муж! Он спустился по кругам вниз - или он взлетел вверх? Какое счастье жить в небе! Зачем мы все спускаемся под землю? Зачем больше Бога нет?
Проводник, да, ей потребен проводник. Она скоро не сможет ходить одна. Она придумала себе работу на почте; почта рядом, но до нее Хельге надо пройти три круга Ада: страх, злобу и ненависть. Прохожие ненавидят тебя. Ты их боишься. А невидимая злоба летит рядом и заливает твои щеки бессильными слезами. Не отчаивайся, народ тоже идет по кругам. Народу весело бежать по кругу. И орать невнятицу. Народ распоясался, он веселится во мраке и радуется боли. Значит, он уже герой.
Хельга шла по кругам, молчала, и это был ее Ад. Все вокруг принадлежало ее страданию. Она сама выдумала себе свой Ад и свой Рай. Иногда это было весело, иногда не очень. Иногда она делилась надвое, а то и натрое, и три Хельги расходились по трем дорогам - искать пропавших во времени сыновей. Иногда ей кричали в лицо: бабка, что печалишься, ты за угол заверни, и там такое увидишь, читай только вывески внимательнее! Она вытирала лицо от брызг чужой слюны и послушно заворачивала за угол. Три Хельги возвращались из странствий по серым кругам, снова собирались в одно старое тело, и одинокая Хельга покорно, вслух, читала исцарапанную ветром вывеску: БОКС. Что такое бокс, спрашивала она себя, это когда мужики морду друг другу бьют или когда больного в одинокую палату кладут? Вывеска молчала, и оконные стекла горели красным закатом. Ей хотелось разбить стекло кулаком, но она не делала этого. Не было полиции, не было наказаний; каждый сам себе был преступление, наказанье и прощенье.
На другой день она все-таки пришла к вывеске БОКС, открыла дверь и сначала провалилась в пустоту, потом вознеслась. Она упала на крупноячеистую сеть, а невидимые люди дернули сеть вверх и подняли ее из тьмы. Чужие руки вынули ее из сети, она, растерянная, напуганная, стояла перед людьми, их лица были закутаны в куски черных и серых тканей, ткань втягивалась во рты, и казалось, что у всех беззубые рты; это было очень страшно. Хельга прижала руки к груди и прохрипела: видите, я старуха, я вам никак не пригожусь, ни для еды, ни для любви. Рядом послышался смешок. И голос: это тайный клуб, все знают о нем, здесь бои, люди сражаются на арене, выживает сильнейший, как встарь. Бокс, спросила Хельга. Бокс, сказали ей. Но я не умею, сказала Хельга. Мы и так видим, смеялись люди в темных накидках, слепые, беззубые и безухие. А почему ты одна, спросил тот же голос, где же еще две твоих бабки? Они знают, что я делюсь натрое, ужаснулась Хельга и развела руками: мол, не знаю. А они тоже, как ты, умеют стихами? Ну, расскажи нам стихи! Я не умею, опустила голову Хельга. Не ври, сказал тот же голос, и голая рука высунулась из-под накидки и наотмашь ударила Хельгу по щеке.
И тогда она начала читать, а ей казалось, что читает кто-то другой, рядом. Кто-то второй, а может, третий.
...Рай! Сияние. Рай! Утроба. Рай! Нечестно изгнали вон. Ни проказы в Раю, ни хворобы, лишь от Змея - яблочный схрон. Рай! Ты плод, Адам. Плод ты, Ева. Вы у Бога - просто плоды на ладони Его: крохи хлеба. Далеко ли тут до беды. Рай! Ты только: не умирай! Позволь-ка… друг… и я… откушу и я… И тебе, и тебе кровавая долька: на Эдемском ковре бытия. В расписном Раю, на раешном краю, в тесто снега вмешаны мы угольком, изюмом… взмеси мою радость - печивом средь зимы! Лютый Ад! Холода. Мой Ад! Навсегда. А я Рай, Рай вижу в тебе - в зеве зеркала: падает косо вода, ветер лупит, соль на губе! Пухнет плод в животе. Да не мы, не те! Просто люди, а пекли-то богов! Иль зверей?.. Не верь красоте, чистоте. Крови вытекло - без берегов. То не честность, а просто жгучий чеснок. Не любовь, а ее испод. Ненавидящий тельник. Месть на зубок. Липкой ложью заклеен рот. Вот он, Ад. И нет дороги назад. А мы рвемся все в Рай, мы рвем… В ряд расставь, Боже, ясных наших ребят! …кого - вусмерть. Кого - живьем. Эта жизнь - котел на огне! Прости! Мы не сдюжим! …но терпим, вот. Ангел хлещет кнутом до жил, до кости. Ева стонет. Держит живот. И Адам - вперед. И вперед, народ. Хлещет ливень! Оба - бегут. От ковра сластей! От пьянящих вод! Где лимонный - златом - салют! От обмана: заман! От перин: зарин! От соленой, горькой зари - где в атаке газовой - лишь один - рвотой адовой - изнутри… Ангел! Глух. Ангел! Дух. Ангел - козий пух. Ангел бьет батогом этих двух - от небес бегущих - колокол: бух! - земляной - с корнем рвется слух.
Не гони нас, Ангел! Мы любим тебя! Исцелуем руки-ноги твои! …поздно. Изгнаны. Вон! Такая судьба.
…на краю. С краюхой любви.
Как ее вытолкнули из дома на улицу, она не помнила. Тихо пошла домой. Одиночество сейчас было уделом всех, даже если человек жил не один. Шла, с ней никто не заговаривал, вечерний город походил на пустую зверью клетку. Ветер грыз лицо, холодил глаза, они слезились. Хельге казалось: у нее из глаз течет масло. И масло пятнает воротник пальто, ласкает и щекочет шею, застывает на щеках смоляными каплями. Однажды, когда еще на земле стоял мир, Хельга видела, как мироточит икона в храме. Она тогда встала перед иконой на колени. И крестилась, и молилась как умела. И так ей было хорошо, светло и сладко. И вдруг дикий страх обнял ее, коленопреклоненную. Мысль ударила ее в грудь: а что, если грянет война? И эта чудотворная икона в пепел сгорит в ее жадном пламени?
Где ты, любовь?
Слезы тогда полились у нее по щекам, как и теперь, на ветру, и она ловила их губами, вытирала ладонями и ругала себя: ах ты, паникерша, ты, заткнись, накликаешь горе, о горе никогда не надо думать, надо думать только о радости!
Ты осталась одна, так иди одна. Ты пьяна без вина, так пьяней без вина. Ты молчишь, и молчи. Ты кричишь? Замолчи. Ты не тоньше, не толще последней свечи. Ты горишь? Так гори. Пламя зри изнутри. Тихо, больно в ночи. Далеко до зари.
Дошла. Открыла дверь железным огромным ключом. Она была опять одна. Всегда одна. Приблудный мальчик не в счет. Прошла в гостиную, нераздетая, села на жесткий старинный стул, обняла себя руками за плечи. Она и сама с собой говорить не хотела. Всё. Закрылась. В ракушку. Дайте мне немного побыть улиткой. Ведь это же так просто. Когда-то на реках строили плотины, чтобы добыть людям свет; плотины прорывала мощная ледяная вода. Вода затапливала землю и людей. Люди тонули и выплывали. Хватали ртом воздух. Люди сейчас тоже хватают ртом воздух, плывут. Каждый поодиночке. Люди не хотят войны. Смерть приходит и без войны. Она приходит просто так, ни для чего. Приходит, и все.
Хельга в тот вечер долго сидела так в пальто на мертвом стуле. Когда она ожила, она пошла в ванную, включила свет и долго смотрела на себя в зеркало. В кранах давно не было воды. Воду Хельга приносила в двух бидонах со старой фабрики, а иногда из чугунной, похожей на обгорелую часовню водонапорной колонки; до колонки было далеко идти, до заброшенной фабрики ближе. Имелись и ведра, да их таскать было тяжело. Она взяла в руки бидон, стоящий на старой стиральной машине, осторожно плеснула драгоценной воды себе в черпачок руки и умылась. Вода замочила воротник и шарф. Хельга сказала себе: я умылась слезами. Отпила из бидона. Вода отдавала железом, ржавчиной.
Я одна, шептала себе Хельга, я одна, а чтобы не быть одна, я завтра пойду на работу, я сама себе ее выдумала, так пусть она будет теперь моя. Я на работе сижу за стеклом все равно одна. Меня уже никто не вылечит. Барби была и ушла. Мальчик был и ушел. Лучше бы он меня как следует поджег, и я бы сгорела, и потом, много лет спустя, когда мой каменный дом разрушился бы и рассыпался в пыль, мои кости расклевали бы птицы. Экие мечты! Стать едой для птиц! Ты не знаешь времени. Не знаешь, что будет с домом, с городом, с Лемурией, с землей; ты знаешь доподлинно только одно: что тебя не будет.
...и она была все время одна
и это было иногда больно, иногда нет
и зачем-то так сложилась жизнь
ни детей ни мужа не внуков
а разве у деревьев есть дети и внуки
а разве у птиц и рыб есть мужья
***
Порог почтамта переступали сторожко, боязливо, будто входили в комнату ужасов. А может, в старинную, забытую комнату смеха. В громадном обшарпанном зале почтамта еще сохранились гигантские зеркала - для того, чтобы не отражать жизнь, а впечатать в нее грязную сургучную, липкую печать сна. Не тоскливой яви, а лунного сна. И чтобы тот сон, сползая по тебе густой липкой кровью, навеки застыл на твоем лице, на глазах, на лбу.
Бетонные колонны, атлантами держащие потолок, наполовину рассыпались. Стояли чудом. Люди, входя, опасливо посматривали на больных бетонных чудовищ. Света не было, телеграфистки работали кто как: кто жег в стеклянном окошке свечу, кто керосиновую лампу, кто втыкал лучину в ком сырой глины.
Хельга сидела прямо и спокойно. Глядела перед собой. Ничего не видела. Вернее, она видела все. Мир проплывал перед ней, тоскливо и тягомотно вращался, медленный, синий, грязный, леденистый, вьюжный, водорослевый, каменный, живой, неживой. Она была огромным глазом, глаз этот так же медленно и важно, как мир внизу, поворачивался в каменной глазнице.
Справа от нее кто-то сидел. Слева от нее кто-то сидел. Иногда вздыхал, скрипел стулом. Работа, которую они, одинокие бабы, сами себе выдумали. Она не видела почтовых работниц; слепая, она глядела зрящими иномирие глазами вперед, и глядела вперед, как назад.
Доносились голоса, будто на пустынном холодном берегу переговаривались редкие рыбаки. И слишком близко возник голос. Он звучал вроде тихо, но подо лбом у Хельги голос взорвался, осыпаясь во мрак водопадом огней.
Она снова стала видеть.
В овальной стеклянной прорези почтового оконца перед ней моталось человеческое лицо.
Хельга не видела, как солдат в камуфляже и с вещмешком за плечами переступил порог почтамта - не робко, как все, а смело и грубо, и, топая, подошел к окну, где незряче сидела она и спала, как лошадь, с открытыми глазами.
Она его увидела сейчас, а ей почудилось, века прошли.
Солдат согнулся, выгнул дугой спину, дернул, как от отвращения, могучими плечами под пятнистой курткой, выпачканной грязью дорог, прислонил нос и расплющил его о мутное стекло.
- Здравствуйте. - Откашлялся. Вынул голос из закромов хрипа. - Эй, эгей! Здравствуйте! Вы что, меня не узнаете?
Хельга подслеповато всматривалась в живую небритую, мечущуюся в холоде белизну за стеклом.
- Нет.
Смущалась, как девочка, увидевшая в забытом нужнике плохую надпись.
- Да вы что! А я вот вас сразу узнал. Ну, знаменитая ресторация на набережной! С осетрами! Со стерлядями! Вы там еще расскандалились. Ну, не вы, а может, кто другой! Сейчас уж не вспомню. А вас - запомнил! Вы там такая красивая блистали! Ну, луна среди звезд!
- А вы-то кто?
Ей было по-настоящему стыдно.
- А я - вышибала! Бывший! Мальчишкой туда устроился! По знакомству! Там сто лет оттрубил, в ресторане. Ну, не сто, конечно; до Первого Сражения. Меня нынче, да, не узнать. - Общипал на себе пятнистую куртку на меху. - Я нынче солдат.
- Солдат?
Голос Хельги пытался не сорваться.
- Ну да! Еду на войну.
- А разве война идет?
- Война идет всегда.
Она приказала себе: не спорь с этим.
- Вам куда телеграмму?
- Мне-то? А в Город двести, Гондвана-Квадрат-сорок-семь. Экипировался. Выезжаю. Доберусь до Города пять, Лемурия-Квадрат-девятьсот-шесть, погружусь на корабль. Все. Конец. Отбивайте!
Рука Хельги сама, бойко и нервно, затарахтела аппаратом. Алфавит Морзе рассыпался лягушачьим бисером на весь зал.
- Все? Спасибо. Ловко у вас выходит! - Искал глазами призрак часов на бетонных панелях и колоннах. - Времени, проклятье, нет давно. Вы тут долго еще будете торчать?
Хельга поджала губы.
- Допоздна.
- И не боитесь домой - потемну?
- Боюсь.
- Знаете что. Финита ля комэдиа. Закругляйтесь. Я вас провожу.
И выгнул руку колесом, изображая мертвую галантность.
Хельга не стала спорить. Одеваться ей не надо было - на почте она и так сидела в пальто, сберегая вокруг себя жалкое мышиное тепло. Она встала, накрыла аппарат Морзе обтрепанным кожаным чехлом, положила в деревянный ящик бумаги и казенный карандаш, выбрела в зал из почтового своего закутка и поежилась.
- Вас как зовут?
- Макар. А вас... стойте, вспомню...
- Хельга.
- Очень приятно.
- Не врите. Неприятно вам.
Оба делали вид, что смеются.
- А почему у вас имя, не как у всех в Лемурии?
- Чтобы не забыть свой род. Я нарочно оставил. Меня вызывали к властям. Ругали. Даже оштрафовали, когда еще деньги были. Потом плюнули. И я на них плюнул.
- Понятно.
- Так деда моего звали.
Они миновали дремлющего на табурете сторожа и вышли из почтамта на улицу.
Теперь поежился Макар. Поднимался ветер, пел высоко и тоскливо.
- А теперь все эти почтамты... магазины, школы... ну... закрываются? Ну, на замки?
Хельга посмотрела на солдата ласково и сочувственно.
- Неужели вы не знаете? Конечно, нет. Красть нечего. В магазинах давно ничем не торгуют. В школах никто никого не учит. В больницах врачи исчезли раньше, чем больные. А почта - что почта? Кому нужны телеграфы Морзе?
- Видать, нужны. Вот мне!
Она замолчала. Шла молча.
Солдат Макар взял Хельгу под руку.
- Что вы так задумались?
Он приноравливался к ее медленному, вязкому шагу.
- Вспомнила, как я лежала в больнице... после Первого Великого Сражения. Врачей там уже не было. Мы сами себя лечили.
- Больные?
- Ну да, больные. А вы не врете, что война идет? А где?
- Далеко, отсюда не видно.
- Вы как ребенок в песочнице отвечаете.
- Я и есть ребенок. Мне больше некем становиться. Я побыл мужиком, вышибалой, немного актером погорелого театра, рыбаком, солдатом, стариком, даже мертвецом побыл. Меня из смерти выдернули. Теперь осталось стать ребенком. А потом - зародышем. Ха, ха.
Он хохотнул зло и коротко, будто отрубил топором хвост у щенка.
На миг замерли около Хельгиной двери.
Хельга рылась в кармане. Вытащила ключ.
- А здесь у вас есть замок. Здесь не на почтамте.
- Да, здесь не на почтамте. Если дверь открыта, могут зайти, разломать мебель и уволочь на дрова.
Сели за стол. Локти встретили голые ледяные доски. Солдат выдохнул. Изо рта выпорхнул и завился табачным дымом пар.
- Морозно тут у вас.
- Я утром не топила.
- Как на улице.
- Сейчас будет как дома.
- Погодите. Смотрите.
Макар спустил с плеч ремни вещмешка. Запустил в мешок руку. Вынимал из мешка и ставил на стол банки, склянки - со стуком, свертки швырял небрежно, а какие и к столешнице грубо припечатывал. Запахло жареным, копченым. Хельга глядела, расширив глаза. Солдат выложил из мешка все, что в нем лежало, и весело взвесил его, пустой, на мизинце.
- Полегчал. Это - вам!
- А вам?
Губы у нее дрожали.
- Ну ладно. Это - нам.
- А с собой?.. вам же далеко...
- Ну хорошо. Что останется - возьму с собой.
- Останется много... я же ем мало...
Она с почти священным ужасом и восторгом разглядывала банки с тушенкой и шпротами, свекольник, морскую капусту за грязным стеклом. Солдат развернул твердыми, неловкими деревяшками пальцев вощеную бумагу. На свет выглянул кус бледно-желтого, воскового мяса.
- Буженина, - горделиво изронил Макар.
- Вы... откуда это все?
- Думаете, ограбил кого? Нет, успокойтесь! Моя тетка готовила. Сама. У нее в деревне осталась коптильня. И она при мне свинью заколола. Она свиней разводит. И этим живет.
- А чем она их... кормит?
- Чем попало.
Он нырнул рукой под куртку, внутрь серого дымного меха. Вытащил из-за пазухи маленькую пузатую бутылку.
- За нормальное знакомство, Хельга... как по батюшке?
- Никак. Теперь батюшек нет.
- Ну и ладно. Без них тогда.
Хельга глядела, как солдат разливает коньяк по щербатым чашкам.
- Мы по чуть-чуть.
- Да. Я давно не пила... вина... Целый век.
- Бросьте себя старить! Вы очень даже еще молодая.
- Бросьте так шутить.
- Я не шучу. Ну, накатим!
Хельга подняла чашку. Рука ее ходила ходуном. Они чокнулись, она выпила. И не заметила, как выпил он.
- Ах...
Солдат уже совал ей в рот кружок буженины. И когда успел отрезать?
Все делал ловко, быстро, невидно-неслышно. Как призрак.
Хельга вцепилась зубами в мясо, как зверь. Жевала мясо и плакала. Слезы лились стыдно и густо, залили все лицо.
Сильно пахло коньяком. Коньячными, пьяными слезами.
Солдат Макар тоже ел мясо. Откуда-то явился настоящий хлеб, целый мощный кругляш; Хельга, приоткрыв рот, смотрела, как солдат, прижав каравай к груди, режет его военным ножом.
- Откуда... хлеб?
- Да тоже от тетки. Она сама сеет рожь... сама жнет... серпом... молотит сама... Одна...
- Одна, - эхом повторила Хельга.
Она взяла в руки кусок хлеба, вдыхала его, целовала, измочила в слезах.
- Что вы-то тут жрете?
Она не обиделась на грубое слово.
- Что придется. Я вот недавно на площади выменяла старинный гребешок на пакет картошки.
- Небось, гнилой.
- Ну а вы бы как хотели.
Стала есть хлеб и продолжала плакать.
Солдат улыбнулся, вытер ей слезы обшлагом гимнастерки.
- Ну, хватит. А то я сам заплачу. Ешьте, пейте.
Обвел рукой стол. У Хельги зарозовели щеки и заблестели глаза.
- Я чайник поставлю.
- Сидите! - Рассматривал ее голую комнату. - А снимки - ваших?
- Да. Моя семья.
- Живы? Простите, если что.
- Не знаю.
- Это хорошо.
Сам собой рождался разговор.
Солдат открывал консервные банки стальным крюком военного ножа. Хельга глядела изумленно; внутри толстого, как огурец, ножа чего только не было: и консервный нож, и щипцы, и шило, и тонкий скальпель, и ножницы. И что-то еще, она не рассмотрела. Пахло и этим, и этим, и еще вот этим, и Хельга опьянела от запахов.
- А почему у нас ничего не знают о войне?
- Не положено. Мы много чего не знаем.
Макар жевал вкусно, мощно. Налил себе еще коньяку в чашку.
- Вам?
- Нет! - Она замотала головой. - Я же на пол свалюсь! И умру.
- Бросьте так шутить, вы еще крепкая.
Хельга пальцами достала из банки парчовую шпроту. Масло капало на голые, сиротские доски стола. Хельга по-зверьи ухватила шпротину зубами. Макар на ладони вежливо поднес ей соленый помидор.
- Это все от тетки?
- Да. Из ее погреба.
- Хорошо живет ваша тетка!
- Это еще довоенные запасы. До Первого Великого Сражения.
Хельга утерла масленый рот ладонью, уперлась локтями в стол и воззрилась на солдата.
- Вот вы солдат. Вот скажите мне. Война, она еще будет? Ну, после того, как вот эта... где-то далеко, где, не знаем... закончится?
- Обязательно.
Он тоже вынимал помидоры из банки пальцами. Широко разевал рот, ловил ртом соленые красные шары.
Хельга хотела говорить достойно и важно, вежливо, но вместо этого ее подхватило и закрутило, будто она сама тоже сражалась с кем-то страшным и неотвратимым, или кто-то, много сильнее ее, крутил ее в ловкой громадной руке острым и тяжелым ледяным мечом. И она сверкала, и от ее сверкания слеп и терял сознание тот, кто сидел рядом.
- Война, война! Мы жили в мире и не ценили мир. Вот вы налили мне коньяк. А я забыла его вкус. Его запах! Я с ума могла сойти от его запаха! Коньяк, он был в мире. И все остальное, прекрасное, пьяное, к чему мы привыкли, было в мире. Любовь. Близкие. Война съедает все. Война, это преждевременная смерть. Вы скажете: все равно все умрут! Но я, пока живу, я не знаю, что такое смерть! И не хочу знать, до самой смерти. А война, она глядит мне в лицо, как в зеркало, и цедит сквозь зубы, мотается череп ее передо мной: ты, вот я - твоя смерть, ты даже можешь посмотреть мне в лицо, я же так похожа на тебя! И я смотрю. И тьма-тьмущая людей смотрит. И мы видим войну, и она - настоящая. Настоящее. А прошлое?
Макар накладывал на кусок хлеба куски буженины.
- Что - прошлое?
- Где прошлое? Наше прошлое?
Солдат откусывал от куска и медленно жевал. Глотал. Взял чашку и грел ее в ладони. Согревал телом коньяк.
- А прошлого нет.
- Как же нет, когда оно - вот? - Хельга показала на висящие на стене фотографии. - Оно даже отпечатано. Оно не только память. Оно - вещи... дети...
- Вещи сгорают. Дети умирают, - сказал солдат с набитым ртом.
- Нет! Прошлое есть! Мы можем о нем говорить. Вспоминать его! А вот скажите... почему люди никогда не говорят о будущем?
Солдат дожевал, проглотил и усмехнулся.
- Потому что будущего нет.
Макар убрал невскрытые банки в вещмешок. Хлеб, буженину, овощные консервы и свекольник оставил Хельге. Хельга невнятно, путано поблагодарила его, а потом зачем-то пьяно, слезно прошептала ему стихи. Он спросил: что это? Она ответила: стихи. Он спросил: чьи? Она закрыла глаза: мои. Он помолчал. Недолго сидел, отдыхал. Хельга думала: поспит. Нет, встал из-за стола легко и быстро, будто бежать собрался. Хельга проводила его на непонятную далекую войну, как мать сына: положила руки ему на плечи и долго глядела в глаза, а потом крепко обняла. И выпустила, и опять в глаза глядела. Глаза у солдата были чистые, честные, светло-серые, стальные.
Солдат сначала пятился к двери, потом повернулся к Хельге спиной и сделал три крупных шага. Ключ издал противный скрип и скрежет.
Хельга долго глядела на голую закрытую дверь.
***
Однажды за дверью заскреблись. Хельга испугалась: крысы! Подкралась к двери на цыпочках. Из-за оконных стекол донесся слабый шум: проехала машина. Автомобили еще оставались у людей, их становилось все меньше - исчезали запасы бензина. Под солнцем и ветром ржавели остовы автобусов, "феррари" и "пежо". Кто-то маленький там, под дверью. Зверек? Может, кошка?
Кошек в городах всех съели. Как и собак. И голубей. И воробьев. Может, у кого-то они и оставались; но голод, понятно, не тетка. Как можно съесть друга, туманно думала Хельга, как можно... как... можно все равно...
За дверью заговорили. Скорее, запищали. Хельга прижала ладонь ко рту.
- Тетенька!.. Ты не думай... я не такой!.. Я прощенья!.. попросить...
Она стояла, крепко прижав руку ко рту, без мыслей, без чувств.
- Тетечка!.. открой... я тебе... пожрать принес...
Рука сама открыла, за нее, вместо нее.
Мальчик, поджегший ее дом и ограбивший ее, стоял на пороге. Он как будто стал меньше ростом. И правда походил на зверька.
К груди он прижимал огромный сухарь.
- Можно, тетечка... я у вас буду жить?
...и Хельга взяла его к себе жить.
Ты знаешь что? Ты добрый. На самом деле добрый! А ты думаешь, ты злой. Зачем так думаешь? Много ли ты украл? А может, ты убил кого? Убил? Да? Да. Убивать нельзя. А почему это нельзя? Убивают, чтобы самому остаться живому! Разве? А по-другому нельзя остаться в живых? Может, можно?
Мальчишка сидит напротив Хельги. Руки расставлены. На руках распялен старый Хельгин свитер. Мальчишка держит свитер, а Хельга распускает его. Она быстро сматывает ветхую серую нитку в кошачий клубок. Мальчик смотрит завороженно. Он впервые видит, как это делается.
Ты больше не будешь убивать.
Я больше не буду убивать! Ой, нет, буду. Я не могу так быстро...
Отвыкнуть?
Да. Переделаться. У меня сейчас как будто дырка внутри образовалась. Будто крыса прогрызла. И из меня что-то выходит. Как воздух, ха-ха. Утекает!
Из тебя выходит зло.
А ты что, тетечка, такая уж вся насквозь добрая? Сладкая вся, как... как...
Как сироп?
А что такое сироп?
Ну, как сахар.
А! Сахар! Сахар я помню. Мне бабка его однажды давала, зимой! Лютый мороз, аж стекла оконные трещали, а бабка выдумала какой-то, как его, праздник. Откуда-то колючую ветку приволокла. И ветку эту, колючку, в вазу поставила. В хрустальную! Я потом эту вазу у бабки украл и на площади на репчатый лук выменял. А под ветку эту, под иголки, поставила две фигурки, сама из пластилина слепила, тетку и мужика. Поставила, ветку нюхала и так плакала! Так ревела, что я ей крикнул: бабка, брось реветь, ты же сама сказала, праздник, а сама хныкаешь! Она плакать перестала, и мы ели сахар из блюдечка. И еще на тот праздник колючей ветки моя старуха изжарила мне настоящие блины! Ты вот знаешь, что такое блины? Не знаешь!
Знаю.
Для них нужна мука.
Знаю.
И еще кое-что. Я забыл.
Знаю. Масло, сырое яйцо и молоко. Или сметана.
А что такое сметана?
Ее делают из молока. Если доживем до лета, поедем в деревню, там некоторые люди еще держат коров. Я покажу тебе корову. Если повезет. Если те люди все не умерли, и коровы не умерли.
Тетечка, ты не бойся смерти, она хорошая. Мы умрем и мучиться не будем.
Знаю.
Холода созревали и падали на испуганную землю, как громадные снежные яблоки. И разбивались на тысячу осколков, летели в стеклянные бельма, в выбитые окна, в сожженные двери, в бетонные слоновьи ноги изгрызенных пулями и снарядами колонн. Хельга, перед тем как уйти на почтамт, бродила по утренним улицам и собирала дрова. Она собирала их, как грибы, в большую корзину. Кряхтя, приволакивала домой. Мальчик мирно спал. Она будила его. Он раскрывал мутные ртутные глаза и шептал: прости, тетечка, что я тебя поджег, - и глазенки становились нежными и прозрачными. Прежними. Вчерашними.
А может, завтрашними, она не знала.
Они вместе топили буржуйку. Хельга закладывала в зевло печки сначала тонкие палки, щепки, отломанные ножки столов и буфетов. Потом брала с полки очередную любимую книгу. Зренье ее гасло, она уже с трудом разбирала буквы и цифры, а сноски и мелкий шрифт вообще не различала. Она садилась перед буржуйкой на корточки, вырывала из любимой книги страницы и заталкивала вниз, под деревяшки. Мальчик уже подавал ей синий спичечный коробок величиной с голову ребенка. Хельга чиркала великанской спичкой, огонь вырывался у нее из пальцев. Мальчишка, как заколдованный, глядел на огонь и шептал: тетечка, зачем я тебя тогда поджег, а знаешь, не тебя первую, я у многих так вот воровал, а потом их поджигал и убегал, я умею это делать очень ловко, они все сгорали в огне, ну, кого я поджег, а с тобой почему-то это не получилось, я как-то почувствовал, что ты не сгорела, поэтому и пришел.
Огонь обнимал дрова. Хельга улыбалась. Всовывала деревяшки в печь. А я о тебе тоже думала. Я тебя жалела. Вы меня пожалели, потому и открыли? Нет. Не поэтому. Я испугалась, что ты уляжешься под моей дверью, уснешь и замерзнешь.
Ты добрая!
Я не знаю, какая я. Я - сама своя.
А тебе не жалко эти бумажки, в толстых корках? Что это?
Это книги.
В них бегут черные жуки! Пауки!
Это буквы.
Что, что?
Буквы. Грамота. Алфавит. Я научу тебя грамоте.
И она учила мальчика грамоте. Это оказалось не так трудно, как она думала. Но и не так легко. Важно было повторять и объяснять, а потом опять повторять. Через малое время мальчик уже мог угадывать буквы и писать их веткой на снегу. Выпал первый снег, они выходили из дома и вдыхали прохладный воздух; из-за снега гораздо меньше пахло гарью, чем обычно, и пепел разрушенья не так щекотал ноздри. Мальчишка отламывал мертвую ветку от мертвого дерева, его корни были упрятаны под круглую решетку, и писал на снегу: КОТ. А потом чертил: ТОК, - и смеялся. Видишь, тетечка, если буквы перевернуть, получается новое слово!
Он еще знал, что такое ток. И кто такой кот.
Скоро никто этого уже никогда не узнает, думала Хельга.
***
В базарный день они оба ходили на площадь. И сегодня пошли; Хельга не любила базарные дни, в эти дни площадь превращалась в каменный котел, там булькало и кипело людское варево. Тебя могли смять, задавить. Пройти по тебе, как по дороге, и ногами сломать тебе ребра, наступить сапогом на лицо и вдавить в череп нос. Зато в эти дни все смело меняли одно на другое, и можно было старинную ненужную вещь обменять на съестное, насущное. Меняли и еду на еду; но у многих давно уже не было никакой еды, еда водилась или у очень запасливых, или у жадных, или у воров, или у тех, кто ее еще сам рождал на свет. Родителей еды становилось все меньше, они исчезали быстро: пекари, рыбаки, мясники вымирали, а на смену им приходили полчища воришек, они крысами разбегались по городу, а потом, в базарный день, с лишнею поживой шли на площадь - меняться.
Хельга держала мальчика за руку.
- Сынок, не холодно?
- Нет, тетечка! Видишь, я шарф на свалке нашел!
Мальчишку звали Роберт, но Хельга звала его: сынок.
Люди толкались и ругались. Речь превращалась в лай. Мешались языки, и из недр толпы прорывался один язык: он состоял из криков и хохота. Через всю площадь был натянут толстый ржавый корабельный канат. К канату прицепили бельевыми прищепками длинную красную тряпку. Над тряпкой дергался, плясал, кланялся, падал и умирал и вдруг опять вскакивал тряпичный человечек в красном островерхом колпаке.
- Люди-люди-и-и-и! Селедки на блюде-е-е-е! Налетай, не зевай, побыстрей убива-а-а-ай! Добыча тебя жде-о-о-от! Не трусь! Вперед!
Хельга сильнее сжала руку мальчишки.
- Тетечка! Слышишь! Даже Петрушка призывает - убей! А ты-то зачем мне запрещаешь! Я бы вот лучше голубя подстрелил и нам на обед принес!
- Из чего бы ты его подстрелил?
- Из рогатки!
- А где бы ты его увидал?
- Да где хочешь! Недавно видел! В старом парке... за рекой!
Петрушка дергался, мотал тряпичными руками и ногами. Хельга и Роберт зашли за красную ширму с другой стороны. Старый, высокого роста кукольник горбился, чтобы его голова над красной тряпкой не торчала, и тряс рукой, на которую была надета разбитная кукла. Старик визжал, плакал, хохотал и захлебывался. Важно было ни на миг не умолкнуть. Площадная публика в базарный день и веселая, и злая. Если замолчишь - враз разорвут. А так, если орать во всю глотку, они тебя любят. Пока - любят. Но могут и возненавидеть. Толпе непонятно что в голову взбредет.
Внутри Хельги внезапно начала раскручиваться странная пружина. Она выпустила руку мальчика и, сама не зная, что делает, выскочила к ширме. И заголосила.
- Ах ты, мне сегодня счастье! Дорвалась и я до власти! Я прикончила корову - значит, буду я здорова! Я убила мужика - сняла оба сапога! А потом, а потом... голубя сожру живьем! С перьями и пухом! Такая я старуха! Ни кожи, ни рожи, на кочергу похожа! Ни голоса, ни слуха, а жужжу, как муха!
Визги прорезали воздух.
- И-и-и-и-и! Смерть люблю вот так!
- Давай, давай, голоси, бабка, нас потешай!
- Можешь и не в склад не в лад, поцелуй быка в зад!
Мальчишка глядел изумленно.
- Ох, тетенька...
Хельга закинула руку за голову, подбоченилась, вопила и правда уж нескладную несуразицу:
-
Ей из толпы бросали куски, кости с мясом, сухари. Она подняла подол юбки и ловила еду в подол. Мальчишка собирал еду под ногами у людей. Клал в подол Хельге.
- Тетечка... живем! Да ты... оторви и брось!
Кукольник задвигал пальцами, и Петрушка над алой тряпкой забил в тряпичные ладоши.
- Ух! Ух ты! Браво-о-о-о-о-о! Старухе слава-а-а-а!
- Тетя, - дернул мальчишка Хельгу за юбку, - а что такое брава?
- Отстань... потом...
Кукольник выпрямился над ширмой. Издалека всем стала видна его голова, белые пряди метелью вились по холодному ветру.
- Ты это, бабулька, давай сюда приходи, на площадь, в базарный день, будешь работать со мной! Тебе много жратвы в подол накидают! Мне такая напарница нужна!
Хельга оборвала пение. Щеки ее медленно краснели. Стали цвета красной тряпки. Может, на ветру.
- Спасибо! Я подумаю.
- Она еще думать будет!
Ни она, ни кукольник, ни мальчишка не видели в толпе, среди месива лиц, одно лицо; в морщинах, надо лбом дым седых кудрей, седые патлы торчат в стороны, а может, это парик прошлых, убитых веков, забытый театр, невнятная музыка, робкая и звенящая, стрекозы клавесина, воздух пудры и пачулей, никто не знает ее имени, а может, это мужчина, разве в парике кого угадаешь, разве играют в старину, стариной живут и, вдыхая ее, умирают - на площади, на подмостках, за красной тряпкой, и чтобы красным прикрыли, и чтобы на досках, на жестких дровах, на сонных больничных носилках, в иную печь унесли.
Никто бы не мог назвать по имени обладателя парика; и никто не понял, голоден, голодна он или она; ветер рвал парик с головы, сморщенные руки еле удерживали его на темени. Волосы - дым. Время - дым. Поплачь над ним! Убегай! Или - убивай. Это одно и то же.
...на кого ты похож... похожа...
Идут. Хельга - с мальчишкой - домой: и ей Петрушка дал еду! И сыночку!
Человек в дымном парике - тихо, нежно - за ней.
У человека есть ноги. Они идут.
Идут. Ноги идут.
У зверя есть лапы.
Бегут. Лапы - бегут.
Или крадутся. Осторожно. Тихо. Тишайше.
Тише последнего слова, что каждому придется вымолвить. Выдохнуть.
А ты знаешь, какое будет твое последнее слово?
Не знаешь? Боишься о нем подумать. И правильно. Не думай, пока живой. Может, это будет не слово. А выход. А вой. Просто длинный, долгий волчий вой. И больше ничего.
Следить. Выслеживать. Копить злобу.
Злоба, это же тоже пшено, рис, вожделенная крупа. Собирать ее по крупицам. Это овес, злоба, из нее можно сварить утром такую жадную, горькую кашу! Не наешься. Только слезы зря прольешь. Едой не надо наедаться. Еда - для того, чтобы не забыть, что рядом тот, кто воистину голодает. А ты ешь, и ты плачешь. Ты никогда не ел своего хлеба со слезами. Так ешь теперь. Это полезно. Слезы вместо воды. Вместо вина.
Жизнь у тебя одна. Да и смерть одна.
Вот как свиделись. Да ты жива. А я дышу едва. Мысли мотались в клубок: да ты уже давно копыта откинула. Всяк одинок! Человек человеку - Бог?! О, вранье! Жизнь, как и не было ее. Слишком рано наступил ад. Настоящий; нет дороги назад.
***
...на другой базарный день Хельга с мальчишкой пришли - петь и плясать.
- Тетечка, да я того старикашку знаю!
- Кого?
- Петрушечника! Я ж ему все время помогал ширму растягивать! Он мне за работу сухарь давал. А еще сказал, если буду все время ему помогать, он мне, как это, во, да, подарок даст! Он мне - куклу обещал! Настоящую! Может, даже Петрушку мне сделает!
Голоси, Хельга, голоси. Пощады не проси! Голос твой еще звонкий, далеко летит. Да и ты сама издали еще неплоха на вид! Издали не видать твоих морщин. Издали летят в тебя взгляды мужчин! Давай, надрывайся, шути, пой! Народ, гляди, уже поет с тобой!
Люди и правда орали вместе с Хельгой ее припевки.
- Голая правда - как голая баба!
- Ты ее схвати и утащи хотя бы!
- В логово свое!
- Стащи с нее последнее белье!
- Крепче ее, правду, обхвати - и задуши, чтоб не стояла у тебя на пути!
- И косточки ее схрусти!
- Ха, ха! Кто ж из нас без греха!
- Голая правда, очень даже на вкус неплоха!
Человек в седом громадном парике, не понять, мужик или баба, выскочил к красной тряпке. Поднялся ветер. Тряпка моталась на ветру. Ветер рвал ее и терзал, высоко поднимал, как старый флаг.
- Я лучше могу! - крикнул ряженый в парике и оттолкнул Хельгу.
- Валяй! - откликнулись сотни глоток.
- Трубы, трубы, задудите! Погремушки, загремите! Я сейчас вам такую пляску спляшу... а взамен жратвы у вас попрошу! Все чушь-чепуха! Нет никого без греха! Припустит дождь, от кровищи не уйдешь! Сажа и дым - жареный налим! Дым и сажа - капуста и спаржа! Жри, да не умри! Житуха отменная! А я повитуха обалденная! В ушах моих воет ветер... земля, дура, роди нам последнюю гибель на свете!
- Ах, черт! - завопили люди. - Это уж мы слыхали! Это уже нам тут - вон она пела! - На Хельгу показывали. - Она лучше пела! Потому что она - первая! А ты что ее перепеваешь! Нам повторы не нужны! Нам - свежатинку подавай!
Человек в парике беспомощно оглядывался туда, сюда.
- Ты давай нам что поплоше! Погаже! Мы - любим гадкое!
- Что, гадости не можешь?! Нас - гадости веселят!
Человек в седом парике набрал в грудь воздуху. Его голос был визглив и зверин.
Голося, он показывал в кривой улыбке почернелые зубы.
- Все вы грязные волки! Все вы - драные коты! Жить вам всем недолго! А первым умрешь - ты!
Человек в парике выбросил вперед узловатый палец. Указал на дядьку, что, подобно Петрушке, мотался, как на шарнирах, у красной тряпки.
Дядька вытаращил глаза.
- Что-о-о-о?! Ты мне... ты - меня?! Да я тебе...
Дядька мощно, неуклонно двинулся на человека в парике.
В толпе засвистели. Еще, и еще. Скоро человека в дымном парике уже освистывала вся толпа, все больше разъяряясь.
Свист вонзался в уши, иглами лез под череп.
- У-лю-лю-лю!
- Гони его!
- Да что там! Терзай его!
Человек в парике оглянулся затравленно по сторонам и пустился бежать с площади. Хельга стояла недвижно, фигурой, высеченной изо льда. Петрушечник вышел из-за красной тряпки и тоже провожал дым парика глазами. Мальчишка Роберт приплясывал около ширмы, надев Петрушку на руку. Петрушка ему кланялся. Мальчишка ему скалился. У мальчишки зуб на зуб не попадал. Он сильно замерз. Промерз до костей.
***
Хельге часто казалось: она смотрит в чашку, а будто в озеро, и там водоросли шевелятся, на дне. Она часами могла смотреть на это шевеленье водорослей. Потом били стенные часы - она не забывала их заводить, для нее завести часы было все равно что дышать. И она просыпалась. Сон наяву улетал. Водоросли взмахивали зелеными, ржавыми перьями, становились легчайшими потусторонними крыльями и поднимали в воздух плотное, смертное тело воды.
Она приходила на площадь не в базарный день - и видела: редкие люди снуют по пустоте туда-сюда, не видят друг друга, не видят ее. Еще видела: петрушечник тут, только без красной занавески; сидит под водосточной трубой, перед ним корзина, в корзине тряпки, лоскутья, клубки, иглы, огрызки карандашей, и он мастерит новую куклу. А может, латает старого Петрушку. Сломалась у Петрушки рука, нога, старый ведь все-таки. Иногда перед кукольником, скорчившись, сидел мальчишка; он глядел и ждал. Ждал обещанной куклы. А может, еды. А может, просто ждал времени, когда оно возьмет и скрутится в трубку старой, желтой, сожженной с четырех сторон бумагой.
Хельга стояла и тоже ждала. Кто кого переждет. Она была терпелива и безропотна. Но у нее замерзали ноги в сапогах давнего мертвеца. Она стукала ногами друг об дружку, вздыхала, потом сожалела, что не научилась у Барби свистеть. Она просто хлопала в ладоши - раз, другой. Сама себе аплодировала. Кукольник и мальчик оба, враз, поднимали головы. Хельга махала мальчишке рукой: сюда, сюда! Однажды он вскочил, а кукольник быстро сунул ему в руки цветное, горящее. Мальчик, как жеребенок, прискакал к Хельге, смиренно стоящей на закраине площади, прыгал на одной ноге, размахивал в воздухе красным, ярким:
- Подарил! Подарил! Подарок!
Он сунул ей к носу куклу. Петрушка, как и было обещано; и в красном остроклювом колпаке.
Хельга взяла куклу в руки. Разглядывала и молча восхищалась.
- Ну как?! Что молчишь, как рыба?!
- Чудесно, - выдавила Хельга, улыбнулась широко, во весь рот, и опять слезы потекли.
Они текли все чаще из запавших под лоб печальных, как у брошенной собаки, глаз.
- Вот и я говорю!
Петрушечник издали помахал Хельге рукой.
- Эй, Роберт, - она сама не знала, почему об этом спросила, - а ты чей сын? Да... чей внук?
- Твой, - тут же нашелся он.
- Нет. Я по правде спрашиваю.
- А что она такое, твоя правда? Правды давно уже нет.
Опять заскакал на одной ножке. Подбрасывал Петрушку в воздух.
- Мой! Мой!
- Да твой. Пошли домой.
Она крепко взяла его за руку, и они пошли прочь с площади.
Дома Хельга первым делом растопила печь. Мальчишка сел поближе к горячей буржуйке и о чем-то стал увлеченно думать. Хельга наблюдала за его меняющимся, как песок под ветром, лицом. Потом он бросил думать и попросил:
- Тетечка, дай мне нитки, иголку и заплатки.
- Какие заплатки?
- Тряпки разные. Ну, старые. У тебя разве нет?
Хельга вынула из шкафа две старые кофты, разрезала их ножницами на лоскуты. Швырнула мальчику катушку ниток, клубок шерсти, бархатную подушечку с воткнутыми в нее иглами. Бархат поела моль. Мальчишка поймал все брошенное, крикнул:
- Здорово!
- Куклу будешь мастерить? - кинула ответный клич Хельга.
Оба перебрасывались улыбками.
- Как ты догадалась, тетя.
- Слушай. Ты зачем меня поджег? Хотел, чтобы я сгорела? До косточки? Умерла?
Смутился.
- Я так всегда делал. По привычке!
- Любишь огонь? И огонь любит тебя?
Опустил голову.
- Как может огонь любить?
- Огонь живой. Может.
- Чушь какая. Тетечка, ты что, балда?
- Нет. Ну ты давай, давай. Делай куклу. Я тебе не мешаю. А кого будешь делать? Петрушку?
- Еще не знаю.
- Делай кого хочешь.
- А меховинок старых, ну, от шубы, от воротника там, у тебя нет?
Затих. Резал ножницами, слюнявил нитки, продергивал иглу в обрезки старой ткани - шелк, батист. Путал нарочно густыми кудрями белую шерсть. Крепко пришивал к тряпичной, мотающейся голове. Стегал, приставлял к тряпкам пуговицы, еще попросил у Хельги ваты, и она нашла вату в старой коробке из-под елочных игрушек.
Поздно вечером, когда за окнами ветер взвил колючую, изобильно нападавшую на мышиный асфальт и угрюмые развалины снежную крупку, Хельга осмелилась, неслышно подошла и посмотрела на мальчика. Он сморился, уснул, привалившись спиной к черному железному теплу буржуйки. Подле него валялась кукла - в длинной торжественной юбке, с седым неряшливым коком надо лбом. В руках спящий Роберт держал еще одну куклу.
Серого волка.
С мордой голодной и длинной, как жизнь.
***
На другой день они оба пошли на площадь - это был опять базарный день, и люди становились все голоднее и жесточе, и кричали все громче и неистовее, и плясали все наглее и веселее. Еда у многих заканчивалась, а значит, кончалась и мена. На еду можно было выменять только свою оставшуюся жизнь, но она никому не была нужна. У кукольника еще водилась еда, и он мог расплачиваться с Хельгой за ее припевки сухарями и сушеным черносливом, старыми галетами и настоящими деревенскими солеными огурцами. Все это добро ему бросали из толпы - за кривлянье Петрушки над красной метелью тряпки. И он мог делиться едой с Хельгой и мальчишкой. А вы что, прошлое забыли?! А, да нас же на войне не убили! А что лучше, скажи, жить впроголодь или под забором сдохнуть?! Ни сесть, ни встать, ни лечь, ни охнуть! Ах, каждый из нас железное колесо... Крутится, катится, всех давит, и гибнет все! А я одна только и осталась жива - и вот кричу вам на ветру последние эти слова!
Старик-петрушечник все пристальнее смотрел на Хельгу. Все чаще гладил мальчишку по голой голове. Однажды приволок ему шапку: надень, пострел, уши замерзнут! Мальчик надвинул шапку на брови, она была ему велика. Кукольник смеялся. Хельга сказала: я ее ушью. По голове посажу. Народ обтекал их, как живой остров, гомонил вокруг, а они, трое, едва слышали этот цветной, пестрый гул; из площадного шума можно было сшить еще одни лоскутные штаны Петрушке, да ему пока одних хватало.
Наступил день, когда петрушечник отважился. Он скрючил палец и зазвал Хельгу за красную ширму. Одна его рука была подняла в воздух, над красной тряпкой беззвучно бесился и хулиганил Петрушка. Старик пристально смотрел на Хельгу. Она поняла: сейчас он скажет то, к чему долго готовился. И надо будет ответить так, чтобы его не ранить, не убить.
- Я давно хотел... Нет, не так. Наплевать на меня! На мое хотение! Вот хочешь ли ты? Я вас полюбил обоих. Ну, ты не смейся! Сейчас не любят. Люди теперь ненавидят. Но я, видишь, старик. Я - еще - люблю. Я знаю, что это, любить. А все забыли. И ты что, тоже забыла? Тогда прости. Больше ни слова!
Повернулся и мертво, молча глядел на красную тряпку.
И все двигал, двигал пальцами. И дергался Петрушка.
Кукольник обернулся быстрее вспышки. Хельгу поразила насквозь высвеченная запоздалой болью, страшная глубина его слишком светлых, как лед, глаз.
- Хочешь, будем вместе горе мы терпеть!
Хельга стояла, будто на нее сверху, из далекой небесной дали, забытые ангелы сыпали, все высыпали и высыпали из черного полночного мешка серебряные звезды, звезды.
Она сделала шаг к старику и, приблизив лицо к его лицу, тихо пропела:
- Хочешь... будем песни... под шарманку... петь?..
Молчали оба. Петрушка болтался над красной вьюгой.
Подскочил мальчишка, забежал за ширму и заблажил:
- А вот я, Петрушка - только что прыг из супа с лаврушкой! Обварился в кипятке - и бегу налегке! Пляшу, а на мне пляшут ожоги! Уносить от варева надо быстрее ноги! Кто смелый да голодный, за мной беги - там, на краю стола, нас ждут пироги!
Толпа закричала, забурлила прибоем:
- Где, где пироги?!
- Что Петрушка врет все?!
- Держи вора! Он сам все пироги съел! Наши!
- Башку сверни ему, как гусю!
Старик кукольник взял руку мальчика и надел на него Петрушку. Ногой подтащил к ширме табурет. Ухватил мальчика под мышки, на табурет поставил.
- Действуй. Вопи! Ты же Петрушка. А я - мусор! Сжечь меня. Слушай, сожги меня, парень, а? Я лягу на задворках, буду лежать смирно. Ты меня - газетами обложи старыми, досками, ветками! Я хорошо буду гореть!
Мальчик раскрыл рот, но старик не дал ему ничего сказать. Тряхнул красной тряпкой, привлекая внимание площади. Площадь вместе с тряпкой качнулась. Хельга глядела на кукольника глазами большими и широкими, как вода по весне.
- Погодите. Я же не сказала... нет!
- Не сказала? Значит, скажешь.
Роберт орал, что в голову взбредет. Толпа хохотала, рычала, скалилась. Через ширму швыряли съестное. Представление окончилось когда-нибудь. И день кончался. Кукольник насыпал в большую холщовую сумку еды: и хорошей, целой, и огрызков и оглодков. Молча протянул Хельге.
- Ешьте. За мое здоровье. А я пошел.
Свернул красную тряпку. Засунул за пазуху Петрушку, как котенка. Побрел прочь. Отошел немного, обернулся и крикнул:
- А завтра придете?!
Хельга стояла молча.
Роберт завопил:
- А куда мы денемся!
Пошарил в холщовой сумке рукой. Вытащил кусок засохшего сыра и запустил в него зубы.
***
Когда Хельга и мальчик появлялись на площади, Хельге часто становилось не по себе. Ей чудилось: за ней следят. Чьи-то глаза ловят ее, останавливают и фотографируют: на память. Мгновенный старинный снимок, со вспышкой, без вспышки, все равно. Они уходили с площади, отработав свое - за ними кто-то шел, виляя в толпе, огибая ее уступы, проваливаясь в ее выбоины. Хельга оглядывалась - никого. Брось, шептала она себе, это просто настоящая старость пришла, когда человек всего боится. Боится собственной тени. Боится, если у него тени нет. Нет тени - это страшнее всего. Она забыла, что это за поверье. И не пыталась вспомнить.
Они с мальчиком шли домой, она держала его за руку, они о чем-то простом говорили, а о чем, никогда вспомнить не могли.
Дома мальчишка играл в выделанных им самим кукол. Седая дама в длинной пышной юбке казалась царицей. Выступала павой. Трясла седым париком. У нее имелся ручной волк. Охотники поймали его в лесу и принесли своей госпоже. Зверь часто засыпал у ее ног.
И снова у Хельги было чувство, что за ней следят. Вот эта дама с седыми буклями надо лбом. С нарисованными исслюнявленным карандашом глазами, с наспех сшитыми тряпичными ручонками, и кольца, и браслеты тоже старательно нарисованы. Все есть ложь, в мире сейчас все можно нарисовать. То, чего нет. Нет любви - нарисуем ее. Нет еды - а вот она, один штрих, другой. И ешь свою нарисованную похлебку нарисованной ложкой своей! Нет жизни - рисуй ее яркую веселую рожу на черном крепе смерти: ярче получится.
Она стелила Роберту на колченогом диване, сама ложилась на полу. Он пытался сделать, чтобы было наоборот. Она не согласилась. Ты намерзся, шептала она, тебе надо спать в тепле.
Теперь они оба собирали дрова для буржуйки.
Вышли на дровяную охоту. Мальчик отстал, Хельга ушла чуть вперед. Завернула за угол. Чьи-то глаза просверкнули и резанули ее по спине. Спина, под пальто и шерстями, стала как будто голая. Задрожала. Кожа собралась складками. По шее, между лопаток потек пот. Хельга застыла. Вот сейчас, сейчас надо обернуться! И она увидит! Застывшее тело обрело неподвижность железа. Суставы не сгибались. Рот пересох, она закинула лицо вверх и далеко, под крышей разрушенного дома, увидела тонкую прозрачную сосульку. Если бы такую отломать и засунуть в зубы!
Обернись, приказывала она себе. Кричала: давай! Ну же!
Ноги вросли в асфальт.
Ветер мел сухой серый снег вдоль тротуара, по мостовой. Далекие трубы на дырявых крышах, казалось, дышали дымом. На самом деле они не дышали: спали и замерзали. Далеко, в зените, мерцали звезды, им дела не было до людей. Как всегда.
Ну же...
Хельга поворачивалась страшно, как заржавелый шпингалет.
И увидела.
Ночь, и умирающий город, и зверь. Он все-таки выследил ее. Он ее нашел.
На другой стороне улицы стоял волк. Он смотрел на Хельгу не равнодушно. Глаза его горели двумя оранжевыми тусклыми углями. Волк смотрел пристрастно, узнавая и радуясь узнаванию. И ненавидя. И вожделея.
Хельга поняла: сейчас он не нападет. Слишком рано. Волк всегда выжидает. Он знает час и миг. Время, зверь властен над ним. Время играет ему на пользу. Оно работает на него. Острее станут зубы. Зорче - привыкшие к тьме зрачки. Ноги окрепнут в погоне за другими жертвами. Не сегодня. Не сейчас. Он будет ждать. Он подстережет. Не надо торопиться. Всему свой срок.
С Хельги лил ручьями холодный пот. Она смогла извлечь из себя голос. Позвать.
- Сынок!
Роберт появился как из-под земли.
- Что, тетечка? Ты так орешь! На тебя напал кто?
Он подбежал, тащил в руках доски и палки. Хельга дрожала мелкой жуткой дрожью.
- Нет. Никто. Я просто тебя потеряла.
Они, с древесной добычей, явились домой. У Хельги подкашивались ноги. Она уронила деревяшки на пол, они раскатились с громким стуком. Еле нашла в себе силы доползти до стула. Уселась. Дышала тяжело и хрипло. Мальчишка удивленно глядел.
- Да что с тобой?
Она закрыла глаза.
- Сынок. По правде скажи мне. По самой настоящей правде. Мы ведь с тобой любим друг друга, да? Не ненавидим, да?
- Да.
- Если любим, значит, и правду говорим. Скажи... - Она облизнула сухие губы. - Ты ведь раньше, до меня, с кем-то жил? Да? Ты говорил, с бабкой. Ты разве по ней не скучаешь?
- Нет.
Роберт ковырнул половицу носком башмака.
- А ты... не хочешь ее навестить? Еды ей принести? Может, она голодает?
- Нет.
Эти "нет" падали, как свинцовые капли.
- А может... прости... она уже умерла?
- Нет.
- Да почему же нет! Люди же умирают!
Хельга по-настоящему рассердилась.
- Люди - да, умирают.
Говорят это, он странно улыбнулся. Нехорошей улыбкой. Хельга содрогнулась.
- Ну она же не бессмертна!
Мальчик сел на корточки и смотрел на Хельгу снизу вверх.
- Она говорила, что бессмертна.
- Ерунда какая! - Хельга не на шутку разозлилась. - Что ты мелешь! Собирайся сейчас же и ступай к ней! И я тебе еды в сумку соберу! Картошки возьмешь... лук!
- Она, - хохотнул мальчишка, - картошку и лук не ест.
- А что она ест?
У Хельги опять оборвалось и упало далеко вниз, в пропасть времени, сердце.
- Сказать тебе?
Тут уже испугалась она.
- Нет. Не надо. - Он стоял перед ней, она быстро подняла руку и закрыла ему рот холодной ладонью. - Не говори.
- Как хочешь. Давай печь топить! Чтобы спать тепло было.
И они оба старательно топили печь.
***
Еще Хельга учила мальчика азбуке Морзе. Она внушала ему: это старинный алфавит, и можно выстучать все важное кулаком, или высветить все нежное мгновенными вспышками, поэтому эту азбуку надо знать, как же иначе ты будешь передавать ценные сведения на далекое расстояние? Точки, тире, точки. Вот смотри. Все очень просто.Та-ти-и-и-та-та, тата-ти-и-ти-и, ти-и-та-та-та, та-ти-и-та-та, та-та-ти-и-ти-и! Что это ты мне пропела? Как соловей, ха, ха! А что это значит, если по-человечески сказать? Люблю, вот что. Люблю, ха, ха, вот славно! А что такое люблю?
Хельга молчала. Потом спрашивала мальчишку: а ты знаешь, что такое ненавижу?
Он смеялся. Ну, это, когда хочешь кого-то загрызть!
Ненависть, любовь, зашифровка всего самого важного. То, что вытечет вместе с кровью, если тебя смертельно ранят. Хельга выстукивала азбуку костяшками пальцев на столешнице и повторяла букву, складывала губы в трубочку, растягивала в улыбке, сжимала и разжимала. Ее горло пело гласную, а кулак сухо, обреченно выстукивал ее. Мальчик глядел на Хельгин кулак во все глаза. Ее кулак казался ему то сушеной тыквой, то кувалдой.
Однажды он сказал ей: тетечка, у тебя кулак, как кошачий череп. Она сначала засмеялась, потом стала плакать. Мальчик вытирал ей слезы подолом ее юбки. Хватит, крикнул он ей по-взрослому, не то сейчас сам зареву!
Его маленький кулачишко скоро выстукивал рядом с ее кулаком целые слова, потом целые фразы. Хельга радостно думала: вот кто сменит меня в почтовом окне.
***
Самыми отрадными часами в их жизни были часы, когда они оба усаживались у буржуйки, и Хельга рассказывала мальчику всякие истории. Вечер тек и протекал черной рекой мимо, ночь еще только маячила над крышами города, а эти двое были тихо счастливы. Кто из них кого слушал? У мальчика было чувство, что это он сам истории рассказывает старухе. У старухи светились глаза, наполнялись слезами, она улыбалась сквозь слезы и опять бормотала свое, и мальчик слушал вполуха, ему не нужны были уши, чтобы слушать: он без слов понимал, что ему говорят.
Хельга, исподлобья глядя на висящие над столом пожелтелые фотографии, говорила сказку о жизни прелестной принцессы, что вышла замуж за художника. Художник написал ее портрет, и принцесса восхитилась и отдала художнику руку и сердце. Они сыграли веселую свадьбу и поехали в свадебное путешествие по всему миру. Они побывали в стране Индии, где катались на живых слонах, укрытых расшитыми жемчугом попонами; в пещерном городе Петре в стране Иордании, и кричали друг другу: "Я люблю тебя!" - чтобы услышать, как пещера эхом отражает их любовь; они ныряли в океан на Большом Коралловом Рифе и под прозрачной зеленой водой видели невероятные цветные кораллы и трогали их, колючие и живые, нежными живыми ладонями. Они поехали в город Прагу и медленно ходили вечерами по Карлову мосту, а из воды на них смотрел Каменный печальный Рыцарь и молча молился за них. Потом они поехали в страну Францию, в красивый, как дымная роза, город Париж, и там слушали музыку в старинном соборе, древний странный инструмент, называемый орган, состоящий из тысячи серебряных труб и золотых дудок, а потом, после музыки, сидели в кафе и пили вкуснейшее на свете вино, прости, сынок, я забыла, как его имя, того вина, виновато улыбалась Хельга. Мальчик слушал тихо, не переспрашивал. Ему интересно было услышать конец сказки, хотя он и так знал его.
Вот так они и жили, шептала Хельга, и так они любили друг друга, и нежно обнимали, и художник все время писал портреты принцессы - и верхом на коне, и верхом на слоне, и верхом на ослике на парижской деревянной карусели, и спящей в кресле, и плавающей в море, и в большой соломенной шляпе в лесу, в солнечный день, и пишущей за столом что-то важное на большом белом листе бумаги. Он писал принцессу и одетой в роскошные наряды, и обнаженной, и обнаженная на картине она была красивее всего. Он кормил ее лучшими в мире яствами, она кормила его персиками и вишнями из руки, и нежными губами он брал ягоды с ее ладони. Они поминутно целовались. А еще они жили долго и счастливо и умерли в один день. Тетечка, а что такое слон, тихо спрашивал мальчик. Я догадываюсь, это зверь, а какой он? На что похож? Хельга пыталась объяснить, на что похож слон. На шкаф, говорила она, на живой серый сарай! Или гараж! Ну представь себе гараж, и он идет на четырех ногах! Мальчик смеялся. Это правда было смешно! Гараж, и ходит! Тетечка, а что такое коралл? Хельга вздыхала: это такой драгоценный камень, но он живой и растет в море, как цветок. Камень, и растет, кривился мальчишка, такого не бывает! Вот уж точно сказка! А что такое жемчуг?
Ну вот умерли они, да, и что? Они ожили в другом мире? Ну, все говорят, раньше говорили, что человек не весь умирает, его тело закапывают в землю, или там сжигают, у нас соседа сожгли, в специальной печке, так телу кранты, а мысли наши? Ну, эта, как ее, душа? Куда душа-то девается? Или что, ее закапывают вместе с телом? А сжечь ее - можно? А когда ее жгут, она кричит?
И Хельга отвечала: нет, душа такая волшебная девочка, она неуязвима, тело режут и бьют, а она знай смеется, веселится и летает над мучителями. А потом, когда телу настанет конец, душа взмывает высоко и летит между звезд. Ты спросил, что такое жемчуга. Это звезды. Ими вышиты небесные наряды души.
Мальчик доволен был такими рассказами.
А на небесах душа из принцессы станет царицей?
Да, царицей. И будет царить над всем небом и всей землей.
Вот бы скорей туда! В небеса!
Хельга горько улыбалась.
Еще успеешь.
А ты? Тебе уже скоро?
Да. Мне скоро.
***
Волк, он рядом. Он где-то рядом тут теперь живет. В городе. В этом городе, он теперь цифрой зовется, будь прокляты цифры. Волку надо сопротивляться, не то он нападет и загрызет. Нет! От него надо прятаться. Он будет тебя искать - и не найдет. Так надо хорошо спрятаться, чтобы не нашел никогда. Зверя нельзя пугать или смешить. Испугаешь - он выкажет тебе всю злость. И тебе уже не уйти. Злой зверь сметет грудью все препятствия, но настигнет тебя. А если рассмешить? О, это дико и красиво, рассмешить. Смех, разве он понятен зверю? Смеется только человек. Только он один чувствует, что над ним смеются, или смеется над тем, кого надо высмеять насмерть.
А что такое, когда смешно?
Хельга давно не смеялась. Великие Сражения отбили у людей охоту смеяться. Смеяться было не над чем. И не над кем. И ни отчего. Раньше, до Великих Сражений, люди рассказывали друг другу анекдоты. Хельга с трудом вспоминала: анекдот, это такая маленькая история, маленькая, почти как стихи, и ужасно смешная, будешь хохотать до икоты. Неужели когда-то люди так смеялись? Смех переходил в икоту, потом в кашель, потом становился рыданием, и слезы выступали на глазах, потом смехом захлебывались и замолкали. А еще говорили: и смех, и грех. Разве смех - грех? А что такое грех?
Тоже забыли.
И Хельга забыла; она помнила только то, без чего нельзя было прожить здесь и сейчас.
Все остальное было ненужным, мусорным, страшным.
Все сгнило на задворках.
Она выходила на площадь, и старик натягивал свою веревку и растягивал на ней красную тряпку всегда, не только в базарный день; и подходили малые, случайные люди, торчали у тряпки, глядели на фигурку Петрушки, что сновал вдоль веревки туда-сюда. Мальчик не всегда бежал рядом с ней. Он часто исчезал. Хельга знала: мальчик придет опять. Он приходил и приносил еду, он крал ее где-то, может, у таких же нищих, как они, людей. Теперь не было нищих и богатых: все были нищие. Правда, ходили слухи, что где-то далеко, отсюда не видно, живут страшно богатые люди в страшно красивых и недоступных домах, похожих на каменные столбы. Никто не видел этих домов, и этих богатых людей тоже. А кто говорил, они живут под землей. Но и земля не показывала своих закромов. И не было у нищих людей ключей от этих неведомых тайных дверей.
Петрушечник надевал на руки других кукол, не только красного Петрушку, выкрикивал в пустоту площади веселые припевки, а они звучали злом и отчаянием. Облака клубились серым дымом. Хельга смутно вспоминала: раньше люди курили. Они курили дорогой табак, курили дешевый, а нынче этот дым, и нищий и богатый, весь ушел в небеса. Роберт выскальзывал из-за угла, а иногда вылезал из-под площадной лавки, а иной раз неслышно подбегал сзади и дергал Хельгу за юбку: я здесь! В ладонях он держал горбушку, или соленую рыбу, или жаренную на углях змею. Старик и Хельга угощались. Мальчик подхватывал в одну руку Петрушку, в другую - Бабу-Ягу с клоком седых кудрей надо лбом и кричал: эй, народ, торопись, на нас скорей насмотрись, сейчас будем драться мы, не прося тумаков друг у друга взаймы! Петрушка дубасил Ягу, Яга колотила Петрушку, зеваки пытались смеяться, а Хельга стояла рядом, и слезы золотом стекали по ее черным от голода щекам.
Однажды она так стояла и смотрела на представление, и будто кто толкнул ее изнутри. А может, снаружи. Она захотела посмеяться. Над собой! Надо всеми! И заодно всех посмешить. Что нужно сделать? Лицо, ее лицо. Ее старая рожа. Накрасить! Чем? Раньше она носила в сумке зеркальце и помаду. Как все женщины. Бабью сладкую и жирную помаду все давно съели, в голодные годы после Второго Сражения. Она тогда сходила за красные конфеты. Что может помаду заменить? Ага!
Она придумала, и она задрожала.
Жаль, нет ножа. Нож есть, далеко, дома, на кухне; а он нужен сейчас. Роберт махал куклами над красной тряпкой. Поднимался ветер. Старик ледяным глазами глядел на мальчика. Он думал: как хорошо, у меня есть наследник. Я умру. Петрушка не умрет. Хельга наклонилась и подняла с мостовой камень. У него светилась острая грань. Острым камнем Хельга полоснула себя по шее, чуть выше плеча. Окунала кончики пальцев в теплую кровь и рисовала.
Она разрисовывала себе лицо кровью.
Замазывала морщины. Украшала красными спиралями лоб. Рисовала себе огромный рот до ушей. Рот смеялся. Она рисовала себе красные зубы. Обводила красными чудовищными кругами отчаянные старые глаза. Малевала красные цветы на скулах. Боже, как она была уродлива! И как смешна!
Люди останавливались напротив нее и жадно следили, как она малюет на своем лице смех.
- Я Смех, - сказала Хельга тихо, но отчетливо.
Ее услышали далеко на площади. Везде.
Хотя она, конечно, сказала это небу.
Люди стали подходить ближе, они таращились на Хельгу, на ее красный, растянутый в жуткой улыбке рот; она зажала себе рану на шее носовым платком, она носила платок за пазухой, по-старушечьи. "Эй! Ты кто такая? - кричали ей. - Циркачка!" Да, кивала она, да, но не просто циркачка. Я - Смех!
И тут она начала хохотать.
Сначала тихо, потом все громче и громче.
Мальчишка с куклами на дрожащих пальцах открыл рот. Такой он видел старуху впервые.
- Тетечка, тетечка!..
Она потеряла себя. Над ненавистью, над тьмой - надо всем надлежало смеяться. Другого выхода не было. Смех, это был грандиозный выход, единственный. Она перестала быть собой. Смех, это одно, что ей оставалось. Войны, месть, оскаленные пасти? Лучше показывать все зубы в смехе: он один победит! Не нужно ни бомб, ни линии огня! А зависть? Где зависть? Сейчас мы ее смехом накроем! Изрешетим! Через дыры в зависти будем глядеть на небо! Солнца нет? Завтра выглянет солнце! Сдохни, война! Ты бред! Мы тебя выдумали, чтобы поплакать. А теперь мы хотим посмеяться! Над тобой! Над собой!
Хельга встала посреди площади, раскинула руки и хохотала.
Она хохотала, сначала играя в смех, а потом все больше становясь смехом.
И тут перед ней сверкнула странная молния. Зарница. Она пыталась вспомнить. Это было! Нет, этого не было. Этого не могло быть. Ни с ней, ни с кем-то другим.
Смех! Игра в смех!
Нет. Ты Смех. Ты - просто - Смех.
Над чем смеешься, Смех?
Над Зверем.
А где Зверь?
А тебе обязательно надо его увидеть?
Куклы на руках мальчишки затряслись в смехе. Люди на площади колыхались от смеха.
Это Хельге только казалось.
На самом деле они все плакали. Все.
***
Хельга проснулась оттого, что с улицы донесся длинный хриплый вопль:
- Танцы с волками! Танцы с волками!
Она привстала на полу, старые кости, ей почудилось, хрустнули. Заболело плечо и колено. Она еле согнула колено, пошевелила ногой. Ей послышалось: нога скрипела. Скосила глаза на диван. Мальчонки не было. Убежал на добычу, спокойно и горько подумала Хельга.
Сидела, обняв ноги руками, как девчонка у костра. Спутанные седые волосы висели вдоль впалых сморщенных щек.
Паутина висела вдоль коры. Ее не шевелил ветер.
Ветер был время, а времени не было.
А с улицы доносился уже издали, таял вопль:
- Танцы с волками!.. Танцы с волками!..
Какая новая чушь, площадная. Это на площади, и, если всеобщие танцы, сегодня выгонят вон Петрушку. А может, мальчик уже не площади. Его глаза жадно вылавливают из толпы неведомых волков. А может, это просто приманка? И никаких волков не будет? И никаких танцев?
"Всех так заманят на площадь, и расстреляют".
Она думала об этом легко и свободно. И холодно.
Телу, в холодном жилье, стало одиноко и холодно. Она с трудом встала, оделась. Мысли мерзли. Терлись друг об дружку, и осыпалась ледяная бахрома.
Без мыслей накинула пальто. Завязала теплую дырявую шаль на спине. Надо было идти, и она вышла из дома и пошла.
На площади взад-вперед качался народ. Хельга не хотела качаться вместе с ним. Оглядывалась: где волки? Никакими волками и не пахло. Над площадью возвышался помост. Как для казни, только без виселицы. Хельга хотела уйти, но ее тело решило смотреть, что будет. На помост выскочила долговязая девчонка. Трясла рыжими кудрями. Ее глаза горели неподдельным сумасшествием. Она стала выкрикивать в толпу невнятные, страшные слова. Таких на земле не было. Хельга не знала такого языка. Люди тоже не знали. Девка размахивала кулаками и кричала несуразицу, люди смеялись. Многие затыкали уши. Кричали: нам лучше подавай частушки! Пошла вон, рыжая ведьма!
И вдруг началось. На помост, невесть откуда, будто из дыры между досок, стали выскакивать серые звери. Волки. Скалились. Настоящие! Хельга попятилась. Прижала руку ко рту. Глядела: растерзают беднягу! Звери вставали на дыбы. Царапали когтями воздух. Опять становились на четыре лапы. Девка продолжала орать бессмыслицу. Только бессмыслица обрела ритм. Кулаками девка сама себе дирижировала. Сама себе стала бешеной музыкой. Волки услышали музыку. Присмирели. Пошли вокруг девки, по кругу, по кругу. Она кричала, а волки перебирали лапами. Подтанцовывали. Как люди. По спине Хельги тек пот. Эти волки были люди, как она раньше не догадалась. Звери это люди, а люди это звери. Все обернулось, как она того и хотела. Она? Или другая? Или, может, земля?
В центре волчьего хоровода стояла длинноногая растрепанная девка и дергала в воздухе руками, управляя мощным круговым движением, а волки были как планеты, они не шли - катились, девка была солнцем, а волки были его спутниками, и девка хоть на минуту, на миг, а была владычицей зверей, значит - владычицей зла. Волки, вы разве зло? А то нет! Хельга понимала: ей недолго продержаться на помосте. Закончится колдовство ритма, волки остановятся и увидят, что перед ними добыча. Еда! Живая! И напрыгнут на девчонку, и всадят в нее зубы. Танцы со смертью! Здорово придумано! Девка дрессировщица, что ли? Вот бы мне так!
Хельга стояла и думала: вот бы мне так! - а дальше думала: о, не дай мне, Боже, вот так умереть, растерзанной волками. Боже, возьми меня к Себе Ты в свой черед, а не зверь, не пуля, не петля, не огонь! А потом еще думала: зверь, пуля, петля, огонь - это все равно Божья воля. И война - Божья воля. Солдат Макар сказал, война идет где-то, далеко. Господи, спаси там всех, кто воюет! И тех солдат, и других!
Она стояла в потной, кричащей толпе и молилась за тех и за других.
Ждала, когда девка остановится. И волки остановятся.
И они все остановились.
Рыжекудрая девка стояла, вскинув над волками руки, сжатые в кулаки. Она ждала.
И волки ждали.
Толпа утихла. Перестала рычать и выть.
Хельга прошептала, и ее услышали стоящие рядом: Господи, спаси и сохрани.
Люди не поняли, о чем она.
Бормочет старуха, ну и ладно.
На краю помоста, Хельга не уловила, как это получилось, встал парень с горящим факелом в руках. Высоко поднял огонь над головой. Волки задрали головы. Огонь пугал их. Они прижали уши. Хельга ждала и дрожала. Поднимался ветер, сухой и лютый, без снега. Парень размахнулся и бросил факел в толпу. Люди завизжали и разбежались. Никто не хотел ловить огонь. Факел упал на голую мостовую. Древко горело, как полено в печи. Волки долго не думали. Они, все сразу, накинулись на девку. Ударами лап сбили ее. Она растянулась на помосте. Кричала. Ор ножом разрезал тучи. Люди тоже закричали и опять бросились к помосту. Но никто, ни один, не влез на помост, чтобы вырвать жертву из зубов и лап. Все горящими глазами глядели, как звери загрызают человека. И каждый думал: хорошо, не меня. И каждый понимал: волк - это ты сам. Сегодня загрызешь ты, а завтра тебя. Огонь догорал, пожирая просмоленную палку. Хельга повернулась и пошла прочь. За ее спиной гасли визги, рычанье и крики. Плотно смыкалась толпа, выпуская ее из себя. Из потного горячего нутра. Холод жег ей лоб под шалью. Она шла с закрытыми глазами. Боялась их открыть. Все равно открыла; думала так: иначе упаду и сломаю ногу, руку. Мир перед глазами был все тот же. Местами серый, местами цветной. Он был опять неродной. Чужой.
И Хельга шла, ему чужая.
***
Я, солдат Макар, фамилию не скажу, зачем она вам, добрался-таки до куска земли, где шла война. Смешная эта война, я вам скажу, смешная и страшная, ну, там, где смех, там и страх. Было бы над чем смеяться. Я сначала на попутных машинах, потом на железных колымагах, еще называемых автобусами, трясся, и все на юг, и все к морю. Дотрясся. Там, в Городе пять, Лемурия-Квадрат-девятьсот-шесть, уже собралась хренова туча солдат, для отправки в Гондвану.
Нас было много, слишком много, чтобы нам было хорошо в черном масленом, вонючем трюме. Не лайнер, конечно, океанский, но простая баржа, грузовая, унылая. Жуткий кораблик. Нас всех туда загнали, как скот, мне даже показалось, взмахивали кнутом. Нет, конечно, какой кнут. Вместо кнута - крики, и их хватало.
Плыли. Ели. Из-за пазухи куски вынимали. Разные, иногда и тухлые. Вгрызались. Хотелось пить. Капитан молодец, распорядился взять в дорогу полные баки воды. Вода пахла тухлятиной, но все же это была вода. Мы, качаясь, подходили к баку, открывали кран и просто подставляли пригоршню. Пили. И умывались. Вода текла по шее за пазуху.
В трюме было холодно, потом стало душно. Невозможно дышать. Народ задыхался. Солдаты кричали: выкиньте меня за борт, я задыхаюсь, уж лучше утонуть!
Долго плыли. Голодали. Один парень умер с голоду, в корчах. Причалили. Вышли, шатаясь. Голова моя гудела. Под ногами земля, и я не сдох от голодухи. Здесь над головами летали самолеты. Я их до этого в Лемурии видел только раз. Вот второй раз увидел. Меня охватил дикий страх. И я тут же заржал над ним. Встал, пальцем указал солдатам на летящий низко самолет и возопил: ха, ха, летающая рыба, ха, ха!
И все следом за мной захохотали, так громко, как могли. Я хохотал и не мог остановиться.
Мы долго шли пешком. Пехота она и есть пехота. Странно велась эта война. После Первого Великого Сражения, когда люди впервые применили самые страшные бомбы, и насовали их в разные углы земли, и все облучились к чертям, а города разрушились и торчали к небу скелетами, я видел фото, наш город уцелел, зато радиация докатилась и до него, люди мерли как мухи, так вот, после того Сражения все поняли: так нельзя, и, если выживем, то больше никогда. Ни черта не поняли. Замутили Второе Великое. И, кроме тех адских бомб, бросали друг на друга еще и другие. Свалится такая - разрушений нет - а все дохнут на лету. На бегу! Изощренный человечек, выдумщик дрянной, сколько видов смертей для себя придумал. А мы все еще живы. Проклятье! И ничему-то мы не научились. Все знаем, все видим, но никак не расстанемся с прежними иллюзиями.
После второй войны очухивались дольше. Ни железных повозок, чтобы бегать по земле, ни стальных стрекозок, чтобы летать в небе. Ну, остались, конечно, в закромах у владык. Владыки ведь все эти войны развязывали, не народы. И вот третья.
Как это умные дядьки сказали бы: локальная.
Нет, это не всемирное сражение. Страны-то давно подохли. А вот два полушария остались. Воюй не хочу. За что? За землю? За волю? За море? За лед и пустыни? А может, просто за воздух, а то на земле скоро нельзя будет дышать отравой?
Да нет, не локальная все же, а опять мировая. Лемурия против Гондваны. Гондвана против Лемурии. Убожество, но правда. Тут уже никому не солжешь.
Вот шли, шли, и вдруг впереди машины. Много машин, грузовики. Я такое количество грузовиков никогда не видал. Нас в кузовы загнали. Укрыли брезентом, как вещи. Как вроде бы ящики с оружием. Грузовики потряслись по каменистой дороге. Ехали долго. Въехали в город. Я поднял брезентуху и держал ее на вытянутой руке, чтобы товарищи могли видеть, где едем. Да, оглядывался я по сторонам, ничего себе городок. Одни руины. Значит, оружия еще вдоволь осталось! И у владык Лемурии, и у господ Гондваны. Веселятся. Играются в страшные игрушки. А мы кто такие? А мы...
У нас жратвы уже давно никакой не было, ребят от тряски и слабости рвало пустотой, а кто-то рядом катил на мотоцикле и орал: терпите, потерпите, сейчас приедем, накормим от пуза! И вдруг - швырк! - летит к нам в кузов бутылка коньяка. Старинного, сделан еще до Первого Великого Сражения. Ну, мы ее откупорили! Вот она была - да сплыла! Нету! Все! Выпили в считанные секунды!
Кому повезло, а кому нет. Кому не повезло, сидели угрюмые, на везунов косились.
Здесь, кстати, никакое не тепло, а мороз. А я-то думал, Гондвана теплая земля. Теплая, говорили мне, да в других краях, севернее. А мы по морю пропахали далеко на юг, и, может, тут рядом такая ледяная глыба, раньше Антарктидой называлась. Да, я слыхал это название где-то, когда-то. В детстве.
Завели нас в дом. Половина разбомблена, половина целая. Мы воздух нюхали: а радиация? Она же не ощущается! "Сдохнем все, как пить дать!" - орал солдатик, он рядом со мной в грузовике трясся.
Поднялись по лестнице, она крошилась под ногами, везде торчала арматура. Мы пытались шутить. Затолкали нас в зал. Пустой. Ни стульев, ни занавесей. Пыль на полу, осколки. Пол паркетный, как в старину. И над нами люстра такая колоссальная, круг такой тяжелый, хрустальный, и как не свалилась при взрывах, крепко ввинтили ее в потолок, гляжу, и ощущение, что она скособочилась, и что дом этот накренился, вот-вот рухнет, а люстра взмоет ввысь и станет мощным таким звездным колесом! Бред, да. Это от голода.
Но все мы, солдаты голодные, военное жалкое мясо, все задрали башки и наблюдали эту чудовищную люстру.
А я-то другую люстру вспомнил. Родную! На нашем вокзале железнодорожном.
Да, там у нас была всем люстрам люстра. Могучая! Висюльки с нее хрустальные свисали, а больше золотые. Да, бери выше, золота в ней было больше, чем стекла! Ну там позолота, козе понятно, но такая красота! Даже и не красота. А не знаю как сказать. Эта люстра мало того что была громадная, не обхватишь ни руками, ни глазами. Во весь вокзальный потолок! Она была, знаете, как обещание чего-то великого. Того, что не сбудется никогда. Но это все равно. Оно есть, и на него, на несбыточное, можно поглядеть, и уже хорошо, спасибо. Она тихо звенела золотыми сосульками, вспыхивала хрустальными колоколами, плыла, вздрагивала, как живая, и тогда сразу, мощно звенела всеми своими золотыми водорослями, золотыми надкрыльями золотых жуков, всеми хрустальными рюмками, праздничными, или поминальными, а, все равно, вся колыхалась и звучала, и ты стоял под ней и даже переставал слышать эти вокзальные гундосые объявления: "Уважаемые пассажиры! Поезд триста сорок семь Санкт-Петербург Уфа отправляется со второй платформы шестого пути в семнадцать часов пять минут! Просьба провожающим выйти из вагона!" А ты ничего не слышал, ты стоял под сверкающей гигантской люстрой и глядел, как медленно она поворачивается над тобой. Светлая! Огромная! Вся жизнь!
Ничего-то ты не сознавал тогда. Ни того, как твоя жизнь сияет и вот сейчас рухнет на пол, от взрыва, не удержится на потолке, и разобьется на миллион золотых кусков, никчемных слитков, на горькие твои слезы.
А как мы плакали тогда! Когда в первые раз все началось!
Ну, да толку что вспоминать.
Я про другое. Про другую войну.
Вошли в зал люди в черной военной форме, в черных касках, обвешанные оружием. Мы почувствовали себя нищими при дороге. Ни у кого ничего. Ну, кое у кого в карманах ножи, может, бритвы, может, комья свинца. Ну это ерунда.
Люди вкатили за собой тележки. На тележках лежала зимняя одежда. Мы-то плыли в трюме не сильно экипированные, кто-то из теплых городов Лемурии прибыл, ну, большей частью в куртках и в кепках, кто-то с голой головой. А тут нам выдали зимнее обмундирование, по всей форме: камуфляжные куртки на меху, бараньи ушанки. Уши на затылке завязаны. Мы быстренько оделись во все это. А то у иных уже зуб на зуб не попадал.
Люди в черных гимнастерках и черных кожаных куртках молча, строго смотрели на нас, как мы одевались. Потом дверь в зал распахнулась шире, и вкатили самую огромную тележку, величиной с автомобиль, там в ряд стояли алюминиевые плоские кастрюльки, они стояли друг на друге, кажется, раньше такие назывались судки, или я ошибаюсь. Удобно, берешь за ручку, а под ручкой десять кастрюль. И в них - что? Суп? Пахло супом, да. Пахло рыбой! Люди в черной форме разгрузили тележку, поставили судки на пол, в пыль и осколки. Мы ждали. У нас, как у зверей, слюни текли. Человек в черном махнул рукой: можно! Налетай! И мы налетели.
Мы-то мы, солдаты, а на меня из угла зала глядели чьи-то глаза.
Я этот взгляд почувствовал и обернулся.
Взгляд жег меня.
Я сжимал в руках судок и хлебал уху через край.
Глаза от меня не отрывались. Глаза ели вместе со мной.
Я не мог этого вынести. Оторвался от хлёбова. Встал, держал крепко кастрюлю, и пошел, переваливался в своих пропыленных сапогах, прямо в этот угол, где сидели яркие глаза.
- Ты что тут? - спросил я глаза. - Чего пялишься?
На корточках передо мной сидела девочка. Не то чтобы малютка, но и не взросленькая. Возраст я бы не мог определить с ходу. Лет десяти, может.
В коротком платьишке, еле колени прикрывало, легкое, в цветочек.
- Я просто смотрю, - тихо ответила она.
Я устыдился. Меня прошибло! Я протянул ей судок с остатками жидкой ухи.
- Похлебай, - сказал я смущенно, - тут еще осталось.
Девочка эта взяла судок у меня их рук так тихо, будто у нее не руки были, а крылья стрекозы, и вежливо поднесла ко рту. Она пила через край эту уху, так красиво пила и глотала, я засмотрелся. Это так красиво, когда люди едят.
Ну что сказать? Нельзя же солдатам девчонку с собой. Это против всех военных правил. Я взял у нее из рук пустой судок, перевернул и постучал в алюминий, как в бубен. О, сказал я весело, на кастрюльке теперь можно играть, давай я тебе лезгинку простучу? И застучал в судок костяшками пальцев. Я хотел девчонку потешить.
Она шептала мне: дяденька, а что такое лезгинка? А это музыка или нет? А это не опасно, если так стучать?
Да, напугана она была сверх меры, ну шутка ли сказать, война грянула, и скорей всего, как все войны, на ровном месте.
Люстра, девочка, жратва, все смешалось в башке, спать мы после еды захотели ужасно. Нам - команда: "Ложись на пол и спи!" Мы увалились прямо в пыль, в битое стекло. Кого мне напоминала эта девочка?
Я лег на бок, рядом, сзади и спереди, легли солдаты и плотно прижались ко мне, мы лежали как сельди в бочке, или там как шпроты, лежали и дышали, в теплых, на меху, куртках мы согревались долго, но все же согрелись, холодрыга стояла в этом пустом огромном зале, зал и люди на полу, спят, или делают вид, что спят, кто-то вовсе не спал, пытался уснуть, пытался думать и жить. Делать вид, что живешь. Это же так просто.
Вот я закрыл глаза. И перед глазами сразу же встал Город сто двадцать пять, где с почтамта я давал в Гондвану телеграмму. И эта старуха, по имени Хельга, имя такое твердое, как лед хрустит на зубах, или как стекло. Вы глотали когда-нибудь толченое стекло? Я - глотал. И меня еле спасли. Врагу не пожелаю. Нет, врагу, наверное, пожелаю. Враг должен умереть. Ненависть к врагу, она превыше всего. Вот если вы ненавидите кого, вы же его хотите уничтожить? Умертвить? Ну, если не убить, так растоптать морально? Чтобы он, мерзавец, и головы не поднял! И исчез, униженный, из мира людей. И, главное, из вашего мира. У вас так было? Вы так ненавидели кого-нибудь? У меня так было. Я ужасно возненавидел своего учителя по истории. Он жутко унижал меня, топтал, размазывал по тарелке манной кашей. Издевался надо мной, вслух, перед классом! Бил меня моей тетрадкой по лицу. Я маленький был, мне очень больно было. Не от битья по щекам больно было: в душе, внутри. Я так ненавидел этого дядьку! Подлого, гадкого! Я воображал, как я подстерегу его около подъезда, как рассмеюсь ему прямо в лицо, а потом швырну ему под ноги гранату-лимонку. А сам отбегу и брошусь ничком. И закрою уши ладонями, чтобы не слышать взрыва. И зажмурюсь, чтобы не видеть крови. Так я впервые в жизни захотел убить человека. И мысленно его уже убил. Да! вскоре, взорвалось это Первое Великое Сражение. И учителя моего, гада, в армию забрали. И я потом спросил одного одноклассника, где, мол, этот, и по имени его назвал. А одноклассник мне цедит сквозь зубы: его, мол, на севере убили, во льдах, там, где ледяной океан, он на кораблях служил, корабли торпедировали, и его корабль тоже. Никто об этом ни в Сети не сказал, ни в газетах не написал. Газеты тогда еще выходили, потому что типографии работали. Молчок, зубы на крючок. Никакой не герой. Погиб на войне, и все. Тысячи так погибают. Миллионы. И, знаете, я в лицо этому другу, ну, однокласснику, засмеялся. А сам, когда один остался, заплакал. Горько мне стало, горечи был полон рот, будто полыни наелся.
Лежим тесно. А все равно холодно. Ко мне прижимаются чужие мужики. Чужие тела, а все равно ведь все человеки. И значит, все вроде как родные. Жалко всех. Я не слащавый тюфяк. Я вообще в жизни очень мало плакал. Но тут, тепло справа, тепло слева. И завтра пойдем под выстрелы, и это тепло станет холодом. Война! Она велась сейчас как встарь, бомбы становились не в моде, использовали последние запасы патронов и снарядов. Старые добрые снаряды, старая добрая артиллерия. Ничего нет лучше. Зарядишь пушку - и вперед. Конечно, самолеты это тоже класс. Да на каждого бомбардировщика найдется свой дикий истребитель. Волк. Он загрызет медведя. У волка зубы острее. И бегает он быстрее.
Лежим. Кто-то постанывает. Спит уже. Сон видит. А может, разжарило его, разобрало. Ведь тела вокруг. А человек, он же живой. Я вроде как сплю. И вроде как не сплю. А Хельгу, старуху, перед собой вижу. Как она перемещается, как выходит из-за почтового окна, отражается в стеклах, медленно, грузно идет ко мне, переваливается. Как я ее под ручку домой веду. Как мы сидим за ее бедняцким столом и едим мои консервы. Деликатная бабка! Лишнего не проглотит. Так изящно жратву из банки брала, на кончике вилки. Старыми пальцами грациозно ухватывала, будто балет танцевала.
И тут слышу: шорх, шорх. Легкий такой шорох. Будто бы зверек легонький коготочками по полу шоркает. Ко мне пробирается. Проклятье! Кто?! Я привскочил. Приподнялся на локте. Смотрю. А это девчонка та. Которую я ухой кормил. Ко мне продвигается, через спящих солдат осторожно перешагивает. О, думаю, надо встречать гостью! Вот жизнь! Не успел на войну прибыть, как тебе тут же ребенка подсовывают. Своих-то у меня не было никогда. Да мне говорили, ухмылялись: ты того знать не можешь, мужик, есть у тебя дети или нет. Дети! Да на что мне сейчас они! Мир гибнет, а тут еще дети. Вот если мы мир вызволим, из пропасти выдернем, тут можно и поговорить о детишках. А так ни к чему. Да и баб, где они, наши бабы? Нет наших баб. Старухи эти, что по городам шастают, по разрушенной вдрызг Лемурии? Смешно. Старухи годны лишь на то, чтобы вспоминать. О том, о сем.
А, старуха моя... Хельга... Так явственно я тебя тогда видел. Твое лицо; старое, да красивое. Гордое такое. Будто ты не два Сражения пережила, а сейчас подкрасишься, подмажешься - и на сцену выйдешь, и рот откроешь, и запоешь. Я тебя видел почему-то певицей. Или там артисткой! В черном таком, с блестками, длинном платье. И платье за тобой тянется по полу, льется черной нефтью. Девчонка эта, что мою уху ела из судка, хлебала из походной миски, чем-то на тебя смахивала! Не знаю, чем. Не уловил. Может, глазами. Глазки такие блестящие, восторженные! Даже странно, зачем восторг. Война кругом. Люди мрут. А тут глазенки так горят, как лампочки в ночи. Сейчас в городах фонари не горят. Света нигде нет. Если есть, это чудо. Люди жгут лучины, как при царе Горохе. Вот бы на того царя Гороха поглядеть! Как он выглядел!
Все ближе, ближе. Перешагивает. Вздыхает прерывисто. Я вздохи те слышу. Битое стекло хрустит под ее ногами. Вот уже почти подкралась. Я не шевелюсь. Мыслю так: надо прикинуться крепко спящим! Тогда ей влом будет заговаривать со мной. Ей придется меня разбудить, а она побоится. Потому что проснутся другие.
Вот она уже рядом. Садится возле меня на корточки. Я, сквозь ресницы, смотрю на нее снизу вверх. Хорошенькая девочка. Если бы ей еще судьба дала пять, шесть лет, я бы такую дождался, а она бы - меня дождалась, и мы бы поцеловались и все такое. И, может, я бы такую даже в жены взял. Жены! Мужья! Бред. Такого больше не будет никогда. В смысле, свадеб, пирушек, венчаний всяких. А если будет, так что-то другое. По-иному будут соединяться люди. Если будут. До Первого Великого Сражения, я знаю, соединялись люди одного пола. Парни с парнями, девчонки с девчонками. У нас в школе тоже такое случалось. Мы над этим громко смеялись, а втихаря расспрашивали: а что, это большое удовольствие? Или так-сяк?
Старуха Хельга моталась у меня перед закрытыми глазами, а сквозь частокол ресниц я видел эту военную девчонку, и как-то странно они в моем сонном сознании слились. Девчонка блестела глазами, они горели, как масло, как лампы в елочной гирлянде, в кромешной тьме разрушенного зала. Она посидела передо мной на корточках и встала на колени. Ну, чтобы ловчее наклониться.
Наклонилась. Лицо приблизила. Я чувствовал ее дыхание. Оно было теплым и пахло рыбой. А еще немного цветами резеды. Вы помните, как пахнет резеда? Я - да. А вы-то, наверное, забыли. Это такой светлый цветок, лепестки резные, соцветия столбиками торчат, тычинки очень пахучие, как у лилии. И ниже склоняется, и еще ниже. И совсем рядом с моим ее лицо, теплое такое. Тут я - раз! - и открываю глаза! Я хотел ее этим испугать. А она обрадовалась. Она еще сильнее засияла своими черными камешками-глазами, черными углями. И шепчет мне, тихо, чтобы другие солдаты не слышали:
- Возьми меня с собой! Я тоже хочу воевать!
Я так и обалдел. Ну, думаю, влип! Чего захотел ребенок! Воевать!
- Ты еще ребенок, - шепчу ей, - тебе нельзя.
А она мне, теплыми губами прямо в ухо:
- Я умею твою уху варить! И суп варить! И птицу жарить! И даже хлеб умею печь! Я все умею! Я вас там всех буду кормить! Только возьми!
Я оторопел. Ну, думаю, не отвяжется.
Шепчу:
- Ты вот что... на войне - убивают... а если подранят, так - на всю жизнь искалечат... Ты что, калекой хочешь жить? Не выйдет... я - не позволю...
А она знай свое:
- Возьми... Возьми... Не пожалеешь...
Я зажал ей рот рукой.
- Тише ты... Всех тут перебудишь... - говорю. - И тебя командир возьмет да застрелит.
- Нет, - отвечает, - не застрелит, я ведь добрая. И он добрый.
Я разозлился.
- Что, - спрашиваю беззвучно и скалю зубы, как зверь, - а войну тоже развязали добрые люди?
И знаете, что она мне отвечает?
- Да, добрые. Они только притворились злыми. И зверь, - говорит, - тоже добрый, даже самый злой. Вот волк, он добрый. Это человек его сделал злым. И он хочет загрызть человека не от злобы, а от страха. Ну, что человек его убьет. Ну, и кто первый убьет. Важно опередить, кто кого.
Так вот она шептала, а я слушал, как дурак. Как Петрушка над красной тряпкой.
Пока она шептала, я на нее смотрел. Глаза светятся, лоб такой чистый, высокий. Мирный такой лоб. Ангельский. Я потрогал кончиками пальцев ее лоб. Гладкий. Как мраморный. Только горячий.
- Что щупаешь? - шепчет мне и смеется. - Нет у меня температуры.
- Ты на одну тетку сильно похожа, - говорю.
- На какую тетку? - спрашивает.
- Ну, не на тетку, на бабку. Одна старуха есть. Очень далеко отсюда, в Лемурии. Ты ее не знаешь. И никогда не увидишь. Занятная такая старуха. Благородная. Из бывших умников и умниц. Глазами вот так же блестит, как ты. На стене у нее снимки висят. Ну, как раньше, это называлось фото. На бумаге отпечатанные люди. Ты такие видала? Да? Я уж редко видал. Я эту старуху своим пайком угощал. Она ела, и у нее руки дрожали. Я ее воспринял, ну, трудно сказать, как мамашу свою. Да, как мать.
Девчонка задумалась. Она сидела сейчас передо мной, скрестив ноги, и заплетала кончик косы. У нее с затылка свешивались две тонкие черные коски.
- А у тебя с собой этого ее, ну, снимка, нет? - так спросила.
- Нет, - говорю, - она у меня только в голове отпечаталась. Я ее никогда не забуду. Она, знаешь, стихи мне читала. Свои собственные.
- А что такое стихи? - спрашивает.
А я и не знаю, что ответить.
Так тихонько говорили. Спящий рядом со мной замычал: девчонка уперлась ему коленкой в бок. Места там было мало, сидеть, посреди людских шпрот. Холод гулял по залу, а она сидела передо мной в легком платьице в мелкий цветочек, и даже не ежилась.
Я говорю:
- Тебе холодно?
Кивает.
Я ей:
- Ложись со мной.
Вы не подумайте чего. Она послушно и быстро легла рядом, словно ждала приглашения. Я накрыл ее полой камуфляжной куртки на меху, овечьем там или собачьем, а какая разница, крепко прижал к себе и шепнул: грейся. Согревайся. Я чувствовал ее тельце, и как она замерзла. И ощутил, как дрожит. Я поцеловал ее в макушку и укутал в меховую куртку еще плотнее. Все, не дрожи, шепнул я девчонке, все хорошо и лучше быть не может. Нас не убьют, а ты поспи. И я посплю.
Мы прижались друг к другу и так заснули. Во сне она обняла меня за шею, как взрослая. И спрятала лицо у меня на груди. А я стеснялся, тоже во сне уже, что от меня воняет потом, все тут давно не мылись, сто лет.
***
Утром всех разбудили диким криком: подъе-о-о-ом! - глядь, а девчонки-то и нет. Убежала. Отогрелась, выспалась и слиняла. Ну, думаю, все как надо, все к лучшему. Она здешний житель, будут бомбить это место на карте, разбомбят, так умрет вместе со всеми, а вдруг и выживет, где-нибудь в подвале. А если осада, умрет с голоду. Тоже ужас, конечно. Но не брать же ее с собой в бой! Зачем нам всеобщая дочка! Хлопот с ней в окопах не оберешься.
Нас построили и повели. Вышли мы из этих руин, где ночевали, вон. Я последний взгляд кинул на люстру. Мне показалось, что она еле держится на потолке на одном тонком ржавом канате. И сейчас сорвется. И рассыплется в прах на моих глазах. И я поспешил отвернуться от нее, громадной и хрустальной, и уйти. Так только в памяти и сохранил этот гигантский звездный круг над головой.
Идем, огибаем пыльные строения, суша как выжженная, хотя холод стоит знатный, мороз такой, как на севере, в Лемурии, а здесь сказали, юг, да видать, наврали. Движемся, все вперед и вперед, ветер поднимается, все натянули ушанки на лбы, ветрило пронизывающий, до костей, заворачиваем по дороге - и - бабах! - перед нами океан. Темная вода. Белые буруны. Ветер мнет темно-синюю, страшную воду. Мнет и швыряет, и швыряет, и вода бешено взвивается и рушится на острые скалы. Скалы как зубы. Торчат из земли. Небо сожрать хотят! Да слабо им. Слабо нам всем! Войну опять заделали! Командиры врут: война локальная, не всемирная, Третьего Великого Сражения не будет! Ой, вранье. Местная битва запросто перерастет в гигантскую. И ржавый канат оборвется! И люстра свалится. И никто уже, слышите, никто осколков не соберет. Некому будет собирать.
Нам кричат: спускайся к океану-у-у-у! Зачем, думаю, ни пристани, ни корабля, ничего. Видать, там укрытия какие. Убежища. Или скалы так сгруппировались удачно, можно надежно спрятаться. Человек, такая хрупкая букашка! И давно уже изобретено оружие, которым можно всех нас, букашек, враз - и вжик!
Спускаемся по узкой тропе. Замедлили ход. А командиры торопят: быстрей! Боятся, что по нас вдарят до того, как мы все спрячемся. Пустынный океанский берег, кому тут что надо? Где тут цель? Я понимаю, город. Или оружейная база. Или ракетодром. Или электростанция. Или радары, я знаю, еще кое-где у властей сохранилась техника. Мы горохом сыплемся с тропы на каменистый берег. Вот он океан. У, какой синий! Глаза синь выедает. Синяя тьма. Не хотел бы я утонуть. Уж лучше пулю в грудь. Или сгореть в пламени. Огонь, это больно, верю. Но не больнее глотка соленой воды, когда тонешь.
И тут - хлоп! - оборачиваюсь - и что вижу! Мою девчонку!
Ексель-моксель! Вот это номер!
Кричу ей: ты что тут делаешь! Она мне кричит в ответ: а что хочу, то и делаю! И смеется! Во весь рот! Неудержимо! Смех, он всегда действовал на меня, как удав на кролика. Я гляжу, как она смеется, и сам смеюсь. Она подкатывается ко мне, ногами перебирает, вот уже рядом, вот обнимает меня крепко и утыкает голову мне в живот. Солдатик, кричит, возьми меня с собой, я же все равно за тобой увьюсь! Я гляжу по сторонам: командиры этого безобразия пока не видят. Надо гнать ребенка прочь, пока он цел! Кричу: беги отсюда, тебя застрелят! Она мне: а не увидят, я за тебя спрячусь!
И знаете, ужас в чем, и смех и грех, и правда она так ловко за мою спину спряталась, и шла со мной в ногу, след в след, как волчонок, и острые камни побережья я чувствовал даже сквозь толстые подошвы сапог, а она бежала за мной в таких тонких туфельках, матерчатых, и, кажется, намазанных мелом или чем-то белым, может, белилами, может, клеем. Мы подошли к самой кромке сине-черной соленой смерти. Командиры указали вперед, мы поглядели туда. За скалами по камням, по песку распластался низкий одноэтажный дом, величиной с большую баржу. У окон выбиты стекла. Маячила, издалека на солнце блестела стальная дверь. Нас погнали к этому каменному бараку. Дверь открыли, зазиял черный зев, и нас стали вталкивать туда, одного, другого, третьего, сотого, как выталкивают парашютистов из люка самолета. Убежище, догадался я, бомби не хочу, враг, хорошее укрепление. Выживут все. Или большинство. Девчонка так и просочилась в убежище следом за мной. Командиры делали вид, что не видят ее. Я закрыл ее спиной. Сел на лавку. Там лавки длинные стояли вдоль стен. Девчонка нырнула мне за спину, присела на корточки и едва дышала.
- Они, знаешь, увидят, как я хорошо сражаюсь. И даже дадут мне орден, - так бормотала.
Я еле слышал это глупое бормотанье.
Прекрати болтать, прошипел я ей, заткнись и сиди тихо. Она послушалась. А потом я опять услышал ее шепот. Она шепотом читала стихи. Я теперь знал уже, что стихи - это когда складно, как музыка. Раньше стихи клали на музыку. Я помнил.
Что ты там лепечешь, бросил я ей зло, и тут вдруг затих - этот лепет пронзил меня до костей, вошел в сердце и вышел под лопаткой, я не знал, что со мной, закрыл глаза и слушал детский лепет, как сладкую старую музыку, из-под век у меня, о стыд, слезы текли, я говорил себе: брось хныкать, ты же мужик, что ты как распустился, это негоже, но голос ребенка, этот невнятный нежный шепот проникал в меня, и я себя чувствовал бессильным сахаром в стакане крепкого, забытого кофе, - весь растворялся в том горячем, чему лишь одно имя было на земле, да я не хотел его здесь вспоминать.
Никогда не бойся остаться один, никогда не бойся остаться одна, просто жизни своей не ты господин, просто ты не муж, и ты не жена, просто вы, как травы, на миг сплелись, как солдаты, в избу вошли на постой, у иконы заплакали, во тьме обнялись, утром крикнули: куда ты, постой. Просто мир такой непорочный Содом, на поминках по счастью накрытый стол, а любовь, что любовь, она просто дом, куда ты вошел и откуда ушел. Ты прости, прости, если что не так, вот она за окном, звездных воинов рать. Наша жизнь, да, вся, стоит ржавый пятак, но мне жалко, так жалко тебя покидать.
Клянусь, она не знала, что такое икона, тем более, что такое Содом, и вряд ли знала, что такое поминки, и уж не догадывалась, что такое пятак. Деньга, наверное, какая-то старинная. Монета. Раньше были монеты и бумажки вместо денег. Потом появились обычные деньги, невидимые, их машины перечисляли людям на карты или снимали с карт. А железные монеты и ветхие бумажки люди коллекционировали. Водились, давно, среди людей такие собиратели, старые безумцы. А девчонка моя все бормотала, и я все слушал, и все плакал, будто я не мужик, а баба. Но почему она это читала? Неужели она это спела сама? Без никого? Сама придумала?
Как люди складывают слова, да так, чтобы певуче и мелодично? Для меня это всегда была загадка. Я не мог ее разгадать.
Я обернулся к ней через плечо. Она сидела на корточках на бетонном полу и шептала. Потом прекратила шептать.
- Стихи, - прошептала она. И умолкла.
Я нашел рукой ее руку и молча сжал. Спасибо, сказал я, утирая другой рукой нос и щеки от мокрятины, а теперь замолчи, или я тебя вышвырну вон и утоплю в океане. Хочешь? Нет, не хочу, прошептала она и тихо, весело засмеялась.
Мы все еще держались за руки. У меня никогда не было детей, я же вам говорю. А тут у меня образовался ребенок, да еще он читал мне стихи, совсем чудеса.
***
Война, каждый о ней когда-то слышал, когда ее не было, о ней рассказывали детям взрослые, а взрослые вспоминали рассказы своих дедов, тех, кто ее переплыл. Хорошо о войне рассуждать, когда ее нет.
Когда она есть - всех святых выноси.
Так говорила когда-то моя мать, а я спрашивал, что такое святые и почему их надо выносить всех, и откуда, а мать смеялась и говорила: так твоя бабка говорила. А бабке так говорила прабабка, и так далее. Про войну передают длинные, тайные, зашифрованные слезами и проклятьями слухи, передают ее пакеты и донесения из прошлого из рук в руки, так память о войне живет, и люди о ней не забывают.
Но не поэтому не забывают. А потому, что у нас в природе ненависть. А ее, я часто думал об этом деле, рождает зависть. Вот что по-настоящему страшно, так это зависть. Чертовщина это неподдельная. И человек не убежит от нее, как ни старается, во все времена. Старайся, ломайся, бейся, кувыркайся! А все равно кто-то будет лучше, чем ты, и ты ему будешь завидовать. Хочешь не хочешь, позавидуешь, если он - всяко-разно лучше тебя!
Чтобы ни разу не позавидовать, ты должен быть ну я не знаю кем. Таким спокойным, как слон. Или как тот, кого люди раньше называли Богом. Бог, это уважительное имя, я помню, некоторые даже закрывали глаза и втыкали в себя благоговейные пальцы, когда о Нем заговаривали. А некоторые расстилали коврик, становились на колени и утыкались лбом прямо в землю. И выкликали Бога по имени. Имен у Него было много, я это тоже помню, разные называли, но какие, я не запомнил. Я тогда очень маленький был. Гораздо меньше, чем моя военная девчонка. Я воображал себе: Бог сидит на небесах и командует людьми. Один Бог, а рядом с ним второй, а еще поодаль третий. И где-то вдали, за облаками, четвертый. Может, есть и пятый, и шестой, и сотый Бог, их, наверное, много, столько же, сколько людей. Это я так ребенком думал.
А потом Бог умер сам по себе, и я уже не думал ничего.
Зависть - злоба - ненависть - месть - ну, и война. Цепочка тут простая. Как дважды два четыре. Есть люди, для которых и дважды два - пять, и шесть, и даже десять, кто больше. Причем они доказывают тебе свою правоту. Не спорь, а то убью! Человек хочет быть правым во что бы то ни стало. И потом, война - ну да, сначала позавидовал, потом возненавидел, потом собрался с духом и подготовился к нападению, а потом напал, и тебе так хорошо от этого нападения, потому что так выходит наружу твоя злоба, злость ты не можешь долго держать в себе, она тебя на куски разорвет! Вот ты напал! Обрушил на врага своего всю свою военную мощь! Ты ему - мстишь!
И наслаждаешься. О, как ты счастлив! Месть! Это же такое счастье!
Ну вот скажите, вас обидит кто, плюнет вам в душу, а может, прямиком в рожу, вы что, ему морду не набьете? Еще как набьете! И - душу отведете! Да изо всей силы вдарите, от всей души, так, чтобы морду обидчика вашего злого в красную кашу расквасить. И все! Вы отомстили!
И вы - рады.
У вас открылось второе дыхание. Вы освободились. Вы отомстили за боль, за унижение, за злобу, за ненависть. Вы сами стали ненавистью и ударили! Все! Финиш! Разбомбили! В пух! Стерли с лица земли!
Убили? Да нет, вы только избили! А бывает, и убивают. Месть, это частенько убийство. Человек человеку волк, слыхали такие слова?
Вот так же и войны рождаются. Просто они рождаются. Как цыплята из яиц в инкубаторе. А мы все дурачки, мы все мечтаем, когда они кончатся. Да никогда. Мы для этого слишком не боги. Мы люди. А люди это звери. Все живое страдает и мстит. Поедает друг друга. Еда, это наслаждение. Вот и месть это удовольствие. Еще какое. Словами невыразимое. Вот и я помолчу.
Спросите, мстил ли я кому? А зачем вам это знать?
Вот мой военный ребенок точно никому не мстил. Думаю, девчонка моя даже не знала, что такое месть. Вот проживет на свете еще немного и узнает. Если раньше того ее не убьют.
***
Я подошел к командиру. Я не надеялся на чудо. Ни на какие чудеса я вообще никогда не рассчитывал. Но когда подходил, даже дышать перестал. Все внутри горело. Трудно было задать вопрос. Еще труднее попросить. Еще страшнее - признаться. Но я сначала признался, потом спросил, а потом попросил. Звучало это примерно так: командир, ко мне в городе девчонка пристала, я ее пригрел, и солдатам забава, можно ли ее оставить в роте? Пожалуйста! Короткая речь, сам знаю. Но я бы другой не держал.
Стою и жду. Командир у нас такой классный. Суровый, щеки колючие, а взгляд пробирает тебя насквозь, серо-зеленый, осенний. Болотные глаза. Кричит громко, глотка луженая.
Думаю: сейчас закричит. И я оглохну.
Я уже и руки чуть приподнял, согнул в локтях, чтобы уши ладонями защитить.
Стою и жду. Вскинул глаза. Командир молчит. Не кричит. Болотными своими, птичьими глазами глядит. И вот-вот закричит - не по-человечьи, а выпью.
Что за девчонка, тихо так бросает мне, хорошо ли знает свое ремесло, а может, и мне сосватаешь, когда время будет, что ж, пока держите рядом, только чтобы солдаты ни-ни, ни словца, а то на сражение должен прибыть генерал, из Лемурии-Квадрат-восемьдесят-восемь. К тому времени, надеюсь, натешитесь?
Я опешил, потом понял. Тут же отвечаю, и навытяжку стою: командир, никак нет. Неправильно вы поняли. Не за ту приняли. Она ребенок!
У него глаза на лоб полезли. Ребенок?! Отставить! Ребенка - вон отсюда! Ребенок, вон что выдумали!
Я тут как баран уперся.
Ей некуда идти, говорю, и сочиняю на ходу: у нее родителей убили, бабок-дедов убили, одна, жалко, а мы тут накормим, и все под присмотром, да все под крышей, в убежище. Оставьте, разрешите, а там посмотрим. Конечно, дети не должны с солдатами, но так получилось.
Он меня передразнил грубо: так получилось, так получилось!
И махнул рукой: э, да ладно, пусть живет. До первого боя!
После боя - в город машина пойдет, отправлю, пусть прибьется к кому хочет! Дети в действующей армии - не дело!
Я откозырял: сам знаю, что не дело, так точно, командир!
Он мне кричал в спину: вольно! - а я уже бежал в убежище. Сообщить моему ребенку, что его - со мной - оставили.
Вбегаю в барак, скатываюсь по лестнице. Девчонка моя сидит в бетонном бункере, скрестив ноги, около лавки, рядом с ней, в кружок, сидят бойцы. А у нее в руках колода карт. Старинных! Дама, король, тузы яркие, как морские звезды. Она колоду тасует! А солдаты глядят на нее, не спуская с нее глаз. К полу как присохли. Не шевелятся. Она карты сдает. Раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять, в бога-душу-мать. Я стою у железной двери в бункер. Смотрю. Все взяли карты. В них уткнулись. А девчонка как засмеется! У бойцов рты раскрылись, брови на лоб ползут. Карты эти не карты, а дрянные картинки. Неприличные! Обнаженка, переды, зады. И где только такие раздобыла! Командир-то в яблочко выстрелил, вот тебе и забава солдатам! Я подскочил, у солдат из рук карты стал вырывать, рвать пытался, они плотные. Девчонку мою за шиворот схватил. Приподнял с пола и тряхнул, как пыльную кошму.
- Ты что это?! - кричу.
А она смирно стоит, невинно так глядит. Черные коски между лопаток змеями ползут.
- Что, - говорит, - грубый какой? Ты раньше ласковый был. Ты что, смеяться не умеешь? Ведь это же так смешно! Голые человечки!
И сама смеется во весь рот. Хохочет. И бойцы хохочут. Ржут. И я стою, как дурак, оплеванный. И сам, волей-неволей, начинаю хохотать. Так все смеемся. Голос над нашими затылками летит: смешочки отставить! Да куда там! Разошлись не на шутку. Утихнуть не можем.
Я теперь знаю, как смеются перед смертью.
***
Нас построили. Мы пошли. Не стреляли. Не бомбили. Тихо было.
Я оглядывался: нигде девчонки моей не было.
Ну и шут с ней, подумал я, так даже лучше.
Останется тут, и боя не увидит, а просто так помрет, от бомбежки, от шальной пули.
Эх, подумал весело, у нас еще водились пули и водился огонь в старых автоматах. Старьем воевали. Новья-то неоткуда взять. И здесь, в Гондване, еще летали самолеты. Железные бочонки с острыми крыльями, с тупыми, а то с острыми мордами. Железные, а может, живые, я уже путал.
Идем. Взрыхляем сапогами пыль. Утро раннее, холод лютый. И не скажешь, что юг. Темный океан сердито плещет в каменный берег, в скалы. Буруны кипят. Вода такая страшная, цвета темной крови. Вот, и океан кровавый, думаю, на черта мы вообще воюем? И с кем? Не сами ли с собой?
Ого, меня прошибло просто до костей, ну да, выходит так, сами с собой.
А ноги идут. Они должны идти. Командир приказал. А девчонки нет.
Нет и нет! И наплевать.
Я топал, глаза были открыты, но я вроде как спал. И увидел на ходу, в смутном этом, грохочущем сапогами сне, ту старуху. Хельгу. Глаза ее приблизились ко мне и превратились в глаза девчонки. Я сделал над собой усилие и пробудился от стоячей спячки. Вовремя: я уже валился наземь, солдат рядом меня поддержал и выругался.
И я оглянулся. В последний раз. Безнадега!
И тут увидел ее.
***
Она бежала за нами, за всей ротой, за нашим тупым топотом и пылью, в этом своем ситцевом, в цветочек, платьишке, босые ноги мелькали в пыли, холодно ей было босиком, надо было сварганить любую обувку, да и ноги изранит, закровят, кровь заразится пылью и воспалится, черт, вот она, вот же она, тут! Моя! Бежит! Сломя голову!
Откуда вынырнула? Может, подстерегала? Сидела за камнем у нас на пути?
А, да не все ли равно!
Бежит! За мной! Со мной!
Тут такое со мной сделалось, не описать. Все во мне перевернулось и заплясало.
А я не знаю, как ее зовут!
Все равно ору:
- Ты! Девчонка! Моя!
Солдаты оборачиваются. Ржут.
- Твоя, твоя!
- Дождался!
- Да уж больно мала, килька!
- Развращение малолетних!
Мне плевать на эти все иголки, загоняйте под кожу глубже, не почувствую. Оба еще живы! А бой завтра! Вот она бежит уже с краю колонны, в ногу со мной, рядом. Вот пробирается, проталкивается меж солдат. И со мной вместе - ать-два, ать-два! Строевым шагом - идет! Потом как захохочет! И просто так опять побежала рядышком: ножки-то маленькие, в ногу с большеногими шагать.
Я руку ее нашел. Сжал. Никто не видит, командир далеко впереди.
- Догнала!
- А то! Я быстроногая.
- Тебя как звать-то?
Задрала голову, бежит рядом, на меня глядит. Лицо, как вымытая тарелка, на пыльном солнце сияет.
- Роза!
- Ух ты! Как цветок!
- А тебя?
- Макар!
Солдаты идут рядом, хохочут.
- Розочку нашел!
- Береги теперь!
Волны лупили в каменные зубы скал. Берег воевал с водой. Так всегда.
Я набрался духу и спросил:
- А ты не боишься помереть? Ну, убьют вдруг тебя?
- Боюсь! - крикнула она. А потом добавила:
- Ну и наплевать!
- Ну и наплевать, - повторил я за ней.
Как ночные стихи.
***
Мы воевали по-старому. По-древнему. Так было проще и страшнее.
Выбрали место. Противник тоже не дремал.
Каменное плато, поблизости мрачный океан, песок и скалы, за нашей спиной - горы, если что, уйдем туда. Все при нас: артиллерия, минометы, танки тоже имелись, но танков немного. Не разживешься. Что у противника, мы не знали. Откуда нам знать? Об этом знали командиры, да нам не сообщали.
Не знали, когда начнется.
Ну вот, началось.
***
Что толку рассказывать бой? Бой он и есть бой. Страшен он. Так дик и страшен, что болтать о нем - вроде как себя предавать. Только начну говорить, и горло как веревкой перехватывает. Не могу. А уж взялся, так хоть что-нибудь сказать надо.
И что? Лупанули из-за окрестных гор. Мощный огонь встал. Мы лупанули ответно. Потом видим - у них пехота побежала, все хорошо защищены, в старинных касках. У нас тоже кое-кто в касках щеголял настоящих. А у кого не было таких, вот у меня, к примеру, те самодельные пялили. Я смастерил себе каску из рыбацкого котелка - на берегу океана подобрал. И очень даже подошел по размеру. Маленький, я к нему завязки проволочные приделал. Девчонке моей заповедал: вон блиндаж, тихо сиди, не высовывайся!
Что ж... Началось...
И продолжилось... длилось... все длилось и длилось...
В бою секунда - как год, а минута - как жизнь.
А если бой идет час, день, месяц - ты, если жив остаешься, проживаешь в бою тысячу жизней. И, значит, ты уже бессмертен. Ты уже вроде как Бог.
Бог? Кто такой? Я еще помнил. А все забыли. Ну, почти все. Наверняка кто-то помнил, как я.
С Ним было легче помирать, факт.
Лица плыли и косели от ужаса. Щеки надувались, как пузыри, и лопались. Волосы вставали дыбом и на ветру катились колючим перекати-полем. Суставы выходили из пазов и сочленений, руки рвались, как свежий хлеб, ошметки летели по черному ветру. Рты разевались шире печного зева. Зубы изо ртов выпадали на землю и тут же всходили кровавыми ростками, и красные ветки и листья бились, лопались и вытекали в черноту красной лавой. Я не могу рассказать это, но все люди внезапно стали чудовищами, и эти чудища на огромном плато близ океана дрались не на жизнь, а на смерть, и как еще от нас и от них что-то под тусклым солнцем оставалось, я не понимал. Башка моя перестала варить. Война, это когда тебе кричат: "Умри!" - и ты послушно помираешь, ведь это приказ. Но помираешь не в одночасье, так-то оно хорошо бы, а долго, всю оставшуюся жизнь. К черту жизнь, скорей бы смерть. Так - тогда - было.
Я видел, как над чужим бруствером восстали из-под земли нагие фигуры; я не различил, мужики это были или бабы, откуда в бою бабы, да оттуда же, откуда и моя девчонка. Голые люди шли, будто по воздуху, по земле и ямам, над землей и водой к нам, грешным и злым. В бою важно быть злым. Злость спасает. Не молитва. Наплевать уже на молитву. Жизнь все равно сейчас оборвется. Так надо хорошенько обозлеть напоследок.
Злость! Это другая сторона зависти.
Кто кому позавидовал на нашей гиблой земле? Опять, в который уж раз?!
Я-то не знал. Мне на это было плевать.
Но я точно знал: один владыка позавидовал другому, а может, дрянь, украл у него что-то. Ну, к примеру, военные разработки. Или, скорей всего, позавидовал просто тому, что у другого - просторы шире. Недра богаче! Леса и угодья изобильнее! А места для жизни все меньше, а у этого, другого, гляди-ка, сколько у него земли, где еще можно - жить! Пойдем на него войной!
Думаю, так все оно и началось. Третье Сражение.
Бог троицу любит, а может, последнее. После него, небось, и Земли никакой не будет. Все, конец. Недолго музыка играла.
Голые людишки уже подбредали к нашим окопам и к нашим минометам. Провались все на свете! У них горели волосы! Дыбом вздымался огонь на башках! Я обалдел. Себя ущипнул! И сами их телеса все в волдырях. Обожженные. Они еще шли! Еще могли идти! Я видел, как они валятся на землю и вдруг превращаются в бобров. Толстые хвосты-лопаты подрагивали, еле шевелились. Бобры на глазах стали кучами черного пепла, из него торчали кисти рук, ступни, подбородки. Головы стали голыми черепами и скалились сверкающими и гнилыми зубами. Я закрыл лицо ладонями и застонал. Сейчас нас погонят вперед!
И погнали!
Я, будто с небес, услышал дикий вопль: "В атаку!" - и вокруг поднялся грохот и вой, людской дым заклубился, полетел вперед, люди, обращенные в булыжники и железяки, покатились вперед, туда, куда ушел дикий крик, меня подхватила железная, орущая, потная волна, я побежал вместе со всеми, это была атака, и мне было глубоко наплевать, умру я как герой в атаке или в окопе, прижавшись пузом к земле, в грязи валяясь, и атака не слава, и окоп не позор, на войне все равно, все как во сне, все потустороннее, это только кажется, что войну ведут люди с людьми, нет, войну ведут чудовища с чудовищами, я понял.
Мы бежали в атаку, и я только повторял про себя: вперед, вперед, - а потом уже и это слово повторять перестал, бесполезно. Бежал, а казалось, перебирал на одном месте ногами. И не трогался с места, буксовал. Может, я стал машиной? Танком, и завяз гусеницами в грязи?
Бежал с закрытыми глазами, и тут открыл вдруг глаза.
И увидал: на нас, вставших в атаку, на всех, кто бежал вперед, надвигалась стена из железа. Пушки торчали. По обе стороны железной реки бежала вражья пехота. Танки и пехота вместе, да они с ума сошли, но правила военного искусства нарушил кто-то чудовищный и гадкий. А там, за бегущим на нас врагом, горели в скалах, в горах лютые, громадные костры. Они светились, огненные колеса. Катились. Сейчас ветер сорвет их с места, и они покатятся на нас. И нас сожгут. Этим все кончится.
Я представил себе огненную смерть, и понял: счастливые люди, что погибли в тех, Первых Сраженьях: раз, и нет ничего, и тебя, главное, нет. Не успел осознать, где бытие, а где его нет уже. Счастливчики. Раз, и в дамках. В каких дамках? Так мой дед говорил. А что такое дамки, я не знаю. Карты, может?
Враг катился на нас, смерть колесом катилась, и я не знаю, что тут со мною сделалось. Не могу объяснить! А, нет, могу. Когда-то давно, когда я еще жил в Лемурии, мальчишкой, я стал свидетелем одного события. Одной странной и страшной уличной сцены. Я болтался, как все мальчишки, на улице. Спустился вечер. Стемнело. Зажглись фонари. Улица узкая была, помню. И вот из-за угла вывернулся волк. Настоящий! Я затаил дыхание: черт, из зоопарка? Или охотник не добил? Или кто-то тронутый - ручного дома держал, а зверь сбежал? Факт, что сбежал. Откуда, да все равно. Волк шел осторожно и глядел вперед своими тускло горящими, светло-желтыми глазами. Я застыл и проследил за его взглядом.
И понял, что он идет за женщиной.
За красивой женщиной, я был пацан, однако хорошо понял, что женщина красива. Большие глаза, высокая шея, красивые ноги и руки, походка такая летящая, как у моей военной девчонки. Женщина шла и не видела зверя. Потом остановилась и как-то странно, зябко повела плечами. Она, видать, почуяла его взгляд.
И волк встал. Так стояли: она и он.
Потом она пошла вперед, и волк пошел. Потом волк побежал, вытянув хвост, и женщина в испуге оглянулась и тоже побежала. Я бежал следом за ними. Мне так стало интересно, что тут творится! И вдруг женщина куда-то делась из виду. Я пробежал немного вперед и увидел чудо. Она достала зеркальце, помаду... и красилась! Да нет, не поняли вы, не подмазывалась по-бабьи! Нет! Она торопливо размалевывала свое лицо, превращая его в кровавую маску клоуна! Чудища с красным, до ушей, ртом! В маску человека-зверя! И этот новый, красный зверь - смеялся!
Ее страшная рожа смеялась!
И смех этот, на лице нарисованный простой помадой, был страшнее железной стены танков и дивизии зверей-солдат со штыками наперевес!
Вот так поворот! Я замер. Глядел. Прохожие спешили, кто шел мимо, а кто и останавливался, тоже смотрел на все это дело. Вместо женщины навстречу волку шел СМЕХ.
Волк остановился и глядел желтыми глазами в глаза безумного Смеха.
И тогда Смех раскинул руки и сам засмеялся. Во все горло.
Растопырив руки, пошел на врага. На волка! Шаг! Еще шаг! Ближе! Ближе!
Волк превратился в глыбу серого льда.
Люди собирались, выныривали из подворотен, бежали с площади, да, широкая площадь была тут, рядом, узкая темная улица впадала в нее, в ночную звездную ширь, и мы все смотрели, что будет, и тут кто-то всунул в руки этой бабенке - живого красного петуха! С размалеванной помадой рожей, с красным петухом на руках стоял посреди толпы Смех, и его от смеха колыхало, и люди стали тоже все смеяться вместе с ним, а Смех смеялся громче всех! Петух на руках у Смеха закричал свое кукареку. Люди пускались в пляс. Они стали одержимы смехом. Весельем! Смех заразителен! Он сильнее ветра, сильнее снежной бури! Он тебя так заметет красным снегом - не заметишь! По горло! По макушку! Красной водой затопит! Красной землей засыплет... тебя, еще живого...
Я понял, что надо делать. А может, не надо. Но было уже поздно. И все равно.
Я на бегу выхватил из кармана военный нож. Выстрелил лезвием. Резанул руку чуть пониже локтя. Брызнула кровь. Я окунал в свою кровь пальцы и раскрашивал себе лицо. Котелок этот рыболовецкий с затылка сбросил! Лоб мазал красным, щеки! Разорвал гимнастерку на груди, раскрашивал себе грудь красными военными узорами! Я был одновременно и воин, и Смех! Последнее, что сделал я с лицом, это нарисовал кровью себе вместо губ чудовищный красный, громадный рот - в красной, до ушей, идиотской ухмылке. Все! Я - Смех! Я смеюсь над врагом! Смеюсь над собой! Глядите на меня! Эх, жаль, красного петуха сегодня нет!
Смех бежал на врага.
Это я бежал.
Солдаты рядом со мной падали под выстрелами. Валились в ямы. Царапали ногтями землю и камни. А многие бежали рядом со мной. Я держал в руке старинный автомат и угрожающе тряс им, то я не стрелял. Я ведь был Смех! Я - сам над собой смеялся! Над тем, что вот я воюю, я несу смерть, сейчас кого-то убью, или убьют меня, а я смеюсь над врагом, кто родной, кто чужой, эй, на первый-второй рассчитайсь!
И вот я так бегу! Кровавый ртище мой скалится!
И зубы-то у меня красные! И грудь в потеках крови, в красных ручьях!
Ну, убейте меня! Я же ваш Смех!
Вы же свой Смех - не убьете! Даже сквозь слезы!
А я все иду! Бегу! И хохочу! Во всю глотку!
Смех, это же песня! Это... стихи! Их мне Роза читала!
Слушайте, хохочите! Сами над собой! Вы смешны, потому что вы злы!
Ваша ненависть смешна!
Ваш обман смешон!
Ваша злоба не стоит ни гроша! Лишь потешиться над ней!
Ваша месть жалка и смешна, и я смеюсь над вами до слез! Месть ваша помрет вместе с вами, и никто вашу ненависть и месть ни разу не вспомнит!
А ваша война?!
Ваша война - просто умора! Беспомощная игра! Кошмарный и дикий сон, а проснешься - веселье охватит! Вот что такое ваша чертова, дрянная война!
Смейтесь над ней вместе со мной! Не пожалеете!
Я смеюсь над войной! Я высмеял ее навек! Я...
Загрохотало, и я упал и отключился.
***
...очухался, под спиной холодно, то ли земля, то ли камень, не разобрал. Темно. Во тьме - ходят огни. Да, пахнет землей, и под ладонью скользит и плывет. Грязь. Окоп, скорей всего. Лежу в грязи. Хлопаю глазами. Внутри тепло, горячо даже. И больно. Где, не пойму. А только здорово болит. Шепот слышу. Лица не вижу. Очень темно. Огни далеко, будто на том свете. Ходят и гаснут, ползают, как яркие клопы по ветхому ковру.
- Ты, очнулся. Макар...
Голос девчонки моей. Розы.
Ее самое не вижу. Только огни.
- Я жив?
- Ну, сам видишь. Я спасла тебя. Ты так хохотал. На все поле боя. Все перестали стрелять и глядели на тебя. И слушали, как ты ржешь. Как конь. Потом в тебя выстрелили. И подстрелили. Издалека. Наверное, снайпер. И все опять побежали вперед и заорали. Куча мала! Каша такая! Все всех убивают. Я теперь знаю, что такое бой. Слушай, я тебя спасла от смерти.
- Как...
- Лежи уже! Молчи! Я вытащила тебя из-под бегущих. В меня тоже стреляли. Да не попали. А в меня разве попадешь. Я ловкая. Отовсюду вывернусь. Тебе пить дать?
- Дай. Куда я ранен?
- В грудь. Да брось, ничего не задето. Пуля навылет прошла. Еще в руку. В левую. Немного полежишь, и опять стрелять будешь.
Я услышал ее тихий смех.
Она еще могла смеяться. Я уже нет.
В окопе появлялись странные люди. Солдаты, кто в камуфляже, кто в болотных гимнастерках, кто в кафтанах с кружевами и в атласных перевязях, и смутно, перламутрово и печально мерцали на атласе почетные ордена. Офицеры, увешанные знаками былого отличия, я не различал их, только видел: военный горн заткнут за муаровую ленту, эполеты неслышно шелестят на пожарищном ветру витыми золотыми нитями. Мальчишки, они держали копья наперевес, а я сквозь ресницы плохо видел и подумал, автоматы. Старики, их сморщенные лица текли и перевивались сырой дубовой корой, будто шел дождь, и с мокрого старого дерева наземь стекали капли. Старики были в старинных кепках, такие еще до первого Великого Сражения носили, в ржавых касках с завязками под колючими подбородками, а кое-кто щеголял в тюрбане. Тюрбаны туго наверчены, поднимаются вверх, горы цветного яркого снега. Сейчас растают. И еще затесался меж людьми знаменосец, он тяжело держал знамя, кривился от натуги, знамя весило больше, чем он сам, чем все тут, вместе взятые, раньше в атаку ходили со знаменем, я знал. Знаменосец смотрел на меня, красное лицо, красный нос, будто хорошо выпил. А может, вроде меня в бою, вымазался кровью. А я? Я все так же смеюсь или уже тихо лежу и плачу? Краску смыли! Кто смыл? Моя девчонка? Из толпы вышел вперед человек, я разглядел у него на плечах погоны капитана. Гимнастерка нынешняя, а штаны бархатные, в складку, и внизу, у голенищ сапогов, оторочены грязными, в крови, кружевами. Ужас крепко обнял меня. Бред, я бредил, у меня было право бредить.
Между ног, локтей и животов всех этих непонятных людей возник свет. Приблизился. Превратился в девчонку. Коски по плечам, глаза блестят. В белом платье, вроде как в марлевке. А может, из военных бинтов пошитом. Длинное платье, до самых пяток. А к поясу привязана ощипанная птица. Я прищурился и рассмотрел. Курица! Голая! В пупырышках! Девчонка беззвучно смеялась. Трогала мертвую голую курицу тонкими пальчиками. Губы девчонки то вспыхивали красным, будто намазанные помадой, то заворачивались внутрь, под зубы, как у старухи. Ее лицо меняло возрасты, времена. Коски черные, а вдруг становились золотыми и излучали свет, бросали в толпу пучки света, а то мерцали тусклым серебром, старая, седая пакля. Роза, вышептал я, Роза, ты Роза?
Моя Роза наклонилась надо мной. Слишком низко. Я мог в подробностях разглядеть ее лицо. У нее на носу рассыпались конопушки! А между бровей залегли морщины, как у взрослой. Она приоткрыла губы, я видел, как поблескивают ее смешные, слишком крупные зубы. Видел родинку на щеке, под глазом. Она была слишком родная. Вроде как моя мать, только в детстве. Или моя жена, и осталась юной навсегда, а я лежал, старик, и тут умирал. Я ощутил ее пальцы на своем теле. И нежное шуршание.
Она перевязывала мне рану.
Пыталась перевязать. Втыкала мне пальцы под ребра.
- У тебя здорово накровило. Бинт весь мокрый. И повязка кровью пропиталась. Я сменю.
Я попытался привстать, чтобы ей легче было залезть мне под спину. У меня не получилось.
- Не суетись, - сказал я ей, - не суе...
И опять вырубился.
***
Думаете, один бой пережили, и все? Война это война. Она - бой непрерывный. Война не делится на бои. Это глупо, делить время войны, отрезать от него куски, как от копченого мяса. Война, это время, которое убили. Это труп. И вот он лежит и смердит, а все вокруг думают, что он встает и бежит в атаку, и сражается, и сам убивает. Все бредят. А он уже нет. Время погибло и остановилось.
Так надо. Кому - надо? Мне? Им?
Никому оно не надо. Только война все никак не помрет навеки.
Мы-то думали, второе Великое Сражение последнее. А ведь и это и не последнее, и невеликое. Что говорить. Это малютка-война, ей до всемирной семь верст до небес, и все лесом. Так моя бабка говорила. Я помню бабку. Я ее застал. Не все сейчас помнят своих бабок и дедов. Значит, я счастливый.
Много всего видели. Хлебнули мы. Моя девчонка в руинах города, что мы освобождали, подсмотрела: солдаты насилуют бабенку. Когда солдаты отступились и исчезли, бабенка встала, растрепанная, в изорванном платье, поглядела вокруг, нашла на земле острый камень и им, каменным рубилом, вскрыла себе грудь. Облилась кровью и умерла. Роза рассказывала это, жмурилась, тряслась и всхлипывала: "Она там еще долго корчилась! На камнях! А я ничем ей не могла помочь!" Я обнимал мою девчонку за плечи и утешал жалкими словами. Слова на войне не значат ничего.
Я бы мог рассказать вам, как на наше орудие, как на коня, залезала древняя старуха, она сошла с ума от войны и рвала на себе изношенное платье, и плясала на пушке, как молодая на свадьбе или на празднике в толпе. Как тощий мальчонка взбирался на мертвый танк и полз по стволу пушки, а танк оживал и стрелял, и пацан падал вниз, полз по земле, а вокруг снаряды взвивали вверх черные веера земли, а белые камни лежали, как голые кости. И снаряд настигал парня, стряпал из него красную лепешку, а Роза моя на это глядела и прижимала ладонь к губам, заталкивала крик в глотку, а глотка все равно кричала, не унять. Как на плато, под взрывы, выбегали скелеты и поднимали вверх кости рук, и лягали воздух костями бешеных ног, они плясали, и это было смешнее моей раскрашенной кровью рожи, опять скажете, бред, да не я один видел это.
Я хотел одеть скелеты потеплее, надвигалась зима, в этих широтах Гондваны она обещала быть крутой, круче только зима Лемурии на северных морях, я там был, на лемурийских северах, там ходят по зеленому льду белые медведи, они после второго Великого Сражения еще остались жить среди снегов. Я кричал: Роза, давай сошьем им шубы! из шкур врага! - девчонка хохотала громко, а может, рыдала в голос, я не разбирал. Я шептал: а кто такой враг? может, враг это друг? может, враг это врач? и он вылечит нас всех от ненависти? Однажды ночью я увидал Розу в мужском наряде; гимнастерка, заляпанная коричневой засохшей кровью, штаны до колен подвернуты, и рукава тоже закатаны, выше локтей. Только что не в сапогах: босая. Босиком, да по таким острым камням, по сухому снегу! Ноги обморозит! "Ноги обморозишь", - хотел сказать я ей и не мог: рот у меня замерз, и губы склеились. Роза-солдат подошла ко мне, лицо ее было слишком суровым. Я такого лица не видал у нее никогда. Ты вот что, сказала она жестко, разберись, с кем ты, с нами или с ними. Ты все время говоришь мне о них жалеючи. Это враг! Убей врага! Где увидишь - там и убей! Мне страшно было заглянуть в ее лицо. Но я смотрел. И видел там ненависть.
А утром проснулся - лежит Роза и мирно спит. В девчачьих тряпках своих. А чужая гимнастерка и чужие портки аккуратно сложены рядом. С мертвеца сняла и примерила. Развлеклась.
Она хотела стать мужчиной и воином.
Да не могла.
И я понимал: печально ей от этого было.
Зима надвинулась вплотную. Я мог бы рассказать вам, как пачками гибли наши солдаты от холода, просто лежали под падающим медленно, плавно жутким снегом, на морозе, и сладко засыпали. Как орали обмороженные, когда полевой хирург отламывал им от рук мертвые пальцы. Как мы ловили пингвинов и убивали их, чтобы пожрать, потому что закончились и консервы, и галеты. Как умирали солдатики просто с голоду, а вот я не умер, и Роза не умерла, мы живучие оказались. Как умерших с голоду кого хоронили меж скал, кого сбрасывали в пропасть, кого бросали в океан, чтобы он навеки потонул там, в темной синей соли, а кого взрезали стреляющими солдатскими ножами, чтобы выпотрошить, разделать и зажарить. Да, мы делали так! Ревели, как быки, и делали это! Мы хотели жить.
Жизнь опять оказывалась сильнее смерти, и сильнее порядка, и уж точно сильнее стыда и забытого Бога.
Мы сидели у костра, огонь прыгал и плясал, выхватывал из тьмы лица моих товарищей и лицо Розы, она сидела слишком близко к огню, засовывала в огонь руки, я кричал: убери лапы, сожжешь! - она отдергивала руки и беззвучно смеялась. Я, в сполохах огня, видел привязанную к ее поясу курицу, с обмотанными проволокой лапками, и я понимал: брежу опять. Одна половина башки мыслит, другая видит. То, что видеть нельзя. Не положено.
Одна коса у Розы туго заплетена, другая развилась. Волосы сползают по спине, ветер относит их к костру, огонь поджигает концы, и пахнет паленым рогом. Спиртное давно закончилось, травяной чай тоже. Солдаты в котелке на костре кипятят снег и лед. Кипяток пускает детские пузыри. Я гляжу: это моя бывшая каска, над костром. В ней кипятят пустой чай. Чай, старое название, но так надо. Чтобы люди ничего не забыли. А то забудут очень быстро. И даже забудут, что они - люди.
Я уже давно хожу не в железном котелке, а в настоящей вязаной шапке. Мы расстреляли, не нарочно, так получилось, заброшенную деревню в горах. Погибли люди, овцы и ламы. Лам и овец мы освежевали. Из шкур смастерили куртки и душегреи. А Роза нашла в одной хижине, за печью, целый ящик вязаных шапок. Может, хозяйка торговлей шапками промышляла. Скорей всего. Немногим солдатам посчастливилось. Мне тоже. Мы красовались в шапках из шерсти ламы и даже чуть гордились этим. Иногда давали поносить товарищам с отмороженными ушами.
Все, знаете, было ненастоящим. Ну, таким, как во сне. Мне часто чудилось, что я сплю. Тогда я больно щипал себя за руку или за ногу, и потом на этом месте расплывался синяк. Синяк был подлинный, и все вроде было реальным. Нет. Не все. Кое-что было нереальным.
Я делал выводы: нереальной была сама эта война.
И я ужасно, до боли хотел проснуться.
Я орал во сне: эй! Макар! что дрыхнешь! позор тебе! проснись! ну, быстро проснись! - и просыпался оттого, что меня сильно трясли за плечо. От боли в ране просыпался. Задыхался и кашлял кровью. Я мог ходить и мог уже стрелять, но рана болела, и Роза привязывала к ней неизвестные мне сухие травы - о лекарствах не шло и речи, когда умирали и выживали наудачу. Травы помогали. Лицо Розы наклонялось над моим.
- Эй, слышишь, что так орешь! Других перебудишь. Проснись!
- Я проснулся, - говорил я, язык заплетался, - ты же видишь, проснулся, про...
- Нет, - рот Розы зверино скалился во мраке, - нет, ты не проснулся. Тебе кажется, что ты проснулся. А ты спишь. Тебе снится ужасный сон! Ну давай, давай, разлепляй глаза!
И она опять вцеплялась мне в плечи и трясла меня, а потом еще для верности вскакивала и пинала меня босой ногой в бок.
Я вскидывал руки и смеялся.
- Хочешь, опять стану Смехом?
Девчонка мотала головой.
- Ну тебя! Ты будешь страшный! Не Смех, а Ужас! Ты человек. Хватит спать!
И тогда я делал над собой последнее, ну совсем страшное, ужасное усилие, и растаращивал глаза, и выкатывал их из орбит, и глаза мои из-под черепа вылезали и ползли по щекам, и откатывались от меня вбок и вдаль, и катились сами по себе, и я уже не видел их, моих глаз, зато они видели все: и снизу, с грязного пола казармы, что командиры устроили в каменном старом сарае, и сверху, из-под потолка, и с неба, где медленно вращалась чертова звездная люстра, я все ждал, когда она упадет и разобьется, полетят во все стороны света хрустальные иглы и комья, свет расплещется вширь по тьме, и тьмы не станет, костер света все зажжет, и все в нем сгорят, и всё сгорит - и льды, и синий жестокий океан, и пингвины, и орудья врага, и сигнальные сиротские огни в горах, и надежда, и проклятая вера, мы ведь все еще верили во что-то тайное, в то, что нам всем еще можно верить, - и глаза катились все дальше, закатывались из пространства во время, шныряли между скал, как между мертвых ребер, и земля поднималась из могилы скелетом, и пыталась плясать, опять плясать и смеяться, под звездной гигантской люстрой, как на старинном вокзале с железными поездами, напялив маску Смеха, и руки поднимала под погибельным звездным колесом, земля уже не боялась никакой смерти, и смерти мы все тоже ни черта не боялись, мы ее счастливо пережили, и мы все, вот ужас, уже были, наверное, зомби, а может, наоборот, вечно живые, святые, мы все воскресли, и солдаты, и мирные жители, и командиры, и бедные мохнатые ламы, и трусливые овцы, и старики, и дети, все-все, нас слишком много толклось тут мертвой огненной мошкарой над ярко горящим костром, и бесполезно, горько горел огонь, и плакали мы, танцевали, друг у друга кость жизни выхватывали, обгладывали, как звери, бросали в костер костяными дровами: гори! до зари! - и девочка рядом со мной плясала, за руки меня хватала, шептала: все начнем сначала, сначала, - и я шептал ей: ты дура, ведь кончается все, океан и огонь, и твоя ладонь, и война, и время без дна, а она мне шептала в ответ, и скалила зубы, смеялась опять: а ты дурак, тебе ничего не понять, а я, жизнь твоя, одна у тебя, одна.
И бормотал я девчонке, крепко в пляске, как в сказке, сжимая руки ее у костра: это что же, стихи? стихи, да, скажи? И шептала она мне, сжимая мне руки во взрослой, будущей светлой ласке: да, стихи, это наши грехи, наши молитвы, они глухи и тихи, лучше ты обними меня, согрей, не дрожи.
Ночное небо, знаете, вертелось над нами, катилось на нас, падало и все никак упасть не могло.
И я обнял девчонку. В ночи, на войне, у костра. Небес расширялась дыра. И мне стало сразу так покойно, тепло.
И по лицу соленое, стыдное потекло.
***
Мы просто воевали. Если бы нас спросили: из-за чего война? - мы бы не ответили, никто. Есть вопросы, на которые нет ответов и никогда не будет. Из-за чего, или из-за кого, или там почему, зачем, неважно, и главное, неважно, кого с кем. У нас просто были командиры, они отдавали приказы, и мы шли в бой. И все. Так все просто.
А если даже и сложно, для нас все равно все было просто.
Война, да ведь это же месть. Месть, натурально! Ты у меня нечто стащил - неважно, что: кусок золота или коробок спичек - так я тебе отомщу. Я тебе - морду набью! И вот люди бьют морду друг другу, и страны тоже бьют. Теперь на земле стран нет, есть суша Лемурия и суша Гондвана. И Гондвана и Лемурия друг другу морды бьют. Видать, одна перед другой в чем виновата. В чем? Не нашего ума дело. Солдат не рассуждает. Раньше ходили в бой за родину. У нас теперь родины нет, есть Лемурия-Квадрат-такой-то, Гондвана-Квадрат-сякой-то.
Плохо это? Не знаю. Хорошо? Опять не знаю. Я ничего не знаю, не рассуждаю, иду в бой по приказу.
Правда, иногда всплывают, в наших байках у костра, призрачные слова, они обозначают тайну, но не называют ее. Нет имени нашего правителя. Нам нельзя его слышать и повторять. Он где-то тут, в Гондване, сидит; может, спрятался в горах. Может, торчит в батискафе на глубине, в океане. Синяя толща ужаса укрывает его. А мы тут. Бегаем, клопы. Крысы в военной форме. Нет нам спасенья. Все равно все умрем. Мы привыкли к этой мысли. И к этому чувству. Я - привык. Не страшно.
Мир устроен так или сяк, все равно. Иногда мне кажется, я иду по земле, и земля обо мне думает. Да если так прикинуть, мыслит все. Мыши, черви, змеи. И змея не хочет умирать. И хорошо чует смерть.
А мельчайшие козявки? Хуже того: вот коробок старинных спичек, ими же мы до сих пор пользуемся, может ли он думать? Ха, ха! Кому расскажи, освищут. А то командир в лазарет отправит, а это верная смерть, еще вернее, чем в бою, врачи сумасшедшим сразу черный укол, раз - и нет солдата. У нас уже такие случаи были. У черного Кельвина крыша накренилась, его увезли в лазарет на машине командира, мы думали, полечат, а ему черный укол, и кранты. Милосердия давно нет.
Поэтому Роза у меня - чудо. Я никогда не думал о чуде. А оно вдруг само пришло.
Засыпаю, глаза закрываю, она подползет, как зверек, под бок мне закатится. Я понимаю, ей отец нужен. Или старший брат. А я кто? Воспитатель? Вождь? Да, я веду ее. Глаза закрыты, тепло Розы рядом на меня льется, командиры молчат про завтра, может, еще продлится затишье, а под веками у меня скачут-прыгают маленькие пятнышки. И я думаю: вот, я мозгом своим вижу свои клетки. Ну, мельчайшие частицы, из которых состою. Не глазами вижу, чем-то другим. И вдруг - удар: нет, это я вижу иной мир! Подземный, может. Там копошатся насекомые, жуки, личинки. И они тоже мыслят. Они - мыслят - мной.
Вернее, они мыслят своими словами и говорят друг с дружкой на своем языке, а за долгие века этот язык стал человечьим, и мы все на нем теперь говорим. И думаем.
Вот почему земля меня понимает, думаю я, засыпая.
Месть, да, месть. Владыка Гондваны поссорился с владыкой Лемурии. И один другому сказал: ты мне насолил, и я тебя убью! И Лемурия будет моя! Ну хорошо, захватит он Лемурию. Ляжет на всю Лемурию его тень. И что? Станет владыкой всей земли. И что? И что, что?
Что дальше?
Какого беса ему вся земля?
С кем теперь-то воевать будет?
А букашки эти, жучки-паучки, а эти малюсенькие частицы, из которых я, дурак, состою, они что, друг с другом тоже ссорятся, мстят друг другу, воюют? Ого-го! Еще как! Там тоже войны будь здоров. Вот человек болеет. Ясно как день, что в нем, внутри, в это время кто-то подрался. И дерется с врагом насмерть. Малые фитюльки, огромные зверюги, оголтелые народы - все дерутся. Мстят! Завидуют, идиоты, друг дружке, что ли!
Я подозреваю так, что и планеты воюют. Мы только не видим. Нам в детстве мать рассказывала сказку о существах с других планет, или там со звезд, ну, что они к нам прилетали и с нами воевали. И нас вирусом войны заразили. Я так думаю, это просто страшная сказка. На самом деле все проще. Война - она в крови течет.
Война течет у нас в крови, и ненависть течет, и месть.
И нет против этого никаких уколов. Ни черных, ни белых.
***
И знаете, дайте-ка я закурю, посмолю немного, что самое странное, страшное? Я все время вспоминаю Люстру.
Думаете, люстру, просто люстру, гору из кучи ламп и стекляшек? Так вот нет же. Именно Люстру. Потому что, знаете, она была живая, и когда-то в своем городе, в метельные непроглядные, черно-белые вечера я шастал на вокзал, чтобы под ней, под Люстрой, немного постоять.
Пес его знает, зачем. Стоял под ней, голову закидывал, она бросала в меня снопы медного света, такие длинные световые медные иглы, и я ежился, и она была как еж, царский гигантский еж, царица света, а может, колесо, гремящее золотом и болью, временем, золотыми застылыми слезами. Красиво говорю? Ну так я же от Розы научился. Она время от времени говорила стихами, и я за ней повторял.
Люстра, царица. Я приходил на железнодорожный вокзал, стоял, задрав голову, и глядел, и слушал. Я слышал, как она звенит. Всеми, знаете, такими плоскими, длинными золотыми пластинами. Они золотой щеткой свисали с нее, сквозняк их колыхал, и они звенели тонко и прощально. Люстра знала, что я уеду на войну. Вообще она знала все. Что грянет Второе Великое Сражение. Что людская ненависть вырастет с огромного волка, будет бегать по миру и загрызет мир. Она понимала меня, Люстра, а я ее не понимал. Хотя мы с ней говорили на одном звенящем языке.
Роза научила меня говорить на разных языках. С комарами - по-комариному. С крабами - по-крабьему. С водой - по-водяному. С песком - по-песчаному. С огнем, ох, да, опасный разговор, - по-огненному. Со звездами - по-звездному. С оружием - по-смертельному. С одеждой - по-тряпичному. И только с людьми не научила балакать; люди все, каждый, говорили на своем языке, а думали, что все говорят на одном.
Люстра, она была моим тайным безумием. Я был вроде нормальный парень, и с виду сильный, крепкий, кулаком мог задиру с ног сшибить, и надолго. Но вот поди ж ты, втрескался в Люстру, уж лучше бы в бабу. Ах, дым. Как вьется! Вот не в первый бой уже иду. К войне привык. А перед боем, завтра он будет опять, и в мозгах у меня вздрагивает и катится живое золотое колесо. И тихо звенит.
Тишина, проклятье, какая тишина. Так всегда перед боем. Солдаты спят. Они изголодались, измучились. Кое-кто уже умер с голоду. Роза спит. Я слышу ее тепло. Над бетонной крышей военного барака, над уродливым убежищем от неминуемой смерти спит небо. Оно живое, и круглое, как та моя Люстра, оно катится, переливается, горит и вздрагивает, и медленно крутится, показывая безлюдью все горящие, звенящие бока, - то застынет золотым льдом, то оживет и засверкает, задрожит, как испуганное, всеми звездами. Всеми серебряными ведрами. Всеми медными коромыслами, сетчатыми шуршащими крыльями, бронзовыми жесткими надкрыльями. Нет счастья? Вот же оно!
А где я? На вокзале? Почему же не плачут поезда? Почему нет мне прощенья? И нам всем почему прощенья нет, за то, что мы сделали? Кто нас проклянет за эту войну? А за все прошлые кто проклял? Прокляли и забыли. И друг друга убили, и некому вспоминать.
***
Однажды моя девчонка рассказала мне рассказ. Он был вроде сказка, а вроде бы и стихи. Она так говорила, что я ничего особенно не понял, но было красиво. И страшно. В ее рассказе речь шла о страшных и простых вещах.
Она сидела, скрючив ножки, на холодной и сухой земле, и ее заливало с зенита холодное солнце.
За словом в карман она никогда не лезла. Так прямо сразу и схватила быка за рога.
- Знаешь, Макар, далеко, высоко в горах живет один зверь. Ну, он вроде как человек. С виду человек. На самом деле зверь.
- Волк? - глупо спросил я.
Надо же было о чем-то спрашивать.
- Нет. Не волк. А может, волк. Кто его знает. Он живет один. В такой маленькой пещерке. У него там запасы еды. На всю жизнь. Он ест вообще мало. Худой, но очень сильный. Поджарый, и правда как волк. У него злое лицо, хотя он улыбается. Он любит стоять на ветру и слушать, как ветер шумит в ушах.
- И что? - опять глупо спросил я.
Роза вздохнула. Я видел, ей не хотелось говорить, но она говорила.
- Он ненавидит всех людей. И весь мир. Это он устроил нам нашу войну. Мы боремся с врагом, враг борется с нами, все это неправда. Мы все одно, и мы боремся сами с собой. А зверь сверху, с гор, глядит на нашу войну, как льется кровь и все умирают, и усмехается.
- Откуда ты это все знаешь? - опять нелепо спросил я, и мне стало стыдно.
Девчонка дернула плечами.
- Ниоткуда. От верблюда, - она вскочила с земли, раскинула руки и побежала к океану. Он, широкий и страшный, медленно и угрюмо накатывал черно-синие волны на желтые кости прибрежных камней.
***
Командир вперся к нам в выстывший за ночь зал, влетел, как мина, и завопил, взорвался: противник двигает к нам корабли, заходит с океана, я получил радиограмму, завтра встречаем шквальным огнем вражеский флот! Не дадим ни единому солдату вражеской армии высадиться на побережье! Я как услышал это, так у меня все внутри захолонуло. Корабли, это серьезно. Они обстреляют нас густым огнем. А потом, у них явно на борту старые самолеты, наверняка сохранилась палубная авиация, может, они как раз для обстрелов портовых городов и селений все эти сокровища и приберегали. Плохо наше дело, думаю, а как же моя девчурка? Сильно привязался я к ней, присох. Роза, говорю, слышишь, Роза, завтра снова бой! Не боишься? Она мне: а чего бояться? Железки загрохочут, огонь полетит, а мы будем тоже стрелять и прятаться! И глазенки озорно блестят. Она уже была такой настоящий ребенок войны. Раньше мирные дети ужасно боялись войны и смерти. Эти - ничего не боятся. А если боятся, так об этом не скажут.
Вечером, как стемнело, я разжег костер на берегу океана. В моем вещмешке оставались еще одни консервы. Я свято сохранил их еще с тех времен, когда толкался в моем городе в Лемурии. Вот странно, здесь у нас в роте была половина солдат из Лемурии, а воевали мы почему-то за Гондвану. Или, черт, против Гондваны? Почему? То-то и оно. Не было ответа. А мы не задавали вопросов. Я один все перепутал. А может, так кому-то вышнему надо было, чтобы меж людей все перепутать. Пусть, мол, их, волки, грызутся. Костер разгорелся, Роза сидела поодаль и ждала, пока пламя оживет, я подозвал ее пальцем, она подбежала и села у огня, крепко обхватив руками колени. Она всегда сидела так у огня. Я любовался ею.
Я вертел банку, катал в ладонях. Роза без слов показала на банку: открой! Отсветы огня плясали на ее смуглом личике. Я достал мой прекрасный стреляющий нож и быстро открыл банку. Я не знал, с чем она. Мясной запах, с перцем и лавровым листом, ударил в голодные ноздри. С тушенкой. Мы с Розой ели тушенку с ножа. Я протягивал ей банку и нож, она подцепляла ножом мясо и с наслаждением жевала. Потом я это же проделывал. Хлеба у нас не было: пайковые галеты мы благополучно съели утром. Потом весь день постились. Еды в армии становилось все меньше. Командиры визгливо предупреждали: солдаты! готовьтесь! Если наши корабли со жратвой не придут - с голоду помрете, а не от бомб противника! А кто-то возьми и выкрикни: не помрем! Друг друга жрать будем! Командир осекся, а все кругом захохотали. А Роза моя не смеялась. Сидела, голову опустив, в дальнем углу пыльного, в стеклянных осколках, зала барака, ставшего казармой.
Роза втягивала ноздрями запах тушенки. Мясо, выдохнула, как вкусно. А меня вдруг покоробило. Я представил, какие из человечины можно смастерить консервы. От говядины не отличишь. Или там от свинины. Мы быстро съели тушенку. Я даже, как зверь, вылизал пустую банку. Я бы еще три таких банки съел, пять, десять. Девчонка глядела на меня сначала смешливо, а потом испуганно, как на зверя. Я бросил банку в скалы. Она ударилась о камни и зазвенела. Роза засмеялась вместе со звоном жести о скалу. Но смех этот был печальный.
Она протянула руку, взяла у меня из руки нож и облизала нож. Вернула мне.
- Все, - сказала тихо, - конец. Хочешь, тебе про себя расскажу?
Я не мог говорить, кивнул. У меня сдавило горло.
- Я родилась здесь, на побережье. У меня были родители. Я слышала ночью, как они любят друг друга. Иногда они ссорились. У мамы не было платьев, только камуфляж. Отец однажды сам сшил, на руках, матери камуфляжную юбку, из армейских штанов. Мама смеялась и била его по рукам. Говорила: брюки удобнее, а под юбку мужики лезут, тебе же неприятно. Я знаю, что мой отец родом из Лемурии. Вот как ты. Он пел мне колыбельные песни на каком-то другом языке. На котором на побережье не говорят. А вот ты говоришь на нем. И твои друзья тоже. Я никогда не видела карту, на которой есть суша и море. Отец только упоминал про такую карту. Кажется, она у него была. Он сжег ее на костре. Жег и плакал. Так он мне сказал. Сказал: я сжег на костре свою родину. Ее больше нет. Он шептал мне: Роза, я скучаю по своей матери, она у меня такая хорошая, бабка твоя, жаль, ты ее никогда не увидишь. И вынимал из кармана гимнастерки мятую бумажку, там просвечивало лицо какой-то старой женщины. Отец совал этот бумажный квадрат мне под нос, чтобы я посмотрела. Но различить там, знаешь, ничего уже нельзя было. Женщина вся вытерлась. Бабка моя.
Она прерывисто вздохнула. Я взял длинную ветку и поворошил хворост в костре.
Мне будто кто рот заткнул мокрой тряпкой.
- А отец говорил: если бы ты знал, как она читает стихи! И поет песни! Она, говорит, поэт. Поэт это тот, кто поет? Да?
Я опять кивнул.
Она взяла у меня из рук ветку, сама ворошила головешки.
- Отец говорил: как плохо, я не знаю, жива ли она, и где она сейчас. А потом прилетел снаряд и убил мою мать. А потом пришли солдаты, много солдат, и поставили старинную пушку на берегу океана. И стали стрелять по кораблям, корабли подплывали. И с кораблей в солдат стреляли. А всех солдат, кто из пушки стрелял, перебили, и все лежали под пушкой, много мертвецов. И я как с ума сошла, взбежала на пушку и давай на ней прыгать! Меня с кораблей было хорошо видно! Стреляй не хочу! Но вдруг перестали стрелять. И я танцую на пушке в полной тишине. А все эти враги на меня смотрят, я их глаза чувствую! А мне весело! Но это, знаешь, такое веселье, плохое. Странное! Никакое. Тебе весело, а вроде как и не весело, а наоборот, плохо и страшно. А потом...
Я ждал. Костер догорал. Пламя становилось красным, и лицо Розы тоже становилось красным.
- Потом начали стрелять. Все враз! И я свалилась с пушки, упала прямо на мертвецов. А дальше не помню. Помню дом, и я лежу, и в голове гудит. Потом, когда бой закончился, среди мертвых я искала отца. Не нашла. Пропал и пропал. Может, живой где. И не знает, что я тоже живая.
Я положил руку ей на плечо.
- Я буду твоим отцом, - сказал я, еле выдавил.
Так плакать хотел.
Но держался.
Она тихо засмеялась, почти без звука. Смеялась, будто шептала.
- Да ты и так уже мне отцом стал, - сказала, - или, может, старшим братом. У меня никогда не было брата. А это, оказывается, так здорово.
Я крепко прижал ее к себе.
- Не боишься?
- Чего?
- Завтрашнего боя?
Я опять ее об этом страхе спрашивал, не нужно было. Но это я сам боялся. За нее.
- А что бояться? Бой как бой. Опять будут с океана стрелять. Это все уже было.
Я понимал, она хотела сказать: это все уже у меня в жизни было, и я уже к этому привыкла.
Я прижимал ее к себе все крепче. Все дороже становилась мне эта приблудная девчонка. И она притиснула головенку к моему плечу. И вот тут я заплакал, позорно, стыдно, слезы сами лились, без удержу, не было никакой возможности затолкать их обратно в глаза.
Она подняла ко мне лицо, и на ее лицо закапали мои слезы.
Она не удивилась, не рассмеялась.
По ее лицу мои слезы текли.
Это было так классно. И так ужасно.
- Ты плачешь мной, - сказала она, - а я плачу тобой. Мы плачем друг другом.
Мы обнялись крепко, как перед разлукой.
И то правда, завтра утром нас там, за скалами, на кромке мелкой гальки, могла запросто ждать разлука навек.
Такая разлука называлась просто - смерть, тут долго думать не надо, убьют, и все.
Поминай как звали.
***
Мы еще долго сидели у костра, под холодными звездами. Не помню, о чем говорили. Кажется, я говорил ей взрослые вещи. О том, что сейчас настало время подлогов и вранья, и может, нам все врут, что идет война Лемурии с Гондваной: может, по правде мы сами лупим друг по другу, и наша армия убивает сама себя. Нас всех запутали, а вранье на вранье сидит и враньем погоняет.
Я говорил о том, что время - спичечный коробок, ты пережжешь все спички, и коробок пустой, а с виду он вроде полный, если его не открывать, так вот, шептал я ей, время не надо открывать, иначе пустота ударит тебе в лицо, и ты поймешь, что погиб: огня, чтобы согреться, уж не зажжешь. Я, кажется, болтал о том, что наш правитель - тайный волк, и другой, вражеский владыка - тоже тайный волк, засекреченный, человеком прикидывается, что они оба прячутся далеко в горах, один в одном дворце, другой в другом, людям до них не досягнуть, руки мы все обломаем, пока до них дотянемся, а они затаились и ждут, чтобы прыгнуть. А когда они прыгнут, тихо спрашивала Роза, скоро? Нет, мотал я головой, они дождутся, пока мы все друг друга перебьем. И некем будет управлять. А солдаты тоже волки, спрашивала Роза. Да, кивал я, еще какие волки. Только на самом деле они люди. Любой солдат прежде всего человек, затем уж волк. Давай спать.
Мы пробрались в казарму, перешагивали через спящих солдат, добрели до своего угла, где девчонка все время спала у меня под мышкой, согревалась. Я расстелил кошму. Ложись, шепнул. Завернул ее в кошму, чтобы ей было теплее, она стала похожа на шерстяную колбасу, я лег рядом и притиснул ее к себе крепко, крепко. Она уснула сразу, приоткрыла рот, слегка похрапывала. Во сне улыбалась. Может, ей снились живые отец и мать. Я согревал ее через кошму своим смертным, никчемным телом. Лежал рядом с ней на каменном пыльном полу, усыпанном осколками звезд. Это Люстра разбилась. Лежал, и во сне стерег девчонку, крепко обнимал. Лежал и плакал.
***
Знаете, что мне время от времени стало приходить в голову? Мысль такая: да все неправда, подлог. Все происходящее - обман. Подделка.
И владык нашей Земли, маленькой, круглой небесной юлы, сейчас не два, а один. Да, один! Это всеобщий обман, что борются двое. Две фальшивые армии. Два фальшивых генерала. Да и сама эта война - фальшивка. Театр; только пули и мины настоящие, и декорации настоящие - камни, скалы, горы, море, соль, ветер. Театр! Жестокий, кровавый. А режиссер один. За кулисами. И беззвучно хохочет. Согнулся от смеха. Прячет лицо в ладони. Спина трясется, вроде бы плачет. А на деле смеется. Над собой? Над спектаклем?
Над всеми нами?
Наша война - подделка. Не думай так, твердил я себе и зубами скрипел, жестоко крошил цинготные зубы в осколки, ты дурак, вернее, ты слишком умный, и, если будешь так думать, быстро сойдешь с ума. А любовь разве подделка, спрашивал я себя и ужасался, разве я не люблю эту, вот эту девчонку, Розу, ни отца ни матери, военную сироту, с непонятным, ночами, складным певучим лепетом, это стихи, шепчет она, а что такое стихи, спрашиваю я тоже шепотом, а она говорит: это Бог, а я - не верю? Разве нельзя верить в любовь? Разве нельзя верить в то, что кончится война? И одумаются люди, и построят себе новый дом, полный смеха детей и любви? Как же я глупо мечтал! Как горько я мечтаю. Я сам - подделка. Мысли мои - притворство. Улыбка моя - ложь. Я запросто могу ее снова, кровью, нарисовать на пыльном, холодном лице. Битва моя - видение. Зеркало и сон. Я вспоминаю громадную люстру над головой на старом вокзале. Подделка звездного неба. Фальшивка времени. Маска Вселенной. Война моя - обман, командиры - оловянные солдатики. А мы, кто мы все такие? Зачем нас так много, кормить чужой обман? Чужую подлую игру?
Это обман, что мы друг с другом боремся! Нам только кажется, что друг с другом! Лупим друг друга, снарядами молотим, артиллерией, штыками колем, огнем косим и косим, да, друг друга, живые люди, чтобы обманная жизнь стала подлинной смертью. А бой - обман! Страшный сон! Полуденный кошмар! Вся эта война - чудовищное, величиною с целый мир, развлечение одного-единственного человека; он спрятался там, высоко в горах, от чужих глаз, он сам себе господин, он ест и пьет в свое удовольствие, сделал запасы на всю оставшуюся жизнь, и через дальнюю связь, через драконьи дальнобойные окуляры следит, как мы тут, средь пыльных, в трещинах, белых камней, под океаном страшного, густого синего неба, понарошку убиваем друг друга.
На самом деле - нет, не друг друга.
Мы все, каждый, убиваем - себя.
И это самый главный обман нашей маленькой жизни.
***
А там, высоко в горах, быть может, растет раскидистое золотое дерево, с золотыми ветвями, а на них золотые листья и золотые плоды. Поют и звенят на ветру. Елочная игрушка? Забытый детский сон? Рай, может, это тоже зловредный обман? Для того, чтобы все мы, не сговариваясь, в него, золотой, навек поверили?
Уверовали в подлую, краденую фальшивку.
В позолоту, а кожа-то свиная, нет, обезьянья.
А человек, что спрятался там, высоко в горах, может, и не человек вовсе. Может, он и есть Бог. Которого никогда никто не видел. Бог, Ты тоже обман? Или Ты правда? Я-то вот теперь не знаю, правда я или подлог; что там такое у меня с изнанки. Может, я с изнанки выстлан кровавым шелком брюшины, белым бархатом сухожилий, унизан перламутром костей. А может, я там, внутри, просто комок грязи и дряни. И никакой Бог меня на деле не создал из праха. А сам я из грязи восстал. И сам себя слепил. И сам вперед иду, в тяжелых, чугунных сапогах, ать-два, ать-два, левой, левой. По белому песку. По острым камням. По берегу хищного темного океана. Он темен, как кровь.
Как моя кровь.
Бог, у кого Ты украл Рай? Райское, зазнайское древо? Яблоки слишком золотые. Они так подло, фальшиво блестят. Золотые щеки, золотые лбы, золотые зубы и скулы. Золотые затылки. Наши золотые головы срывают и едят. Разгрызают ледяными зубами. Мы зря веруем, что мы ложимся в утлые гроба до немыслимого общего суда. На самом деле нас, жалкие плоды зимнего Рая, хищно радуясь, ест смерть. Она - оборотень. Она лишь прикидывается Богом. Это ужасней всего. Вместо зубов у нее пули. Вместо волос - дымы пожарищ. Кричи не кричи, что нет у нее над нами никакой власти! Никому не докажешь.
Бог, где Райская яблоня Твоя? Хочу с Тобой вместе яблоки пособирать. А потом рядом с Тобою сесть и всласть погрызть те юродивые яблоки в тени золотых ветвей.
Может, Бог, Ты тот трусливый и хитрый владыка, что прячется от людей своих там, далеко в горах?
Может, зашвырнешь далеко свой бинокль с безумной, сбитой оптикой - и спустишься с горы, из-под звезд, к нам, к людям?
Мы Тебя заждались.
Устали мы драться. Честно.
***
А может быть, это никакие не владыки дерутся? Никакие не враги?
Может быть, и правда чертову войну нашу развязал один человек? Сам с собой?
Нас всех друг на друга натравил, дрянь, и потешается.
Празднует одинокий праздник смерти.
И никто никогда эту сволочь, владыку этого тайного, в глаза не видел.
Прячется в горах. Сидит в пещере. А может, в батискафе на дне океана.
Сидит, сгорбленный сучонок, и смеется. Хохочет.
Над нами.
Да.
Над всеми нами.
Над всеми, кто тут, внизу, под холодными глазами и крылами громадных, в железной сини летящих хищных птиц, в крови и грязи, страшно, напрасно убивает друг друга.
***
И тут, знаете, тут со мной случилась одна вещь.
Одна. Вещь.
Важная.
Не было такого со мной и больше не будет.
Как бы про эту вещь рассказать поточнее? После последнего боя у меня немного мутится в голове, это правда. Но так-то я все помню. Ну, почти все. И все же чего-то не помню. Значит, так устроена наша память. Она бережет лишь то, что потом прорастет. Как зерно. А мертвое она хоронит. Зачем плодить мертвечину.
Сначала я увидел его. Ну, его. Владыку. Ха! Да нет, не человек никакой он оказался. Просто - зверь. Так я и предполагал. Да никакой не владыка мира, это я так с вами шучу. Что, уж пошутить нельзя? Я постирал золой в соленом прибое исподнее и сушил его под холодным солнцем, на ярких белых холодных камнях. Сидел на камне голяком. Смотрел на черные волны. Поднимался ветер с океана. За мной послышался шорох, и я весь будто оледенел, я не хотел поворачиваться, вдруг стал двигаться очень медленно. Я чуял: мне в спину глядели глаза. И я, знаете, я нюхом ощутил, понял: за моей спиной зверь. Какой? Я не знал. Камни осыпались и падали вниз с обрыва с тихим мертвым шорохом под его ногами. Лапами? Когтями? Копытами? Брось, говорил я себе сухими, наждачными на соленом ветру губами, это просто лама, мохнатая глупая лама сюда забрела, и боится обрыва, и сейчас поскачет прочь, может, тут, в горах, приткнулась, осталась еще жить под солнцем чья-то нищая хижина. Ну же! Оборачивайся! Только медленно!
Так бесслышно, внутри себя, орал я себе.
И да, да, медленно, очень осторожно я обернулся на каменный шорох.
Передо мной стояло чудовище. Не дай Бог вам такого зверя увидеть. Я тогда подумал: все, смерть моя пришла. Волк, да, огромный дикий пес, широкий череп, глаза - два красных угля. Шерсть длинная, лохмы с брюха до земли висят, грива могучая, топорщится, а уши маленькие, как пельмешки, может, прижал их, страшась, ведь он меня наверняка тоже боялся. Нет! Не боялся. Смотрел злобно и надменно. Я тихо привстал, выпрямился. Теперь мы оба глядели друг другу в глаза. Кто кого переглядит. Я понимал краем сердца: если отведу глаза - мне хана. Только глаза мои останавливали его. Что-то ведь такое есть в человеческих ли, в звериных глазах, что без жалости убивает - или так уж пылко любит, что мертвец оживет. Глаза в глаза! Так стояли. Ветер шевелил его длинную шерсть. Трепал мои волосы. Плетями сек мне голые телеса. Пилотку я тоже выстирал. А каска, проклятье, валялась в бараке.
Стоим, глядим. Сражаемся глазами! И вдруг он подался ко мне, вытянул узкую, длинную морду вперед и показал зубы. Вывалился язык. С языка капала слюна. Он был весь очень красив и страшен, и на морду тоже. Шерсть на щеках торчала, и от этого широкая его морда походила на расписную древнюю маску. Я такие когда-то видал в музее.
А я, сам не знаю почему, испугался, может, или, наоборот, захотел его пугнуть, поднял и вытянул вперед руки. И тоже вытянул шею и оскалился по-зверьи.
Стоим друг против друга, два зверя. Человек это зверь. В иные минуты он Бог. Иногда человек. В любви точно человек! И часто, не счесть как часто - зверь. Только он сам не знает, что зверь. Думает: я человек. А зверь, вот чудеса, ничего ведь не думает. Просто - живет. Или думает? О чем он думает?
Я глядел в глаза зверю и тихо, страшно думал: где ты, любовь?
Когда я, давным-давно, зеленым юнцом, работал вышибалой в одном ресторане, и стояли мы курили, с одним там охранником, у него пистолет на боку в кобуре спал вечным сном, а смолил он всегда одни и те же сигареты, "Мальборо" назывались, и я что-то такое ему сказал, не помню про что, но начал так: я так думаю... - а он - хлоп! - ударил меня по руке рукой с горящей сигаретой, пепел осыпался и мне руку обжег, и насмешливо так бросает мне: ты так думаешь или ты так живешь? И я заткнулся. И стоял, как дурак, и пытался это обдумать. Покраснел как помидор. И не знал, что ответить.
Под холодным солнцем длинная каряя шерсть просвечивала красными, золотыми нитями. Я не отводил глаза. Он тоже.
И тут, вот точно не пойму, почему, я разлепил высохшие на морском ветру губы и сказал волку слова. Наши, людские слова. Я же не мог прорычать. И броситься на него тоже не мог. Я ничего не мог. Оружие мое лежало на камнях, рядом с мокрым моим бельем. Я мог только раскрыть губы и сказать ему слова. Два, три слова. Они звучали как стихи Розы. Знаете, я эти стихи забыл. Вот тут я все забыл. Ну, так ведь как страшно мне было. Страшно, но я стоял и глядел на него. И говорил ему слова. Единственные. Таких больше в жизни никому не скажешь. Ни человеку, ни зверю.
Забыл, какие. Простите.
У меня разум тогда как дымом заволокло.
И, знаете, он понял. Или это я его понял? Мы оба поняли друг друга. Я понял: он сейчас уйдет. И он сначала поджал под себя переднюю лапу, так постоял, как охотничья собака в стойке, а потом сделал шаг в сторону, еще шаг, повернулся и тихо, неслышно заскользил меж камней. Пошел прочь.
Я смотрел ему вслед. Около огромного валуна, на краю зренья, мне почудилось: из-за костяных белых камней вышла девочка. Она погрузила руки в мохнатую шерсть на холке волка. Он остановился, как послушная собака. Так они стояли. Девочка и волк. Кажется, она была одета в тамошние полосатые вязаные чулки. И в мягкие неуклюжие мокасины. Может, это была Роза. А может, она мне только казалась. Я не знаю. Честно, не знаю.
***
Мальчонка Роберт по-прежнему приходил к Хельге и уходил, но уходил все реже, а оставался все надольше. Хельга ни о чем не расспрашивала его. Ей было довольно того, что он есть.
Однажды, когда он вот так, без предупреждения, снова исчез, она сказала себе: не жди, никогда никого и ничего не жди. Сегодня есть, завтра нет. Она вскипятила воду, медленно прихлебывала ее, до боли на губах горячую, из большой железной кружки, и воображала: это крепкий чай, такой крепкий, аж скулы сводит. Перевернула пустую кружку, поставила на стол дном вверх и погрела о нее руки. Потом встала из-за стола и подошла к стене. Ей почудилось: от стены отошел плинтус. Она подумала: надо забить его старой ватой, а может, старой тряпкой или старым бинтом. С трудом присела, запустила под плинтус руку. Шарила. Рука вздрогнула. Хельга вытащила из-под плинтуса сложенный вчетверо лист бумаги. Бумага изветшала. Хельга, как на ветру, дрожала. Она развернула листок и поднесла его к подслеповатым глазам. Щурилась. Ничего не видела. Вцепилась пальцами в спинку кровати, поднялась, кряхтя, подбрела к окну; на подоконнике валялись очки. В очках, похожая на больную сову, Хельга начала по складам читать то забытое, что за плинтусом случайно нашла.
...я не знаю что стало со мною я живу не отмыкая сердца не размыкая век я людям сказалась навек больною я людям сказала - ушла навек Пусть меня не ищут в два пальца не свищут пусть по лесам не рыщут тропою в факельном мощном огне Пусть не каркает ворон на пепелище под тусклым зеркалом неба - о позабытой мне Я живу одна и я знаю смерть моя рядом у меня тоже есть зеркало о не надо в него смотреть Там живет черный волк Зубами полными яда он отгрызет от моей жизни драгоценную последнюю треть Я боюсь боюсь к зеркалу приближаться Загляну а там волк он глядит глядит в немую меня он такой молчаливый бессловесный как святцы как кочерга без печи как свеча без огня Я метнусь прочь от зеркала в пустой угол бедного дома затрясусь за плечи руками себя в ужасе обниму Я с черным волком накоротке знакома я эту честь не отдам ни Богу ни черту никому Не каждый перед смертью черного волка видит каждую шерстину на морде каждый волос на дрожащем хвосте И он не дьявол он от тебя не отыдет он хочет тебя в смерть унести на жадном тощем хребте
Ты черный волк ты смерти моей
тоскливо воющий вестник в перекрестье зимних ветвей
я к зеркалу подхожу мрак серебром густо накрыт
ты выскакиваешь из зеркала холка копьями торчит
ты сильными лапами сбиваешь меня с ног
и я лежу на холодном полу
как же ты волк одинок
это последний мой вдох последний крик
черный волк к тебе закинут мой старый орущий лик
выгнута шея коромыслом времен
вонзай зубы пей кровь
черный волк в меня ты влюблен
а может ты сер
а может ты бел
ты мои снега
ты замести меня не посмел
ты мой в черных тучах Бог
я твой красный снег
ты мой черный волк
я твой красный человек
я лежу перед тобой просто боль просто еда
просто воля из воль просто никогда из никогда
самое страшное люди это же передсмерть
надо биться и выть
надо вылить успеть
жгучую жизнь:
воем - боем - всей кровью - вон разводы ее на дощатом полу
...мой черный волк дрожит
тонко тихо плачет в черном углу
а зеркало - в осколки
я локтем разбила стекло
смерть ничего не отражает она длинно молчит тяжело
она молчит целый век ни войн ни слов ни людей
приди и возьми и живи и умри и владей
Она поняла, что нашла чей-то предсмертный стих. Кто его написал? Она сама? И спрятала тут, в квартире, за плинтусом? Не смогла этот свой последний отчаянный крик сжечь в буржуйке? Одно Великое Сражение отгорело, другое отгремело, а жалкий, бедный стих остался. Кому нужный? Ей? Ей точно не нужны эти непонятные, безумные слова. А может, это какой сумасшедший настрочил и ей подбросил. Бумага ветхая. Разлезается на сгибах. Раньше слова и голоса люди посылали в призрачную Сеть, чтобы они в Сети хоть немного, для забавы и любопытства, пожили. Сеть умерла. Люди умерли. Кто-то жив еще. Зачем женщины еще рожают? Кому мы под сиротьим небом надобны? Небесному зеркалу?
Моя любовь! Моя великая любовь! Где ты!
Хельга аккуратно сложила бумагу. Вдвое, вчетверо, ввосьмеро. Двумя пальцами осторожно держа белую бумажную бабочку, подошла к остывающей буржуйке. Открыла железную дверцу. Бросила последние свои стихи на ярко горящие головни. Угли вспыхивали, переливались синим и алым. Бумага затлела и запылала. Хельга внимательно следила, как ярко горит ее жизнь.
***
Все случилось до обидного просто. И тогда, когда Хельга не ждала.
Мальчишка заболел. Ни зимняя дареная шапка не спасла, ни найденный на свалке шарф. У него поднялся жар, он лежал на диване, разбросав руки-ноги, Хельга пыталась укутать его одеялом, он сбрасывал одеяло, потом его начинала бить и ломать лихорадка, и он заворачивался в одеяло, как в кокон, и так лежал, куколкой будущей неведомой бабочки, и стучал зубами. Хельга кипятила на буржуйке чайник и отпаивала мальчика кипятком. В шкафу нашелся пакет со старым шиповником. Она заварила шиповник, все было как в больнице прежних времен: горячее питье, мокрая тряпка на лоб, и этот запах, призрачный запах розы и леса. Тебе нужен куриный бульон, твердо и горько сказала Хельга, и я добуду тебе куриный бульон, вот увидишь. Сейчас уже кур давно нет, никаких, и нигде, сказал мальчик, брось, тетечка! Губы его потрескались от жара. Хельга помотала головой. Сказала, найду курицу, значит, найду.
Она влезла в пальто. Подняла воротник. На улице стояла уже настоящая зима, а серый снег все равно походил на пыль. Хельга бросила взгляд в окно. Уже темно. Еще не поздно, а глаз выколи. Она замотала шею шарфом мальчишки, напялила его теплую ушанку. Меховые уши смешно свешивались по обе стороны ее морщинистого лица.
Прошлепала на кухню и вытащила из духовки оловянную кастрюльку. В этой кастрюльке ей еще ее мать варила ей, девчонке, овсяную кашу.
Она не помнила, как вышла из квартиры. Как спустилась по лестнице. Ноги сами делали свое дело, а голова преступно наливалась снежной белой пустотой.
Хельга шла бездумно. Пустота подо лбом сама знала, что делать. Куда идти.
В умирающем городе еще хранились под спудом разрушенных камней такие тайные места, где люди, живущие чуть лучше, чем остальные, еще могли веселиться. Раньше это называлось - прожигать жизнь. Сегодня это не звалось никак. Богатства не было, денег тоже; те, кто мог и хотел веселиться, приходили в эти злачные места просто так, отвести душу. Каждый приносил с собой что мог. Любая еда приветствовалась. Кое-кто шиковал. Изображал из себя владыку пирушки. Вываливал из карманов, из сумок припасы. Являлись люди, что хранили в погребах и шкафах совсем уж экзотические яства. Из уст в уста передавали слух о том, что в таком веселом доме однажды давали пир в честь дня рожденья невидимого владыки Лемурии. И на тот пир принесли и поставили на столы настоящий свиной окорок и еще странные фрукты, корка тонкая, а разрежешь, внутри сладко, как в улье, мякоть чистый мед, а кто знает, что такое мед? Забыли?
Кто-то, конечно, знал, что такое мед. Мед хранился у иных людей очень долго. Становился твердым и светлым, как драгоценный минерал. Не разгрызть.
Еще до Первого Великого Сражения люди отнимали его у мелких вредных пчел на пасеках. Вынимали из ульев, деревянных пчелиных сундуков.
Теперь пасечница Смерть торжественно ходила по своим владеньям и отнимала жизнь у мелких злобных, кусачих людишек, бестолково жужжащих в каменных ульях.
Хельга шла по темной улице. Бояться было уже поздно. Она заглядывала в окна, и в темные и в горящие. Кое-где встречались надписи: "ПРОД...", "...ДЕНИЕ", "...УНА", "КАСС...". У надписей не было то начала, то конца. Иногда попадались целенькие. Хельга по слогам, как ребенок в школе, прочитала: "НОТАРИУС". Наморщила лоб, пыталась вспомнить, кто такой или что такое нотариус.
Злачные места никакими надписями не обозначали. Имелись другие знаки. Приметы тайного веселья. Хельга их не знала. Она полагалась на свое чутье.
И оно ее не подвело. Она остановилась возле руин. Когда-то здесь стоял многоэтажный дом. Он рухнул после страшной бомбежки. Над землей торчал железный скелет. В снежном свете мерцала арматура. Сохранилась часть первого этажа. Глаза Хельги бегали, ощупывали. В череде камней она различила дверь. Медная дверная ручка торчала над снежной пылью: голова льва. Светилась красным. Хельга подошла и взялась за ручку. Ручка на диво легко повернулась. В проеме открылась слабо освещенная живым огнем лестница. Она вела вниз. По обе стороны лестницы горели свечи в приколоченных к стенам консервных банках. Свечи оплывали, манили. Чуть потрескивали. Хельга стала тихо спускаться. Нащупывала ногами ступени. Одной рукой держалась за стену в кирпичной пыли, другой крепко сжимала оловянное ушко кастрюли.
Возникла еще одна дверь. Хельга толкнула ее и оказалась в темном, полном рвущихся зловещих огней зале.
Люди сидели за столами. За настоящими столами. Перед ними на столах стояли настоящие чашки, рюмки и бокалы, и настоящие бутылки, и на настоящих тарелках лежала пища. Здесь сидели мужчины и женщины, детей Хельга не видела. Звучала людская речь, громкая, как гром, и тихая, как ворчанье собаки, и за дальним столом звучала музыка: человек сидел, ссутулившись, и играл на деревянном гусе с длинной шеей. Медные струны были натянуты вдоль шеи гуся, и человек осторожно щипал их и, как кот, мурлыкал песню, слов не разобрать. Из угла зала к столам двигались еще люди; это были женщины; на них были надеты белые фартуки с оборками. Хельга вспомнила: у нее был точно такой фартук, когда она пошла в школу. Фартук надевался поверх коричневой школьной формы и завязывался бантом на спине. Это было сто лет назад, с ужасом думала Хельга, а разве мне сто лет?
Женщины в белых крахмальных фартуках подходили к столам и расставляли на них новые тарелки, а грязные уносили. В углу зала стоял большой чан. Грязные тарелки со звоном бросали туда. Хельга раздула ноздри. Запахи еды становились невыносимыми. У Хельги потекли слюни из углов рта, как у бешеного пса. Она утерла рот рукой и тихо подошла к крайнему столу. За столом сидели люди. Четверо. Они сначала не видели Хельгу, потом увидели.
- Чего надо? - угрюмо спросил бритый, с колючками отрастающих волос на голом темени. - Снаружи? Еда с собой есть?
- Нет.
Хельга стояла, беспомощно держа за железное ухо кастрюльку.
- Тогда проваливай, откуда явилась.
- Ну ты что, ты груб, - изронил другой. - Смирная ведь овца. Гляди, как жалобно смотрит.
У другого на лбу темнело странное темно-красное тату. Хельга пригляделась. Клеймо.
Она не знала, что такое клеймо, не видела никогда, но догадалась.
Круг, и в нем вроде как куриная лапа.
Она озиралась: у многих гостей подземного ресторана виднелись на лбах, на щеках такие клейма.
Общество, это единство, это свора и стая. Делай ноги отсюда! Может, это людоеды. Они тебя сейчас зарежут, зажарят и съедят. Уж больно вкусные ароматы! Пахнет мясом. Откуда они берут свежее мясо? Кто у них вожак?
- Не бойся, - сказал третий, что был за столом, юный мальчик, румянец во всю щеку, пушок над губой, - тебя тут никто не обидит. Ну зашла и зашла! Главное, не кричать. А потом, когда выйдешь, забыть все.
- И никогда больше сюда не приходить, - добавил четвертый, самый старый. Белые пряди свисали с его лба вдоль щек и щекотали ему впалый страшный, беззубый рот. - Никогда. А если вознамеришься прийти - вот тут будет хуже.
- А что надо сделать, чтобы не было хуже?
- Войти в стаю.
И Хельга вздрогнула всем телом.
И всему телу стало холодно, люто, будто ее враз раздели и вытолкнули на адский мороз, и жить на морозе ей осталось всего ничего.
- Что надо сделать, чтобы войти в стаю?
- Убить. Да ты садись. Вот стул свободный.
Бритый с грохотом пододвинул ей стул. Она села. Кастрюлю на коленях держала. Старалась, чтобы руки не дрожали.
- Да ты ушанку сними, - улыбнулся юнец, - мы не украдем.
Она стащила с головы ушанку Роберта и тихо положила ее на край стола.
- Убить? - подала она голос.
- Да. Что в этом странного? Сейчас все убивают.
- Что вы делаете с убитыми?
- Догадайся, - хохотнул самый старый.
Она наклонила голову.
- Догадалась.
- Догадливая, - сказал юнец и взял за горло бутылку со стола. - Налить? И закусить? Я закажу жаркое.
- Нет! - крикнула Хельга.
Крик отдался под каменными сводами диким эхом.
Люди оборачивались, равнодушно смотрели на Хельгу и продолжали свое дело: ели и пили.
- Кричишь ты или стонешь, плачешь или хохочешь - всем тут все равно. Поняла? - сказал другой, и клеймо у него на лбу дрогнуло и собралось в складки.
- Поняла.
- А у вас... не то мясо... не то... а просто - курица... есть?
Бритый вытаращился на Хельгу. У него и так глаза были навыкате, а тут просто вылезли из орбит. Он захохотал - до него дошло.
- Курица! А-ха-ха-ха! Курица!
- Курица - есть, - твердо, железно сказал второй, потер ладонью лоб. - Мирабелла выращивает у старухи в деревне. Иногда сюда привозит. Хочется же разнообразия. Тряхнуть стариной. Я сейчас ее спрошу. Белла!
Щелкнул пальцами в воздухе. Подбежала девушка в белом фартуке. Хельга глядела потрясенно: у нее на ногах сверкали забытым лаком туфли на каблуках.
- Белла, слышишь, у нас на кухне курочка случаем не завалялась?
- Свежей - нет. Только две вареных остались, маленькие, цыплята, - виновато, тонким как паутина голоском произнесла девушка и покачалась на каблуках, как пьяная.
- Отлично. Наша дама желает курочку!
Заклейменный куриной лапой выбросил руку в направлении Хельги. Она сжалась, втянула голову в плечи.
- Это - не я! Я - больному ребенку!
- А! - крикнул бритый. - Человеколюбие! Кто-то еще ухаживает за больными детьми!
Он рассерженно раскурил трубку: выдернул ее из кармана обтрепанной кожаной куртки.
- Не смейся, - бросил ему юнец, - что в этом странного. Человек делает, что хочет. Вот мы: делаем что хотим.
- Твоя правда, - кивнул бритый.
- Правда! - хохотнул старик. - А разве сейчас правда есть?! Вместо нее кривда!
- Ну, значит, твоя кривда!
Хохотали все четверо.
- Давайте вашу кастрюлю, - надменно сказала девушка в туфлях на каблуках.
Пьяной походкой отправилась далеко, за нагромождения камней и шкафов, похожих на гробы, и вернулась с кастрюлей, держа ее за оба оловянных уха. Поставила на стол.
- Ваша курица.
Хельга открыла крышку, так открывают западню. В кастрюле, в жидком хризолите бульона, лежал, подняв и раздвинув вареные ноги, тощенький цыпленок. Вокруг него плавали пятна жира и перья мелко порезанного лука.
- О, и даже навар есть, - поцокал языком бритый.
- А ты что, сама жрать не будешь?
- Героиня, - беззубо выдохнул старик. - Ей предлагают...
Другая женщина в белом фартуке поставила на стол огромное блюдо. На нем лежали куски румяно, по всей поварской науке, зажаренного мяса. Жаркое, по краям тарелки, было обложено резаными яблоками, укропом и дольками чеснока.
- Яблоки что, тоже у Беллиной мамки в саду поспевают? И чеснок?
- И укроп, и петрушка, и кое-что еще, - юнец подмигнул бритому. - Выпьем? А ты, - обернулся к Хельге, - может, выпьешь с нами? Ты же теперь уже наша.
Налил в бокал вина из темной бутылки.
- Еще не наша, - поднял палец старик.
- У нас нет времени принимать ее по правилам, - буркнул заклейменный.
- А как - по правилам? - спросила Хельга.
Она взяла в обе руки бокал. Косилась на горячую кастрюлю.
Кастрюлю и себя надо было унести отсюда во что бы то ни стало.
- Втыкают в землю ножи. Зажигают факелы и тоже в землю втыкают. Лезвия и огонь: это как жизнь и смерть. Вместе, рядом. Человек должен разбежаться и перепрыгнуть через пламя и лезвия. При этом - перевернуться в воздухе. Сделать кувырок! Сальто мортале, короче! И приземлиться на обе ноги. И ноги уже не ноги у тебя. И сам ты не ты.
- А кто?
Хельга уже знала, кто.
- Сказать?
- Я знаю! - кричала она, опять на весь зал.
С дальнего стола донеслось:
- Тихо! Дайте песню послушать!
Человек, игравший на деревянном гусе с дырой в груди, уже играл и пел другую песню.
Все притихли и стали слушать.
- Угрюмые воины обступают меня, медные лбы. Сейчас на меня, как в цирке, накинут сеть. Иуда целует, и не уйдешь от судьбы-ворожбы. И не ты выбираешь, жить или умереть. Иуда целует. И - шаг назад. Он свое получил. Вчера он - баба. Нынче - дитя. А завтра - старик. Чего ты ждешь? Губы горят. Народ меня бил и еще будет бить. А потом убьет. Я уже привык.
Хельга холодными губами повторяла за певцом его тихую далекую песню. Откуда она знала ее? Где она слышала ее?
Бесполезно было думать, хлестать разум батогами и вспоминать. Памяти не стало, ну и пусть. Хельга встала из-за стола. Взяла кастрюлю за оловянные уши.
- Ну, я пойду?
- А посвящение? Мы тебя все равно выследим. Вот ты сейчас пойдешь домой, а за тобой пойдут по пятам. Не скроешься!
Бритый смеялся. Наколол на настоящую вилку кусок и с наслаждением грыз его, всасывал сок.
- Считай, она уже посвящена, - бросил юнец.
Он пил вино бокал за бокалом.
Старик смотрел, как убывает вино в бутыли.
- Нет. Так не бывает, чтобы только на словах. Поставь на стол кастрюлю.
Хельга выполнила приказ. Она не успела оглянуться, как старик поймал и сжал ее руку, схватил со стола нож и резанул ей по руке. Кровь полилась широко, вольно. Все стали подставлять ладони. Набирали в ладони Хельгину кровь и пили. И размазывали себе по лицу. Хельга глядела изумленно, молчала. Бритый стащил со спинки стула полотенце, забытое официанткой Беллой, и обмотал Хельгину раненую руку.
- Все. Ты наша. Ты - в стае!
Все четверо скалили зубы.
У троих зубы торчали бывалые, почернелые, и только у юнца - белые, крепкие.
- А теперь можешь идти! Ступай! Все равно вернешься!
- А не вернешься сама - так вернем! Из-под земли достанем!
- Мы сами-то под землей, ха, ха...
За дальним столом, где пел песню про поцелуй Иуды и играл на деревянном гусе сгорбленный человек, сидел еще один. Седой парик грязной пеной прибоя вздымался над иссеченным морщинами лбом. Глаза под париком горели мощно, угрюмо и тускло. Высохшие пальцы перебирали на настоящей скатерти настоящие вилки и ножи. Цапнули с тарелки, где валялись мясные объедки, узорную ветку укропа. Он, а может, она, никто не знал, медленно встал из-за стола, когда Хельга выходила, в обнимку с кастрюлей, в дверь, в рваный огонь задуваемых ледяным сквозняком голых свеч.
Хельга шла по улице, еле передвигая ноги. Осторожно кастрюльку несла, как хрустальную. Бульон плескался в кастрюльке. Время от времени Хельга подносила кастрюльку к носу и втягивала забытый, пьянящий запах. Настоящий куриный бульон! Ради него стоило подставить под нож руку!
Ничего, думала она, сейчас приду домой, обработаю порез йодом, еще остался в военной аптечке, в брезентовой сумке, со времен Первого Великого Сражения.
И перевяжу. Перевяжу.
...не видела, что за ней идут.
Шли тихо и твердо. Беззвучно. Крадучись.
Когда оба, она и преследователь, пересекали полоску фонарного света на безлюдной в поздний час улице, по белому световому отпечатку мгновенно проносилась и таяла во тьме тень зверя.
Морда. Уши. Лапы.
Последним в изгрызенной колючим снегом тьме через свет пролетала тень прямо, сторожко вытянутого над снежной дорогой, чуть косо, вверх торчащего хвоста.
***
[ОБОРОТЕНЬ ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС]
...еще пересечь дорогу. И скоро дом. Какая скользкая мостовая! Подтаяла, а потом замерзла.
Вот так и мы замерзнем, дайте срок. Всему свой срок. Какая тихая жизнь пошла! А как грохотало все вокруг в Сражениях! И люди думали: вечно будет стоять в ушах этот грохот. О нет, мир стал иным. Он стал тихим и коварным. Люди, наконец, пришли сами к себе. К таким, какими они и были, от сотворения мира, на самом деле.
А какими были они?
Вот такими, шептала Хельга сама себе, нюхая запахи вареной курицы и на ходу заливаясь слезами; такими и были: подлыми, кривыми, злыми, зверьими. Да зверь благородней, чем мы! Они, эти дряни, хотят, чтобы я убивала! И чтобы они разводили у себя на кухне, в подземье, огонь, и пахло жарким, и они пели старинные печальные не знаю чьи песни, и чавкали, и радостно тащили из закромов забытое вино, бутыль за бутылью! Набить брюхо! Вот их вера! Но я же тоже несу сейчас ребенку еду! Еду - ребенку! Это - святое! Значит, еда тоже может быть перевертышем?! Все на свете перевертыш! Перевернулось все! Мир - перевернулся! И больше не встанет на ноги! Мы стоим на голове и умрем на голове! Глядя снизу, с той стороны, где раньше на земле стояли подошвы, от самой грязной земли, отчаянными, широкими глазами - на свою смерть, что прикидывается единственной нашей жизнью!
Хельга не поняла, когда напали. Не уловила. Прыгнули сзади. Кастрюля вырвалась из ее рук, как живая, и покатилась по снегу. Бульон вылился вмиг. Вареный цыпленок вывалился на снег и тоже, как живой, скакал, катился. Затих.
На нее навалились. Она и неведомое существо, оба, обнявшись, покатились по снегу, Хельга от страха зажмурила глаза, смотреть не хотела. Под руками чувствовала шерсть. Зверь. Ну и пусть. Дикая собака. Собаки в мертвом городе одичали. Хотят есть. Она - еда. Бесславно. Подло. Все на свете для другого - еда! Всяк другим кормится! Все так просто! Они катались и валялись, снег облипал их. Зверь ткнул Хельгу лицом в снег. Она обожгла снегом щеки и губы. Снег набился в рот, в зубы, она плевалась снегом, а он лез в глаза, в уши, под лоб. Зверь топил ее в снегу и ждал, когда она утонет. Задохнется.
Потом началось другое. Хельга опять не поняла, что. Зубы зверя ухватили ее за воротник и тащили. Железные зубы, до чего крепкие! Мертвая хватка. Зверь когтил Хельгино пальто. Упирался в ее тело жесткими железными лапами. Рвал когтями все, что подворачивалось под них: старый драп, кожу сапог, подол платья, живую шею и ключицы, петли, пуговицы, растрепанные Хельгины седые волосы.
Хельга не знала, и может, теперь не узнает никогда, что, в борьбе со зверем, на той ночной безлюдной улице, она седела на глазах. Ее волосы становились белее метели. Белее и ярче свеженаметенных сугробов.
Зверь оказывался сильнее. Лапами наступил Хельге на горло. Давил. Хельга слышала рычание. Ловила еще живым лицом жаркое мясное дыхание зверьей глотки. Хельга отчаянно, сначала сильно, потом все слабее и слабее, тише, жальче била кулаками по земле. Губы шевелились, безголосо и обреченно звали на помощь. Голос исчез вместе с жизнью и разумом.
...тонкая грань искривилась, задрожала, накренилась, нить порвалась.
Явь сдавала позиции постепенно.
Пространство вспучивалось, выгибалось мутной линзой, внезапно становилось кристально-прозрачным, глядело изнутри чудовищного глаза ледяным зрачком, на его дне светился снежный хрусталик, он наблюдал то, что нельзя видеть никому.
Зрение того, кто нас вызвал из тьмы, особое: стрекоза фасеточным глазом беспомощно повторяет его.
Ты, умирая, видишь мир изнутри, но это еще не все: он видит тебя, и это доставляет ему большее наслаждение.
...изнутри вещей, изнутри боли.
...боль тоже смертна, она умирает.
...боль достигает врат великого Рая.
...сорви золотое яблоко, что ли.
...сладость по горлу судорогой течет.
...жизнь - смерть. Чет - нечет. Чет.
...очнуться в логове.
...волк не снимал маску.
Волку маску снимать не пристало. Волк умел и тонким голоском, и нежным, и певчим, певучим. Волк всяко умел. Как того люди пожелают.
Волк, и шерсть торчит, а кое-где гладко лежит, плотно к телу. Зверь.
Но речь слышна. Говорит человечьим голосом. Хриплым, бабьим.
А она сама? Где она?
Ни на земле; ни на небе.
...она сама висит.
Да, так просто: висит. Между небом и землей.
Хельга скосила глаза. Правая рука привязана к доске. Левая - да, тоже. Руки растопырены. Раскинуты. Она хочет обнять кого-то близкого. Или далекого. И не может.
Глянула вниз. Ноги тоже привязаны к доске. Горизонталь и вертикаль. Знакомая фигура. Забыла, как называется.
Под ногами шершавые доски, отломки гнилых бревен, распиленные дверцы шкафов. Дрова со свалки. Как у них у всех теперь.
...чья-то шутка, хохот вдали. На краю земли. Хохочут над ней.
...хворост набросан. Сухие ветки. Перевязаны бельевыми веревками. Века назад кто-то сушил на веревках белье во дворе. А может, всего пару лет назад. А может, вчера. А может... еще сегодня...
Поглядеть вбок, еще вбок. Повернуть голову, шея хрустнет. Ты видишь табурет. На табурете лежат гвозди и молоток. Крупные гвозди, такие Хельга находила в песке, на берегу холодной родной реки, когда с ребятами в детстве купалась, на спор переплывая широкую реку в узком месте. Огромные гвозди, страшные; и черные, как забытый деготь, и вдруг серебряные, как рыбы. Красноперка, сорожка. Она вспомнила имена рыб. Свое - вдруг - забыла.
Обвести глазами круг. Стол. На столе - склянка. В ней - темная жидкость. И бутылка, в ней тоже темно и страшно, и два пустых бокала.
Серая морда волка мотается рядом. На нее смотреть не надо. Не надо!
- Как долго я ждала этой минуты! Всю жизнь!
...я забыла, как меня зовут. Как - ее - зовут.
...у волков нет имени. Они просто звери, и все. Бегают быстро, зубы острые. Особенно когда улыбаются и поют любовные песни.
- Какую смерть ты выбираешь, старуха?
...разлепить губы. Это трудно. Пересохли, и хочется пить.
Пить не дадут. Жить - не дадут. Нельзя. Хватит. Нажилась.
- Оборотень...
Морда, желтый клык торчит, серая шерсть на загривке встает дыбом. Злится? Или радуется?
Глаз горит. Хищно, весело, оранжево. Он - рядом. Близко.
...как все просто.
...муж, великий и забытый художник, когда-то говорил ей: в мире так все просто! Вот краски, вот масло, вот холст, вот елей, вот кровь, вот полынь, вот правда, вот обман. Вот любовь, а вот тебе ненависть. Ну? Видишь, как все просто?
- Но ты же... ты же, Волк, твердил мне всю жизнь, как ты меня... любишь...
Вой переходит в голос, и голос тут же переходит в вой.
Надо терпеливо слушать эту песню, и, пока есть время, запомнить.
- А ты что, верила?! Теперь другой мир. Теперь не твое, а - мое царство! Теперь можно все! Мне - можно все! Любое преступление нынче оправдано. Кем?! Не смеши меня! Если есть Бог, именно Он все наконец устроил, как надо! Сделал нам всем - правду! А то мы все жили во лжи и врали сами себе. На каждом шагу! Прятались! Притворялись! Воровали! Жили - исподтишка! Существовали! А теперь мы живем в полную силу. Кто сумел, то и съел! Всю жизнь, когда я тебя видела, когда слышала твой голос, мне хотелось схватить веревку! Для чего, спросишь?! Чтобы повеситься от горя, что ты на свете есть?! О нет! Совсем для другого!
...ответить ей. Опередить ее.
Ты ведь знаешь правду.
- Чтобы задушить меня?
- Да! Умница! Чтобы задушить тебя!
...хриплый смех.
- Но ведь все уже произошло! Много лет назад... тогда... давно...
- Да! Все уже произошло! Много лет назад! Тогда! Давно! Я тебя тогда - уже задушила!
...согласиться с ней. Не перечить ей.
- Да... я - понимаю...
- Я тебя задушила - самою собой! Ты делала шаг - а я совала тебе подножку! Ты кричала - а я перекрикивала тебя! Ты улыбалась - я улыбалась шире, во весь рот! Ты плакала - я рыдала так, что стены и сердца сотрясались! Ты танцевала - я вставала перед тобой и отплясывала так, будто целый народ! А когда ты пыталась меня уличить в том, что я - твое зеркало... я - смеялась над тобой! Хохотала во всю глотку! И на тебя пальцем показывала: глядите, ведь она - слабая, жалкая копия меня! Презирайте ее! Плюньте на нее! Топчите ее ногами! Свора моих поклонников, ату ее, ату! Жалкого, несчастного кумирчика прежних мертвых дней! Ты не идол, ты ничтожество! Ты! Мертвый город! Развалина! Руина! На моих площадях по-прежнему бурлит и играет жизнь! А на твоих - серое, крысиное царство смерти! Сейчас тебя не станет по-настоящему! По правде! И я наконец-то спляшу на твоих костях!
...вести глазами по грязной комнате. По старым табуретам и стульям. Все запоминать. Веревка. Ржавый нож. Он века в земле пролежал. Пистолет старого образца. Из таких - забытые поэты на дуэлях стрелялись.
- Видишь, дрянь, сколько у меня для тебя припасено видов смерти. Думаешь, глядишь старое страшное кино?! Ха, старинный Голливуд! Мертвый Голливуд! Его давно разбомбили, еще в Первое Великое Сражение! Дурацкий Голливуд! Нам в подметки не годится! Да у нас тут сейчас такой Голливуд, последний фильм про последние дни, ах, какой потрясный! Пальчики оближешь! Сколько лиц у смерти! Не насмотришься в них. Сколько зеркал! И в каждом - ты отражаешься! Смерть многолика и многорука! Многозуба! Какая роскошная пасть! Слаще и крепче моей! Выбирай! Я все равно тебя убью!
...право выбора за ней. Она смеется. Она просто смеется.
Ей зачем-то нужно, чтобы право выбора было - за тобой.
- Но прежде всего! Впереди всего, впереди всех! Знаешь что бежит?! Боль! Я буду причинять тебе боль! Нестерпимую боль! И под гнетом боли ты, жалкая старуха, разгрызенная собачья кость, ты... скажешь мне все, что я хочу от тебя услышать!
...что - она - хочет - услышать?
Все давно уже сказано.
И вслух. И записано знаками на ветхой бумаге. И вытиснено краской на жалких страницах. Их сожгли в печке, для тепла.
...сожгу свои рукописи, чтобы только - согреть тебя...
...кто это говорил? Когда?
...не вспомнить. Вот этого - уже не вспомнить. Поэт один.
...он мертвый уже.
...так он шептал бессмертной возлюбленной своей.
...а кто такой - поэт? Какое короткое слово. Птичий клекот.
...птиц всех съели. Воробьев, голубей... соловьев...
...едят людей, а что же дальше...
...я на костре горела... на таком, громадном, диком, жестоком!.. всю жизнь, когда читала твое... и это было мое пожизненное мучение, мой огонь... зато теперь мой миг! Мой - мир! Будешь гореть теперь ты! По-настоящему!
...слушай, перестань показывать мне этот ужасный фильм. Он смешон. И мы с тобой - смешны. Ненависть - смешна. Она - распята, не я. Сначала была кража. Потом - правда. Потом - злоба. Потом - ненависть. Потом - месть. Потом - везде и всюду - зеркало.
И в зеркале - морда волка.
Волк! Это звучит гордо.
...человек человеку волк? И все сбылось?
...если она будет тебя пытать, только не ори.
...все странно. Слишком странно. Страннее некуда. Ужаснее того, что происходит, только Третье Великое Сражение. Это оно началось? Так дико, странно?
...а где же любовь?
...любовь! Не оборачивайся зверем! Я в тебя... еще верю...
...видишь, пылает печь. Зев печи. Горят дрова. Горит твое дурацкое, никому не нужное сердце. Твоя жизнь сегодня обратится в пепел. Это тоже фокусы оборотня. Жизнь - оборотень. Она превращается в смерть. Как все просто.
- Ты что... ты... спустилась... оттуда?..
- Откуда, что мелешь?!
- Оттуда... свысока... издалека... с высоких гор...
- С каких еще гор?!
- Ты там жила... зверюга... зверь... наблюдал ты нас, зверь... не Бог... не Бог... противник... супротивник...
- Какой еще Бог, не Бог?! Умом тронулась! От страха! Ага! Боишься! Бойся! Бойся!
- Ты... против... Бога...
Хельга глядела, как Волк, выпростав старые, морщинистые человечьи руки из-под мертвой шкуры, хватает громадным ржавым корнцангом старую стамеску и сует ее в красную пасть печи.
Морда его довольна. Раскаленное железно сейчас будет готово. Красное, железное блюдо. Вкус огня. Красного смертного перца. Приправа - крик. Вопль. Скоро. Сейчас.
...близко, рядом с лицом. Огненная железка вспыхивает и мерцает, она живая. Живое все, пока тебе дано жить. Будет ли жить все вокруг, когда ты умрешь? Что такое весь мир, как не твоя отчаянная песня, поэт? Не твой крик, вопль на пороге небесной боли?
...ты раньше кричал эту песню для всех людей, поэт.
...кто услышит твой крик теперь?
- Чего ты хочешь?! Говори прямо! А-а-а-а!
- Я - хочу?! Я требую! Приказываю тебе! Сейчас! Вот сейчас! Чтобы ты взяла на себя всю мою вину перед тобой! Весь мой грех! Все мои дела, всю мою ненависть и злобу, всю мою месть! Чтобы ты стала мной! Мной! Стала - Волком! Оборотнем!
- Я...
- Ты - Оборотень! Ты - Оборотень! Ты, а не я!
Волк, из-под маски, из-под искусно пошитого чучела, кричит очень громко. Слишком громко.
...визгливой бабенкой заполошно вопит.
...и ты ему не веришь.
...уже не она смеется над тобой, а ты смеешься над ней.
- Что скалишь зубы?! Ах, у тебя тоже есть зубы! Зубешки! Да только не укусишь! Укушу - я! Последний поцелуй, ха! Говорить можешь?! Пока я тебе последние зубы не выбила - можешь!
- Что...
- Послушать хочу твой детский лепет! Твою, ха, ха, исповедь! Говори: я люто завидовала тебе!
- Что... мне - завидовать - тебе?.. Как же тебе завидовать... ты же - несчастная... мне тебя - жалко...
- Повторяй: я украла у тебя, истоптала и испоганила всю твою живую, прекрасную, нежную, безбрежную, птичью, синичью душу!
- Всю... Господи!.. как больно!.. пожалуйста!.. не надо!.. твою... живую душу...
...пытка - признание.
Пытка - ложь.
Пытка - оговор.
...как просто себя оговорить. Надо только испытать неистовую боль.
Неужели боль побеждает все?
Так все просто?
Да. Так все просто.
Ты в этом убедилась?
- Говори: я - убийца! Я ведьма! Зверица! Дьяволица! Я гадкими, грязными сплетнями и слухами, погаными черными оговорами убила невинную, яркую, ослепительную царицу! Светлого ангела! Певчую малиновку!
- Я - убийца...
- Говори: я - Иуда! Я предала подругу, как Христа! Отправила ее на крест!
...так вот как называется это: плаха в рост, плаха для объятья. Крест. Вспомнила.
- Я...
- Ну же! Иуда!
- Я...
- А! Не можешь?! Язык не поворачивается?!
...от боли нельзя потерять сознание. Нельзя.
...ты - не потеряешь. Для тебя боли нет. Нет.
...что ты выгадаешь этими минутами смертного унижения? Великой, перед лицом Бога твоего, немыслимой, презренной лжи? Что?!
...проживешь на свете еще минуту...
- Иуда...
- Ты предавала меня злобным людям! Они волокли меня на костер! И разжигали огонь!
- Огонь...
- Ты подкладывала вязанку дров в мой костер! И счастливо глядела, как огонь пожирает меня! Меня! Мое красивое тело и мою душу! Мою бессмертную душу!
Ногой пододвигает к тебе дрова и хворост.
Старая, довоенная зажигалка в ее пальцах. Пальцы - дрожат?
Нет, не дрожат.
- А теперь скажи: я - Оборотень!
...поднять залитые кровью глаза.
...лопнули обвивающие выпученные белки, кровавые горячие водоросли.
...красная сеть зрячей жизни.
...слезы тоже могут литься красные.
...ты их не видишь. Ты - знаешь.
Ты знаешь сейчас все, что не знала раньше и чего не знали все люди, твои соседи по земле и по войне.
Ты читаешь мысли Волка.
Читаешь мысли войны.
Читаешь мысли земли.
А земля читает тебя.
Земля может думать. Она думает тобой.
Она плачет тобой.
Твоей кровью плачет.
Откуда течет горячее, соленое? Сверху. Твой лоб изрезан лезвием ножа.
...терновый венец, вот он какой может быть, живой, текучий. Уплывает. Ускользает, заливает красной солью далекий небесный лед твоих глаз.
...ржавое лезвие, может быть заражение крови.
...ты давно уже заразилась. Ты - больна. Надо выздороветь. Быстро. В один миг. Сейчас.
...ждать - некогда.
- Нет. Я - не Оборотень.
...все. Слова произнесены.
Успела.
А теперь - будь что будет.
Будет смерть, это понятно.
Пусть - будет.
Ты впервые и в последний раз в жизни видишь такую ярость.
Не человечью, не зверью, нет.
За гранью человеческого и звериного; за гранью живого и мертвого.
Такой ярости не бывает на земле. Не бывает и выше.
- Нет! Ты - это я! Я - это ты! Ты всегда была мною! Я всегда бежала впереди! А ты - за мной, след в след! Оборотень проклятый! Сдохни!
...срывает волчью маску с торчащими зубами. Сдергивает волчью шкуру с плеч.
А там, под чучелом, - разъяренное старое лицо в мелких птичьих морщинах. Руки в крови по локоть.
В твоей крови.
На грязном полу - кровь. Дрова в печи еще горят. Дрова в подножье креста тлеют. Ноги твои обожжены. Руки крепко привязаны к перекладинам. Веревки впиваются в запястья. Ты обвисаешь на досках, ловишь ртом воздух. Женщина, бывшая века назад твоим вечным хищным Волком, приближает, держа за два стальных рычага, мертвую волчью морду к твоему залитому кровью лицу. Приставляет зубы и нос чучела к твоему горлу. Рычагами раскрывает пасть. Железные сочленения издают живой визг.
...смейся. Хельга, смейся!
Растягивай губы в улыбке. Пусть застынут двумя красными солеными дольками.
Смейся над Волком.
Оборотень боится смеха.
Видишь, он смешной.
Волк смешон в ненависти своей.
Он думает: я непобедим!
Он не знает: смех стреляет метко, и пуля дикого смеха идет навылет.
Казнь? Ха-ха! Месть? Ха-ха-ха!
Смерть... ха, ха... ха...
Смерть!
Смех...
СМЕХ...
Хельга раздвигает пальцы. Повернув голову, смотрит на руку свою.
Смотрит пристально, жутко. Прилипает к руке глазами.
Из пальцев начинают расти ветки.
Нежные, тонкие. Колышутся.
Все длиннее становятся. Все живее и страшнее.
Ноги тоже деревенеют. Ноги пускают корни.
Другая рука ветвится, на ней под холодным сквозняком чуть шелестят листья.
Вверх, из темени, растет ветвь. От нее мгновенно стреляют ввысь и вбок отростки, ростки.
Оборотень застыл.
Он глядит на чудо.
Он никогда не видел чуда.
А если видел, то забыл. Чудо приходило давно, до войны.
До всех войн.
Где?
В саду, где растут вот такие деревья!
Какие? Что это за дерево?
Дерево, дерево, де...
Руки Хельги, ее ветки, тянет вниз. Все вниз и вниз.
Тяжесть.
Боже, тяжесть!
Скосить глаза и поглядеть. Увидеть, хоть это так трудно.
Видит! Она видит!
Яблоки. Золотом горят. Светятся золотыми боками.
Отсвечивают красным: кровью.
А может, закатом.
Или рассветом.
Хельга - дерево. Что там! Бери выше! Хельга - сад.
Сад? Какой еще сад?
Логова Оборотня нет.
Больше нет.
Вместо него есть сад, и Хельга шепчет его нежное имя, она вспомнила: Рай.
Людей изгнали из Рая, а вот они в него взяли и вернулись.
Она вернулась? Да она и не уходила. Не убегала!
Она сама стала садом, чтобы люди... все люди...
Ветки растут... руки - ветви... ноги - корни... а яблоки?
Кто такие Яблоки?
Тяжелые. Такие тяжелые. Вот-вот оборвутся. Упадут.
И падают. И катятся.
И нет им конца.
Все падают и падают.
Все катятся и катятся.
Не остановить.
Золотые тяжелые шары.
Урожай.
Люди, вы сами не знаете, кто вы.
Это ваши головы, тяжелые.
Золотые.
Это ваша сладкая жизнь! И не успели сгрызть, зубы запустить во влажную, желтую мякоть.
Вы только соль крови на вкус помните.
...я - древо Райского Сада, и яблоки - золотые.
...логово Оборотня - на самом деле - Эдем.
...не знаю ненависти. Боли не вем.
Ветки растут... руки - ветки... ноги - корни... живые... святые...
Яблоки свисают с ветвей... святые... живые...
...зубы запусти в плоть... в душу... острые... ножевые...
...яблоня золотая... люстрой горю... прибитая к небу, сверкаю...
...я - древо... дрова - январю... пламя... судьба такая...
Дверь отлетает под ударом ноги.
Вбегает в камору живой человек. Малютка.
Он просто слишком маленького роста.
Ребенок!
Смотри, Хельга, это тот, кого ты приютила. Сынок твой.
...как в сказке, так не бывает.
...не бывает всего из того, что ты испытала здесь; и вот же, вот, бывает оно.
Мальчишка сует два пальца меж зубов и оглушительно свистит.
- Бабка! Сволочь!
Ногой валит старуху на пол. Ногой сошвыривает старинный, музейный пистолет с табурета.
- Не бойся, мать!
Старуха, лежа на полу, поворачивает растрепанную, в седых буклях, голову и глядит изумленно, больно.
- Мать?!
- Да! Она мне - мать! А ты - злая злюка, волчица! Кукольница! Гадюка!
Мальчишка наклоняется над бабкой и плюет в нее.
- Да я же тебя... я же тебя - так любила... лелеяла... я - все тебе... всегда...
Мальчишка отвязывает Хельгу от креста.
...колени подкосились, мешком падает на пол.
...а парень уже тащит таз с водой, ставит у залитого кровью лица Хельги, хватает со спинки стула полотенце, окунает в таз и обмывает Хельгу. Начинает ее обмывать; очищать; всю, медленно, постепенно, начал с лица, с шеи, спускается все ниже, обтирает ей руки и ноги, шепчет: успокойся, я успел, ну ты же видишь, тетечка, я успел, успел.
Таз дырявый. Вода утекает.
Она утекает всегда, от сотворения мира. Ее не поймать. Не изловить. Не смолоть зубами, не сожрать, не выпить, не размазать, как кровь, как слезу по щеке. Она - жизнь. Ее так немного. В ней так важно не обмануть себя.
Маленькие ладони мальчишки и верткие пальцы были такие ласковые. Родные.
- Петрушка сказал... что завтра праздник всей Лемурии... праздник еды... власти назначили... по всем Квадратам... хавку будут раздавать... и грабить мне никого не придется... вот пойдем туда, мать, я тебя накормлю... теперь - я тебя, а не ты меня... я уже могу, я - взрослый... Петрушка нам лучший кусок обещал...
Хельга пыталась говорить. У нее ничего не выходило.
- Ро... берт...
- Мать, ты молчи, молчи! Мать, вот такая жизнь! Не узнаешь, где найдешь, где потеряешь! Кто бы знал, что ты попадешься в лапы моей бабки!
Мальчик обернулся к валявшейся на полу старухе. Седые патлы у нее надо лбом вились узорами замогильной пурги.
Она плакала в голос, хрипло, не стыдясь, даже не зная, что плачет.
- Внучек... какой ты жестокий... ты же бабушку убил... убил...
Мальчишка сел на корточки и приблизил лицо к лицу Оборотня.
- А скольких в городе убила ты? И во всем Квадрате шестьдесят три? Не считала? В листке, что на площади висит на столбе, все время писали, да, все время про жертвы и убийства! Про волка, да! Это значит - про тебя!
- Это не я...
Хельга слышала, как зверино хрипит у нее в старой груди.
- Ты, не ты - плевать! Идем, мать!
Мальчишка протянул руку, Хельга уцепилась за его руку, и он легко, будто был силач, а она - пушинка, поднял ее с пола. Она снова держала его за руку. И он доверчиво держал ее руку. Они оба держали жизни друг друга.
Оба медленно шли к двери. И у самой двери, не успели еще отворить, Хельга вдруг обернулась и уставилась на лежащую на полу старуху.
- Ей больно, - сказала Хельга безжизненно и бесслышно. - Ей очень больно. Ей плохо.
- А тебе?!
Парень заорал так, что затянутые папоротником мороза оконные стекла задребезжали.
- Мне - тоже. Тоже больно. - Хельга сглотнула. - Давай перевяжем ей раны.
- Ты что?! Спятила?! - Мальчишка постучал себя кулаком по лбу. - Это ты ранена! Вся в кровище!
Хельга стояла прямо, и волны иного мира, иного неба медленно плыли у нее по настоящему лицу.
- Нет. Она. Да. Я. Это я лежу на полу. И плачу. И гляжу в свое зеркало. В себя. И не узнаю себя. И узнаю себя. Это не я! Я. От себя не уйдешь. - Она протянула руки к лежащей на холодном полу. Потом умоляюще поглядела на мальчишку. - Прошу тебя, перевяжи мне раны, сынок. Прошу тебя.
Хельга выпустила руку Роберта и встала на колени перед лежащим Оборотнем. Ее слепые руки искали чужие руки, чужое лицо. Чтобы ударить? Погладить? Благословить? Бога не было. Он умер. Человека тоже не было: все были оборотни. Все, кроме Хельги и мальчика. А может, еще кто-то был настоящий? Никто не знал. Хельга наклонилась над своим Вечным Волком и глядела ему в глаза. Глазами вызывала Волка на сочувствие. На презренную жалость. На забытую любовь. Глазами спрашивала Волка: и тебе меня было не жаль? Никогда? Губами в крови беззвучно выдохнула: а если - любовь?.. Слабым теплым дыханьем попросила: а если... по-доброму... по-светлому... по милости... по истине... Старуха лежала на спине. Ее глаза были налиты слезами. Две слезы быстро выкатились из старых глаз и пропали в сухих руслах морщин. Она зло оттолкнула протянутую руку Хельги, оскалилась, набрала в рот слюны и плюнула Хельге в лицо.
Где ты, любовь?
Хельга подняла глаза. Уткнулась взглядом в зеркало, огромное, как церковная фреска, от пола до потолка. Висело оно? Летело? Тяжелое, грузное, оно внезапно стало легчайшим и невесомо поплыло прочь под Хельгиным взором. И, пока оно уплывало, она успела в нем увидеть две туманные фигуры. Женщина, положив сильную руку на холку волка, медленно уходила вдаль. Рука прожигала лаской волчью шерсть. Глаза зверя сияли. Он был горд тем, что женщина ласкает его, и счастлив прижиматься горячим боком к ее вечному телу. А может, к душе. Прежде чем сделать шаг за край зеркала, мерцающий Райским, забытым, слоями плывущим светом, женщина обернулась. И Хельга с ужасом и восторгом себе самой заглянула в лицо.
Хельга встала с колен. Ее ноги стали сильными, руки стали сильными. Она наливалась силой, жизнью. Она даже испугалась этой внезапно, мощно вернувшейся молодой силы. Ей стало очень страшно. Надо было что-то сделать, как можно быстрее. Крест. Он смотрел ей в слепую спину с другой стены. Не оглядываясь на свое распятие, она забыто и светло перекрестилась. Не глядя, нашла руку мальчика. Крепко сжала ее. Свободной рукой толкнула дверь.
[ОБОРОТЕНЬ ПОВЕРЖЕННЫЙ]
Сон закончился. Оба проснулись.
Светло посмотрели друг на друга.
Оба вышли вон.
ФРЕСКА ТРЕТЬЯ. ВИОЛЕТТА
Люди, дорогие люди, мои милые, мои далекие и близкие друзья и подруги, мои родители и дети, мои фанаты и поклонники, любимые, родимые, золотые, серебряные, изумрудные, да вы же все умерли, но вот вы вдруг живы, как же это вы все оказались живы, и вдруг пришли ко мне, сюда, к последней койке моей, так выслушайте же меня напоследок, а то я так вот с этим и умру, со своим-то горем. Горем горьким! Ох, худо мне! Худо! Никуда не убежать от этого злого, противного горя. Только самой стать им! Превратиться в него!
Я, знаете ли, умираю. Я - последнюю свою арию пою! Пою-заливаюсь! Единственное, что у человека на земле есть ясного, счастливого, это вольная песня. Песней можно объясниться в любви! Песней можно помолиться! Я однажды, еще до этих войн треклятых, в церковь зашла - а передо мной икона большая, и на ней Бог спускается в Ад. Стою, а перед глазами у меня буковки мельтешат. Стишок будто читаю, Лельки Ереминой, а стих так же и называется, как икона эта, "Сошествие во Ад". Там у нее Бог в ярких одеждах сошел вниз, в преисподнюю, и вокруг Него, во мраке и грязи, все на колени падают и тянут к Нему руки. И ревут коровами! Заливаются слезами! Хороший стих, но до чего же я стихи эти Лелькины ненавидела! А все потому, что любила. Слишком!
Да! Я ее любила. Любила Лельку больше жизни! Я ею опьянялась! У меня от ее стихов кругом шла голова! Она была мое вино, моя водка! Мой лучший французский коньяк! Я пила ее стихи, цедила их по капле, наслаждалась, с ума сходила - и содрогалась: это мое! кровное! почему она, а не я! я так же могу! я так же хочу! и у меня будет точно так же! как у нее! нет! еще лучше! краше! сильнее! мощнее!
Стихи, люди, это ведь наркотик. Я - жизнь положила на эти бесконечные, дикие строчки в столбик! Извлекала из недр своего жаркого, пламенного сердца все новые и новые божественные звуки! А вокруг меня толпились люди, да, люди-люди, много людей, и я выбегала к ним в ярких цветастых платьях, в туго обтягивающих ноги блестких лосинах, в кофтах декольте, и на шею, чтобы еще ярче, цветнее, приманчивее казаться, наверчивала густо и весело звенящие бусы: хрусталь, аметисты, рубины, да что там, простые радужные стекляшки, а иной раз и речные ракушки, и орехи, и рябину, сушеную, да, самолично собранную и насушенную в моих родных местах, в тайге, в горах, где я родилась, я всегда любила все яркое, ослепительное, блестящее, я хотела бы стать вот такой - ослеплять всех! чтобы меня издалека было видно! И люди передо мной молча сидели в темном зале. И я стояла перед ними на сверкающей огнями сцене. И кричала стихи. О, сцена - это такое опьянение! Это хмельной кувшин! Выпьешь до дна - и больше со сцены не уйдешь! Потому что глаза навстречу тебе горят, руки к тебе тянутся. Рукоплещут - тебе! Воздушные поцелуи посылают - тебе! А потом забрасывают тебя цветами! И ты вся в цветах, в чужой любви - купаешься! И никакой смерти нет и в помине. Она - никогда не придет!
Так вот. Я - в церкви, и эта икона, "Сошествие во Ад", передо мной. Вспыхивает! Висит... плывет, уплывает... И я вдруг как на колени - бряк! - и повалилась! И к той иконе поползла по церковным плитам. Чуть ли не на брюхо упала. Распласталась. Ползу! На коленях ползу! К святой иконе! Как мои бабки, прабабки ползли! И шепчу что-то, лепечу, а что, сама не понимаю. И вдруг до меня дошло, что. Я молю, умоляю Бога моего родного, Иисуса Христа, чтобы я - до смерти - не в Аду, а в Раю жила! Чтобы мне, да, мне - праздник был дан и Райский сад! И чтобы никакого изгнания из Рая со мной никогда не случилось! Ползу и так вот молюсь! Ползу... и молюсь...
И доползла. Иисус Христос идет по Адовой дороге, по серой, угрюмой, и хитон Его ярко-алый, и синий плащ, бирюзовый, развевается за Его плечами. И вдруг Он - взгляд на меня перевел! И знаете, что я услышала? Губы Его на иконе разлепились, и с иконы голос донесся: "Будет тебе, раба Моя, по молитве твоей. Только знай, что в Раю, рядом с Богом, в ветках Древа Великого Знанья ведь диавол прячется. Не боишься?" А я знай плачу да причитаю: Боже мой, Боже! Сделай так, чтобы я в этом мире, пока живу, и в поэзии моей любимой была сильнее всех, ярче всех, самым драгоценным самоцветом в ее короне сияла! И, главное, чтобы я была славнее и сильнее, во сто тысяч раз, этой гадкой тетки, двойника моего, Лельки Ереминой! Чтобы не ее стихи люди любили и повторяли, а мои! Чтобы не ей сыпались горстями людская любовь и бурные аплодисменты, а - мне! Я - хочу! Мне - мое! Дай! Дашь?!
Люди! Вот так я нагло молилась. И в лицо Богу моему храбро глядела. Такая молитва - ох, единственная в жизни! И я понимала, она опасная! Думаете, я такая дурочка, и совсем ничего не понимаю?
А икона сияла и переливалась, играл Ад железными вспышками, над головой Господа Христа звезды вились в венцы, и я понимала, Он меня слышит, и я ужасалась: а ну как Он возьмет да сделает все по моей молитве!.. - и я прижималась лбом к холодным каменным плитам храма: Господи, заранее прости меня за такую дерзкую молитву, а может, даже за богохульство, но я, видишь, я такая искренняя перед Тобой, я все свое застарелое страдание в эту просьбу вкладываю, - услышь! Уважь! Исполни!
Я прямо совсем сходила с ума, в этой церкви, не запомнила, в честь кого она выстроена. В Первом Великом Сражении ее разбомбили. Я потом приходила на это место. Руины. О, если все превращается в руины, где же тогда взять силы для воспевания Бога, Космоса, необъятного звездного неба?! А я так хотела все это воспевать! Столько чувств кипело, клокотало в моей груди! Я огромность всего мира носила в себе! Я - была - миру - мать! А не она! Не она! Не эта...
И голос тек над моей растрепанной головой и утекал высоко, под купол: "Иди и живи. Радуйся. Радуйся, пока ты жива. Но помни: смерть придет и к тебе. И тогда будешь отвечать за все, что ты сотворила на земле. Передо Мной - ответишь".
И крикнула я, башку к великой иконе задрав: Господи! скажи! буду я славнее? Сильнее? Знаменитее? Любимее?! Ярче ли возгорится под небом Твоим мой огонь?! О, как я хочу, чтобы - ярче! Я ведь настоящий талант! И, может, даже гений, Ты же видишь, Господи! А не она... не она... она ведь, Господи, - мертвячка... Только грамотнее меня, начитаннее, образованней... Она - ювелирша! Холодная мастерюга! А я - настоящий живой огонь! Горю! Пылаю! Тысячью, миллионами, миллиардами солнц и звезд! Моя - поэзия! Моя - мощь! А она...
И тут, знаете, вдруг за моей спиной медленно, со скрипом раскрылась тяжелая дверь во храм. И будто тень пролетела. И холодом меня сзади как обдаст! Я с колен-то вскочила. А обернуться боюсь. Прямо печенками чую: не надо оборачиваться. А может, думаю, наоборот, обернуться, дунуть и плюнуть? Вдруг это дьявол?
Дьявол, разве может он во храме... Да он - через порог не переступит...
Тихо. Тихо. Ничего не говорите. Не трогайте меня. Мне больно. У меня в груди сильно болит. И я сильно кашляю.
Все пролетело. Звон часов над моей постелью. Просвистела жизнь метелью. Я метель ловила в руки, не хотела я разлуки. Слезы жаркие лила... на закраине стола...
Люди, дорогие, вы знаете, у меня чахотка. Так раньше называли туберкулез. Вот и опять вы скажете, все вы, кому гадкая Лелька мозги заморочила: Ветка то, Ветка се!.. Ветка подлая, Ветка воровка, Ветка крадет все, что плохо лежит!.. - скажете: я краду сама себя у Верди, сама себя у этого, как его, Александра Дюма-сына краду! Ах, имен таких не знаете? Забыли? Туда вам и дорога. Я-то помню. А знаете, все в мире повторяется. Ничто в мире не кража. Кроме, конечно, настоящей кражи. Ничто не воровство! Кроме... кроме... настоящего воровства... когда очень, ну просто очень нравится... и ты - не можешь - не утащить... себе в норку утянуть...
Я Лелькины стихи к себе в логово тащила - и пела их, и повторяла, и любовалась ими. Вертела их так и сяк, как драгоценные камешки. Сердолики, гранаты, сапфиры, жемчуга. Мы, бабы, падки на побрякушки! Но у Лельки стихи были - не побрякушки. Она смело лезла туда, куда и мужики-то не очень-то совались.
А я вот - захотела сунуться. Да так, чтобы ее обскакать! Ну, знаете, соперничество еще никто не отменял! Ни в любви... ни в художестве... да вообще ни в чем... Соревнуйся ты на здоровье!
А как, думаю, сунуться, чтобы сперва быть такой же, как Лелька, а потом стать - сильнее? Как ее обогнать? Да проще пареной репы: взять да слямзить у нее самолучшие стишки! Знаете, детишкам взрослые говорят, когда их чему-то хотят научить: делай как я! Вот я себе под нос и шептала: делай как Лелька. И будет тебе счастье!
Я листала ее книжки. Ее чудесные, павлиньи-яркие, ослепительные книжки! Это потом я ей в лицо крикну: ты серая мышь! Прорычу: ты бледная немочь! А тогда, о, тогда я очаровывалась. Плыла и улетала! И глазом выцепляла, что нравилось мне больше всего. Вот, отлично! Про бег народа по стране? Возьмем. Про горящий Рим? Бесподобно. Берем! Стих о родах царицы? О! Это супер! Красота какая! Заверните! Адама и Еву изгоняют из Рая? Да это ж целый благодатный пласт! Тут много стихов я наворочаю! Всяких-разных! Отверну своей лопатой кус ее землицы - и свои, свои зерна туда брошу! А это что? Про юродивую девку, стихотворный цикл? О, про юродивых - тоже непочатый край стихотворных блаженств! Очень, очень благодатная тема! Давай-ка и я буду юродивых в стихи вворачивать! Там и сям! А вот у нее, у Лельки, отличные приемы, их тоже надо перенять. Перво-наперво прием - ход народа. Народ идет, или это, к примеру, крестный ход, или демонстрация, как в давние времена, - идет, движется святой народ, идет куда хочешь: к примеру, ход на Крещение, на Водосвятие, у Лельки вышла однажды такая книжка, и она там живописно так, с размахом, во всю зимнюю стену, как фреску, покрытую инеем, метелью, изморозью и расписными, в розанах, бабьими платками, изображала такой вот народный ход к проруби на Крещение, и мне это очень понравилось, на душу легло, запала я на это изображение большого людского хода! Влюбилась! Ну просто втрескалась! И ну - сама так же делать! А кто мне запретит красиво жить! Или там у нее, в большой книжке стихов, про русского зимнего Христа, был такой стих, "Восшествие на Голгофу" называется. И тоже восторгалась я им! Мощно так люди идут, живой стеной, и мужицкий Христос несет крест на спине, бредет босиком по снегу, и просит у солдата курнуть! Ну, вроде как у нас, среди вьюг и сугробов, все это древнее дело делается, казнь, распятие, Лысая гора. Тоже очень приглянулся мне этот Голгофский ход! И я решила скопировать. Ну, мягко выражаясь, поучиться! Почему ж тайком не перенять, если за руку тебя не хватают! И тоже, для начала, изобразила Ход на Водосвятие. И пишу там, в стихе, бойко карябаю: "В толпе идут юродивые две, они мои любимые подружки!" А что! И у нас юродивые в подругах! И мы про юродивых можем! Мы что, рыжие! А у Лельки целая огромная книжка в столице вышла в свет, про современную полоумную, "Великая Блаженная" называлась, так ту книжонку, на радость мне, в столичной печати грязно изругали, потому что написана не по канону и изображена не святая, а черт-те кто, попросту сказать, подзаборная шалава. Любит-голубит там у нее эта, с позволения сказать, Блаженная всех и вся, каждого встречного-поперечного, под кустом и при дороге. Проще говоря, со всеми кувыркается, давалка! Я так радовалась, когда эту, еще немного, и матерную статейку о Лельке в столичной газетенке читала! Прямо торжествовала! А Лельке я сладко-приторно написала тогда: Леличка, ты не дрейфь, этот наш литературный мир такой злой и грязный, а я тебя от обид защищу! Ну, мне важно было тогда быть перед ней - хорошей. Чистенькой быть. Добренькой. Чтобы она меня ни в чем таком не заподозрила!
А за стишками Лелькиными я следила. О, еще как следила! В оба! Вот напечатала она целую книжку стихов, где у нее все танцевали. О, как это красиво! Обалденно! На площадях плясали. Весь мир плясал, и вся история плясала. Мир представал гигантской вихревой пляской. Вселенная пляски! Упоение танцем! Мне так это глянулось! И у меня тут же в стихах все затанцевали! А что! А кто мне запретит! Это же прием? Прием! А прием перенять - это не текст своровать! Это не плагиат!
И ритмы надо перенять! И размеры! Что это я все катренами да катренами валяю! Гляди-ка, как Лелька хорошо и свободно плывет в ладье древнего былинного стиха! Эк, размахивается, нахалка, на всю страницу! Смелая! А я буду смелее. Я всяко-разно круче, чем Лелька! Люди, ну ведь это правда, круче! Я - оборотистее! Быстрее соображаю, что к чему!
Она про князей - и я про князей! Она про древность - и я про древность! Она про море, античные колонны - и я про древних греков, про римлян! Она про пожар Рима - и я про римский пожар! А потом сообразила: а ведь она не просто древний миф себе в стих вставляет, как самоцветы в скань! Она - миф тот - народная умелица! - на современность перекладывает! Чтобы миф новой музыкой звучал, нынешней! Ну, вроде так и вечность подчеркнет, и сиюминутность запечатлеет. И нашим и вашим за копейку спляшем! О какая хитрюга! И я так могу! За мной не заржавеет! Рим, говоришь?! Я скрежетала зубами. Рим, брешешь! Нет, не Рим! А - Чечня! Афган! Сирия! Украина! Вьетнам! Сектор Газа! Ливия! Ирак! Да все что угодно! Любая война! И любой огонь, что рвется из будущих безглазых руин!
Иди, дура, и строчи про выжженный Рим! Вываливай в миску, мясорубка, античное мясо! А я напишу про нашу боль! Про сегодняшнюю кровь! Ты же мне сама ход подсказала! Это я у тебя, у тебя его внаглую своровала! Твой ход - моим стал! А за локоток не поймаешь! Не укусишь! Я сама тебя укушу, если что! Если до грызни дойдет! Ты еще не знаешь, какая я бойкая! Мне палец в рот не клади!
И главное, люди, самое главное, что я у Лельки позаимствовала... не знаете даже что; а я знаю: это страсть.
Да, страсть! Я так понимала: поэзия - это захлеб, захлест. Поэзия - огонь, страсть! Великое пламя, и все на свете заливает! Половодье огня! Лелька великолепно умела эту страсть изобразить! Ее один великий, забытый, давно уж покойный поэт назвал певицей страсти. Ах, ее?! Ах, назвали?! Ах-ха-ха, певицей страсти... ну уж нет! Это я - певица страсти! И ею буду! И ею пребуду! Надо Лельку на этом поприще навсегда затмить!
Перекричать. Переорать. Натолкать в стих как можно больше грандиозных кометных полотнищ, червонного золота необъятных полей и молний, сумасшедших планетных орбит и бешеных вихрей немыслимых звездных миров! Она рвет на груди рубаху? Ха! А я рву двенадцать горних небес и двадцать чудовищных преисподних! И при этом щедрые небеса меня с головы до ног осыпают галактиками, кострами, пламенами, жарами и Стожарами! И стою я в этих невероятных надмирных пламенах, и широкое, необъятное сердце мое вмещает все на свете звезды и планеты, все слезы и все грозы, все ненастье и все счастье! Вот я какая! Оп-па! Любуйтесь! Не догонишь меня!
И ты, и ты, главное, меня уже никогда не догонишь, Лелька!
И вот я стала сама себе в сутолочной Сети восхищенные отзывы писать. Опубликую стихи свои - и подпишу под одним: "Сила! Мощь! Красота! Гениально!" Под другим: "Гениально! Мощь! Красота! Сила!" Под третьим: "Мощь! Сила! Красота! Гений!" Я так, потихоньку, читателей приучала к себе. К тому, что я - гений. Что я - бессмертна!
Бессмертна... Кто сейчас, после второй большой войны, будет меня читать? Книги все сожгли в печках. Вырывают страницы и жгут. Кто такой поэт, и не вспоминают. Нет, ну кто-нибудь, может, помнит. Вот вы, люди, вы помните? Я-то сама, видать, скоро забуду. Я - Волк. Ох, простите, Волкова. Я просто... убираю три последние буквы... так проще...
Да я, люди дорогие, я при смерти. Вы же видите. Вы разве не слышите, как музыка смерти звучит? Я и умираю-то как великая. Да я и есть великая. Величавее меня нет никого на земле. Я - гений. А гении всегда умирают в безвестии... в забвении. Весь мир их забывает. А потом проходит время, и их открывают. Я кашляю, так хрипло, страшно кашляю. Мое время пришло. Время уйти. О, как бы я хотела уйти не так!
А как? Ну, так: пышно, торжественно, с почестями, - знаменито. Чтобы весь народ, по всей земле, мне прощальные письма и слезные телеграммы слал. Чтобы мне все люди слали драгоценные лекарства: Виолетта, выздоравливайте!.. мы за вас молимся!.. мы вас любим!.. а никакие лекарства уже не помогали бы, но я была бы счастлива лишь оттого, что мне эти посылки и письма приходят, приходят. И их все шлют и шлют. Нет, я не шлюха! Шлюха - это она. Лелька! Лелька - блудня! Самая настоящая. Кошка вороватая! Она тоже крадет! Крала! Всегда! Она крала любовников у любовниц. Она украла мужа у жены. И у меня... у меня... я сама себе это внушила, я столько раз себе это повторяла, что сама поверила в это... она тоже крала! Мою - страсть! Мою - мощь! Мою - красоту! Мою - гениальность! Но это все пепел. Дела давно минувших дней. Тьфу на это все! Забыла!
А вот теперь... теперь...
Она украла у меня... единственного внука...
А на меня этот ее мужнишка, художник невзрачный, тщедушный, худосочный, ни кожи ни рожи, слава тебе Господи, что хоть таковский огрызок на этой подзаборной блудне женился, однажды, давно, в ресторане дело было, с такой ненавистью воззрился! Я за Лелькой увивалась, мне хотелось быть поближе к ней, потереться возле нее, поошиваться, со смешками и прибаутками потолкаться, пококетничать, заглянуть в ее ненавистное лицо и сказать ей, прошептать, как я ее люблю, и может быть, даже поцеловать, воздушно чмокнуть, чтобы потом все говорили, шептали вокруг: "Глядите, какая надменная злюка эта Еремина, и какая великодушная, добрая и ласковая эта красавица поэтесса Волкова! это она целует Еремину, а не Еремина ее! видите, видите! молодец Волкова, делает первый шаг к примирению, а то все в городе уже устали от этой злой бабьей войны!.." - все выпили вина, чуть опьянели, не слишком, а слегка, а он, муж этот, объелся груш, живописец дурацкий, и что всю жизнь на холстах малевал, не пойму, в толк не возьму, каких-то лошадей, уродок тонконогих, быков каких-то красных, кровавых, с прозрачными брюхами, и все кишки на просвет видать, как на рентгеновском снимке, и неужели это все люди покупали, я бы такую дрянную мазню никогда у себя не повесила, даже на кухню, он сделал шаг ко мне и отодвинул меня крепкой своей ладонью, а ладонь в краске вымазана была, не отмыл хорошенько с мылом, грязнуля. И я так заорала! Ну, что будто бы он меня ударил! Да, так надо было. Чтобы все увидели, какая подлая, гадкая эта пара! Он и она! Она и он!
Дряни!
Пара гнедых... запряженных зарею... Тощих, голодных, усталых на вид...
А, Лелька пела этот романс... однажды... я слышала... хороший голос у нее...
Нет! Ужасный! Отвратный! Она не поет, а воет! Ну что, повыла?! Сгинь-пропади! Быстро убегай со сцены! Сцена - не для тебя, актриса погорелого театра! А - для меня! Потому что я мощь! Сила! Гениальность!
И красота! Да! Красота!
А ты, Лелька, уродка!
И воешь, как волчица! Волчица! Да, ты волчица и есть! О! Я догадалась! Волчица - вот кто ты!
Так, это надо запомнить... Это не я - Волкова, это - ты... волчица...
А ведь интересно, самой даже любопытно, как рождается месть.
Как рождалась во мне месть? Как я дошла до жизни такой, что стала на каждом шагу несчастной Лельке мстить?
Месть... Хитрая это штучка. Сначала в тебе поселяется такой маленький паучок. Или червячок. Такой игрушечный мужичок-с-ноготок. Под ребрами живет; и зудит, и бьется там, громче сердца иной раз, и колет нутро длинными острыми иглами.
Такое черное пятнышко. И ничто, слышите, ничто не указывает на то, что оно вдруг начнет в тебе расти! И - вырастет!
Сперва я Лелькой восхищалась, ну вы поняли. Потом я ей, ну да, а что тут такого, позавидовала! Ну, что у нее золото-самоцветы есть, а у меня в сундуках нет! Страсть! Красота! Боль! Мифы! Метафоры! Музыка внахлест, навылет! Вихри чудес! У меня же это все тоже должно быть! И я украла это все. Стащила. Позаимствовала!
Кража чревата последствиями, я знала, да не могла удержаться. И потом, я же переделывала Лельку! Я же ее слова - своими словами писала!
Эх... заметила она...
И что? Потом была обида. Моя! Мне плевать было на ее боль. На ее переживания. Я обиделась: на то, что меня - обнаружили! Да, шапка на мне, воровке, горела ярким пламенем! И я обозлилась. Еще как! Просто вусмерть разозлилась! Я вся превратилась сначала в злобу, потом в ненависть. Да! Я возненавидела!
И поклялась - отомстить.
Самой себе поклялась!
Я клянусь отомстить, кулаки гневно тиская! Ты, мертвая дура Лелька, у тебя взгляд василиска! Да, это моя, до кровавой победы, Троянская война, она одна мне в жизни суждена! А если вдуматься, что же такое Лелькины стишки? Все бабочки, жуки, слепые червяки! Ползут, бездарные, не могут и взлететь... А я лечу! Разбила грудью мира клеть! Я птица яркая! Меня издалека видать! Любите меня, люди, будет чудо вам и благодать!
Следите за мной? Следите! Я все верно говорю! Сначала восторг. Потом зависть. Потом кража. Потом злоба. Потом ненависть. А потом - месть.
О, месть! Мести здесь бывает недостаточно.
А что вслед за местью?
А вслед за местью - война.
Вот она, моя война! Без конца, без краю, без дна! Она в грешный мир, как сволочь, влюблена! Она, моя война, у меня одна! Еще бы, такая честь - воевать с Лелькой! А какой будет первый мой военный шаг? Первая военная операция? А вот какой: я буду всем-всем-всем рассказывать, и на ушко и громко, в голос, о том, какая Ольга Еремина дрянь. Да, дрянь! Как Еремина у меня - беззастенчиво стихи крадет! Как меня, бедненькую - нагло преследует! Как грубо, мерзко, резко и оскорбительно отзывается обо мне - и вслух, и письменно! А доказательства? Да Еремина хитрованка! Она оскорбит меня, безвинную Веточку - и доказательства стирает! В одну секунду! Мокрой тряпкой! Да, прямо из Сети! А рыбка-то проплыла! И я ее - увидела! Поймала!
Дрянь, Лелька, в моих сплетнях ты во весь рост, перед всем городом, перед всей страной представала дрянью, а о себе я вопила: а я, люди, в чем это я виновата?! Настал мой час за талант мой - расплаты! Завидует злобная мне королева - за яркость мою, на полмира распевы!
И люди - верили. Они верили мне, а не ей!
Однажды мне сон приснился. Будто Лелька стоит передо мной, молчит, а я ей, безумно хохоча, кричу: я всем говорю, Лелька, что ты - дрянь! И тут она делает шаг ко мне, поднимает руку и размахивается, хочет дать мне пощечину, да я ловко отпрыгиваю в последний момент. И она промахивается. И кричит мне: дрянь! А я опять хохочу и снова кричу: врешь! это ты - дрянь!
А потом, ну, во сне, оборачиваюсь, комната полна незримых зрителей, то ли это гости, то ли зеваки, то ли соседи на крик прибежали, и я всем им, невидимым, кричу: "Ну вот, я же говорила! Я же вам всем, люди, говорила!" А потом оборачиваюсь к Лельке и кричу ей в ее спокойное, жесткое лицо, в ее вздрагивающие губы: "Я об этом и рассказываю всем, как ты, дрянь, меня изо дня в день убиваешь!"
И что? Конечно, они верили мне. А кому же еще!
А она, Лелька, все держала на весу протянутую меня ударить руку, и я видела, как она медленно, обреченно сжимает руку в кулак.
В тяжелый кулак.
Нет, не ударишь, думала я, тебе воспитание не позволит, ты ж у нас, дрянь, благородная!
А вот я не благородная. Я - из народа! Я почтальонша, продавщица, истопница, каменщица, швея, буфетчица. Не аристократка, черт возьми! Не Мария-Антуанетта! Не Адриенна Лекуврер! Не Сара Бернар! А их публика! Я - публика! Галерка! Я - народ! А вот ты, Лелька, никакой народ свой и не нюхала! Белая кость, голубая кровь! Не красная горячая кровь, а синяя и холодная в тебе, рыба! А я киплю и булькаю вместе с моим жарким народом на площади, брызгаю потом и кровью, задыхаюсь в пляске! Ты так с народом, в народе, опьяненно и вольно, до упаду, до смерти, плясала?! Нет?! Тогда пошла вон, дрянь! Отвали!
Я, немыслимо усиливая и увеличивая в размерах, раздувая, как воздушный шар, повторяла каждый Лелькин шаг. Повторяла ее жизнь! Теперь уже не из восхищения: из мести! Месть переросла меня. Она стала выше и сильнее меня. Месть уже управляла мной, я подчинялась ее приказам. Как на войне! Война же продолжалась! Она и сейчас продолжается. Лелька меня не покидает. Я тут вспомнила один ее бездарный стишок, что-то такое там про распятие, как распинают не Бога, а простую бабу, а другие бабы стоят рядом, утираются концами платков, а мужики воздвигают крест среди сугробов, на берегу зальделого озера, и до того мне стало обидно, что не я этот стишок родила, а она, что тут же написала свой! На эту же тему! Ах, тема! Разве тему украсть - это кража?! Разрази меня гром! Да все темы друг у друга крадут! И образы! И идеи! И все остальное! И в результате все зависит от таланта! От гения! Если ты гений - ты всех победишь! Если ты бездарь - жуй деревяшку... мышь...
Лелька, Лелька! Мышь ты, тараканиха, дура, слониха! Я каждый твой шаг хватала и превращала в свой. И сейчас - хватаю! Это мой способ жить! Только так я могу жить!
А мир вокруг меня медленно помирает. Это не я помираю, не я! Дудки! Не дождетесь! Сто лет прожила, и еще проживу! Я и в сто лет как девушка! Волосы вьются! Губки краснеют! На столе мои вещи. Гребень, я его в кудри втыкала еще тогда, когда наш город не цифрой звался. Брошка в виде морской звезды, для концертного платья. Лелька выступала в концертах - и я тоже! Лельке аплодировали - и мне тоже! Лелька даст концерт в красивом зале - и я туда напрошусь: а что, говорю начальникам, у вас Еремина выступала, давайте и я выступлю, она же моя лучшая подруга! И мне верили. Мне, а не Лельке! Что еще валяется на столе? А, записная книжка с приделанной к ней золотой ручкой. Я в нее записывала Лелькины стихи, прежде чем их переделать! Вы не подумайте, свои я тоже записывала. Вернее, мне так казалось, что свои. Даже если я писала на свои темы, я все равно на Лельку сбивалась. На ее интонации, на ее музыку. На ее чувства, на их мощный, гордый накал! Дрянь! Да, ты дрянь! Я или Лелька?! Лелька, конечно! Еще какая дрянь! Все время висит надо мной, как... как... как висела та старая, забытая люстра у нас в кассовом зале на железном вокзале! Висишь?! Качаешься?! Забодала ты меня, корова! Ни пристанища тебе, ни крова!
Книжка... почерк мой нервный... страницы шуршат... Чем человек платит за слово? Ну конечно, жизнью. Какая банальщина! Ничем и ни за что он не платит. Просто приходит смерть и забирает его себе в мешок. Режет человека ночным ножом, как курицу, ощипывает, и синюю голую тушку кладет в заплечную торбу. Или привязывает к поясу, чтобы, когда она идет, все видели: пожива уже ощипана, лишь бросить в котел.
Время - черный котел. Меня скоро швырнут туда. Нет, лучше я сама прыгну! Ой, нет, сама я боюсь! Я много чего боюсь! И смерти тоже боюсь! Как зубной боли! Как рвать зуб! Проклятье, а смерть, это больно?
Все дозволено. Знаете, люди, когда я открыла, что все дозволено - радости моей не было конца! Запреты? Люди их сами себе выдумали! Правила? Да когда мы все помрем, кому там, за могилой, нужны будут все эти мусорные, напыщенные правила! Правильно жить? А что такое правильно жить? Вот ты знаешь, как правильно жить? А ты? Ты? Ты?! Никто из вас не знает! Вернее, каждый знает, да только свою правду! А всеобщей, для всех, правды - нет! А значит...
Значит, если нет и всеобщего, для всех, запрета, то нет и всеобщей, для всех, вины. Ну, чтобы мы - каждый - за всеобщую вину - ответили. А каждый свою вину - знает! Да только толпы людей в целом свете - ее не знают! Так что же тогда виниться перед людьми?! Люди - все грешны! Все! Все!
Перед кем виниться? Перед Богом? Бог! А что такое Бог? Кто Он такой, чтобы мы, каждый, перед Ним винились? Он что, Сам безвинный? Безгрешный? Один-единственный такой?! Да, говорили нам священники, Он один-единственный, и другого такого больше нет и не будет! И надо было попам - верить! И кто хотел, верил! А кто не хотел, не верил! Я вот в Бога верила, а попам не верила! Бог и попы - это две разные епархии! Поросенку понятно!
И если у каждого своя правда, своя жизнь, свой грех и свое покаяние, значит, в этой своей жизнешке ты можешь делать что хочешь. Все равно потом покаешься! Захочешь - покаешься, не захочешь - нет: твой выбор!
Все дозволено! Как все просто! Проще пареной репы!
Любая злоба, любая ненависть, любая смерть, любое преступление тут же, едва ты их совершил, становятся прошлым. Вжик - и прошло-проехало! А по прошлому что рыдать? Плюнь на прошлое! И разотри! Забей! Забудь! Ты в нем, в твоем вчера, сделал, что хотел!
Я вот захотела вражину свою уничтожить. Лельку Еремину! И Бога моего не спрашивала: а можно, я Лельку уничтожу? Местью своей - убью? Лишние были эти вопросы! Я и без того знала: все дозволено!
Убивай, душа моя, своего врага!
Тебе не честь дорога, а жизнь дорога!
...камень агат. Срез, и золотая сердцевина, а от золота расходятся серые тусклые волны. Вот так и в нас: сердца нашего никто не видит. А вы знаете, что я всю жизнь притворялась в стихах? Я просто очень, очень, очень хотела сочинять стихи! И через стихи - стать знаменитой! Славной! Слава, ведь это такое наслаждение, такое удовольствие! Слава, она слаще, чем любовь! Любовь что? Покувыркался и забыл. Ну, поплакал! Спасибо, что дети народились! Любовь, она лишь для детей! А так... сначала поцелуйчики, потом пощечины, потом и след простыл! А в сердцевине...
...агат. Агат. Нет дороги назад. Агат. Агат. Изнутри, из сердца, взгляд. Сердце - это каменный глаз. Глядит в сейчас. Глядит на нас. Глядит в тебя: пируешь, гость! Глядит под землю: череп и кость. Слезной свечи оплывающий лед. Глядит, молчит. Знает все наперед.
...этот агат подарил мне... случайный возлюбленный, ну, я от мужа немного погуляла, а что, святое дело... не помню, как звали парня... то ли Гиви... то ли Гоги... то ли Гия... черт разберет... он был официант, в придорожном кафе... мотельчик такой уютненький... и меня как раз бросил один мужик... давняя моя, роковая страсть... муж ничего не знал... я таилась... подлец... не будем о нем... мне надо было забыться, напиться... и я напилась... я заказала черт-те что, все сразу: и саперави, и коньяк, и хванчкару... он, этот Гиви или, черт, Гоги, на меня как на сумасшедшую смотрит, только у виска пальцем не вертит... но, прикиньте, послушно все несет... на подносе, я даже поднос этот помню... такой черный, расписной, усыпанный яркими, как кровь, цветами... бутылки на стол составляет, сам рядом со мной за стол садится: вы, мол, девушка, это все что же, одна выпьете?.. а может, со мной?.. я вам помогу?.. не отказывайтесь от мужской помощи, она вам еще как пригодится!.. и уже сам разливает саперави по бокалам. Все верно, сначала сухое, потом полусладкое, а потом можно и коньячку... И вот пьем, и кафе вокруг нас гудит лютым подземным гулом, будто летят самолеты и вот-вот атомная война начнется, и огни кружатся вокруг моей бедной кудрявой головы, рыжие кудряшки дымом летят, Гиви этот глядит на меня, как на ведьму, а может, как на богиню, и закуривает, и закуриваю я, и мы нечаянно смахиваем пьяными локтями на пол посуду, пустые бокалы, полные вкусной еды тарелки, эх, сейчас бы сюда такую жратву, в тарелках-то и тонко порезанная красная рыбка лежала, и колбаска копченая, и вареный язык, и буженина, и листья салата, а вино лилось, как говорится, рекой, и коньяк лился рекой, а нас было только двое, и Гиви вдруг подмигнул мне: красавица, ты такая теплая, вах, слушай, я хочу ближе, ближе ощутить твое тепло! Я не помню, по какой лестнице мы поднимались. Помню только, что все вверх и вверх! И самое любовь не помню. Любовь, неужели это все, что творится в постели? И для этого людьми придумано лишь одно красивое, яркое слово?!
...утро. Поцелуй на прощанье. Протянул руку и вложил мне в руку вот это! Этот агат! Мертвый камень! А как живой! Я даже вздрогнула. Кулак раскрыла - а на ладони - он!
...мое сердце. Камень. Золотом светится. Под ребрами.
...а я сбежала по лестнице, едва одетая, машина, слава тебе Господи, стояла у крыльца, не угнали, я плюхнулась на сиденье, завела мотор, он еще долго прогревался, ночью ударил мороз, я дрожала, в тонких колготках, в высоких, до колен, телячьих сапогах, рыжая кошма нерасчесана, волосяной колтун красным дымом надо лбом стоит, тошнит, перепили, курили до рвоты, перепихивались до хрипоты, неужели все позади, и я живая, и у меня в руке агат, сунуть в сумку, неужели это я, я выжила, я не сдохла, Гиви, спасибо, ты настоящий друг, настоящий мужик, все тип-топ, машина, что ж ты не заводишься, наконец-то, поехали, а вдруг я врежусь, или врежутся в меня, да, я сегодня попаду в жуткую аварию, я это знаю, да начхать, с кем не бывает, да хоть до смерти, а зачем теперь жить, я живая лишь временно, все на свете кончается, кончусь и я, такая красивая, лохматая как ведьма, огнеглазая, эх, ненакрашенная, без макияжа нельзя на дорогу, нечем мужиков обвораживать, они серых мышей не любят, только ослепительных царевен, я всегда обвораживала этих вонючих козлов, этих хитрых волков красивой подкраской и ослепительной, снежной улыбкой, машина, катись, ласточка, я уже качусь, качусь колбаской, по Малой Спасской, мне плохо, мне хорошо, мне сладко, мне хреново, мне все равно! Все равно! Все...
...агат валялся в сумке.
Я проносила его с собой: в сумке, за пазухой, в спичечной коробке, в кобуре пистолета - всю жизнь: через войны, через миры.
Чахотка, это вам не комар чихнул. Думаете, вот я вам перед смертью своей рассказываю все свою подноготную? Исповедуюсь, вроде как? Или там жалуюсь? Да я ж не бью на жалость. Я ж не дура! Не тут-то было! Плакаться в жилетку не буду. Хотя, знаете, очень хочется поплакать! Ну, может, иногда и поплачу. Бессмертные тоже плачут! А вы как думали!
Я вот вам лучше сейчас расскажу, как я к Лельке однажды ночью заявилась. Ну до того меня разобрало! Прямо места себе не находила. Ну, у меня ж машина, села, завелась, поехала, хорошо, бензином впрок запаслась, к Лельке неблизкий конец ехать. Мчусь через ночной город. Огней мало. Ощущение, что ты блуждаешь среди трех тусклых звезд на краю Млечного Пути. Все молоко давно вылили! Или - выпили! Три капли тебе оставили. Мчусь, рот пересох, и правда пить хочу. Или - выпить. А кто ж из нас, живых, не хочет выпить! Да я за рулем. Однако на заднем сиденье у меня бутылка шампанского валяется. Подпрыгивает. Это я нарочно в машину бросила. Вдруг, думаю, мы с Лелькой помиримся! В очередной раз, ха-ха!
Лелька, слушай! Ты тоже тут, в комнате, я знаю! Ты невидима. Но волчица и должна быть невидима. Волчица потусторонняя. Шерсть на ней вздымается призрачная, жуткая. Ты вот думала всю жизнь: я - Волкова, и значит, я еще тот Волк! Нет, голубушка. Волк - это ты. И я - тебя - волчица ручная - простила! И даже погладила! Не против шерсти, а по шерсти! Потому что ты не волчица на самом-то деле, а серенькая мышь!
Ну да, будь хоть хищницей, хоть мышью, знаешь, Лелька, мне все равно. Потому что ты бездарность и серость, а я гений. Потому что никому на свете, на всей земле, твои стишата не нужны! А мои - люди пьют горстями! К сердцу прижимают! В ладанки зашивают, как образочки, и с собой носят! Крестятся на них, молятся! Умирают - с ними!
По шерсти, по шерсти тебя... вот так... так...
Поднимаюсь по лестнице, и сердце, верите ли, замирает. А ну как сейчас постучусь, и не откроет. Что, ломиться? Бессмысленно! Захочет человек и не отворит. Все же ночь на дворе. Полночь. Плохой час, понятно. Вот, скажет, безумка, приперлась. А то и пошлет куда подальше. Лелька, она такая. Она вовсе не тихоня. Крепкая она баба. А я - крепче!
Нажимаю на звонок. Нет звонка. Сломался? Стучу. Грохочу кулаком! Слышу шаги. Лелька это. К двери идет. Слышу, близко подходит. Дышит. И мышиным таким голоском вопрошает: "Кто-о-о-о?" И я верещу, и у меня голос куда-то падает, пропадает: "Лелька! Открой!"
Думала, не откроет. Открывает!
И я вхожу.
Ну что вам сказать? Вхожу и вхожу. Озираюсь. Бедная квартирешка у Лельки. Я у нее дома первый раз. Думала, она живет богато. Ведь муж художник. И известный, между прочим. Думала, у них его поганенькие картины задорого продаются! Ну, и обстановочка вся что надо! Ничего подобного. Хата дрянь. Чуть больше кладовки. Пианино старое, на нем фигурки всякие, статуэтки дрянные, турецкая лавка. Видать, памятные. Хранит. Старый сервант красного дерева. Зеркало старинное, в черной раме, до потолка. Красивое зеркалишко, антиквариат. Если старьевщику, в скупку снести, хорошо продаст. Всяко дороже, чем картины ее мужа, непонятные дурацкие иероглифы, никому не нужные. Стол старый, хоть и полированный. Не выбрасывают. На нем родители, видать, ели! Шторы замызганные. Ну совсем, совсем ничего модного и дорогого. Ощущение, что попал куда-то давно-давно, на выселки времени. Во времени - заблудился. Нищета голимая! Мне даже жалко их стало, Лельку и ее муженька, знаменитого Павла Еремина. Совсем обнищали! Мы-то по сравнению с ними - просто бояре царские, особняк трехэтажный, залы для приема гостей, спальни, сауна, сад, в саду бассейн, и еще пяток летних домишек у озера, я их на лето сдаю, люди отдыхают, мне денежку платят. А все потому, что я не дура, как Лелька, я не просто поэтесса, ну, в смысле, не только поэтесса. Поэты - нищеброды. Художники - голодранцы. Я же - художник Великих Продаж! И чего я только не продавала в жизни! И металл, и люстры, и дома, и косметику! Вот только картины не продавала, это да. А то бы я Лельке и ее тщедушному художнику - ой как помогла! Из грязи бы их вытащила! В князи...
Огляделась я, туфли сбрасываю, к столу босиком прохожу. И Лелька босая, в ночной рубахе, подол по полу волочится. Она мне сразу: пить, есть будешь? У меня есть. Не нужна мне твоя еда, говорю, давай лучше потолкуем! Она усмехается горько. Голову низко опускает. А о чем, говорит, нам толковать, все уже и так перетолковано. И все понятно. И нам с тобой, и всем вокруг. И голову, волосы растрепаны, поднимает. И пронзительно на меня смотрит. И губы ее разлепляются, и бросает она мне в лицо: зачем пришла?
Люди, меня как прорвало. Я поняла, зачем я к ней приехала. Такой разговор бывает раз в жизни! Да что там, раз в сто лет! И не со всеми, а только с нами! Меж нами двумя!
...приехала покаяться. Нет. Не просто покаяться. Показать тебе свою душу. Ты же души моей не знаешь. А судишь.
...я тебя не сужу. И даже люди тебя не судят. И даже Бог не судит. Ты сама себя судишь.
...Лелька! Да, если честно, да, я ненавижу тебя! Больше жизни! Я бы растоптала тебя, размазала в пыль, подошвой! Мокрое пятно бы от тебя оставила, как от гусеницы! От червя! И, знаешь, у меня есть возможность это сделать! У меня в друзьях влиятельные люди! Мощные очень! Я их всех подключу, и они тебя - вмиг уничтожат! Да я, видишь, не делаю этого. А почему? Да потому...
...ну, что замолчала?
...потому что я люблю тебя, Лелька!
...вранье. Наглое вранье. Такой ненависти, как от тебя, я не ловила ни руками, ни мыслями, ни сердцем ни от кого из живущих. Знаешь, от такой ненависти запросто можно даже умереть. Сдохнуть! Коньки отбросить! Ненависть, ведь это железное копье прямо в сердце. Оно, знаешь, плохо работает. Не тянет. Перебои... раз... и стукнет... и умолкнет. Копье ненависти бьет без промаха. Не устала ты его метать? А, Ветка?
... метать! Рвать и метать! Да, рвать и метать! А что мне еще остается делать! Ведь все, прикинь, все на меня пальцем показывают: вот идет эта воровка, глядите! Эта хитрая и наглая воровка Виолетта! Своровала стишки у Ольги Ереминой и радуется! Слямзила и переиначила, и за свои выдала! Да если бы только стишки, кричат, бормочут за моей спиной, она у нее - из стихов - воздух поперла! Волю! Музыку! Размах! Да, смотрите, Лелькин размах - в стихах Виолетты! Лелькины песни о том, о сем - в Веткиных стихах! Не отличишь! У Ереминой вспыхнет - у Волковой отзовется! Эхо, эхо... Надоело мне это! Я не твой соглядатай! Я не бегу за тобой вослед! По твоим пятам! Очень мне нужно это! Тьфу на тебя!
...нет. Бежишь.
...да... бегу...
...только не плюй в меня. Ведь я та вода, которую ты пьешь. Пьешь и все никак не напьешься.
...проклятье! Проклинаю тебя! Лелька! Провались!
И только я крикнула это: провались! - как посреди бедной Лелькиной комнаты образовалась черная ямина. Ну, знаете, как могила. И стол туда ушел, в ямину, и чашки-плошки, что стояли на столе. И корзина с яблоками осенними, они подгнивали и кисло, лимонно пахли. И кресло старое. И старый торшер. Я оглядывалась, я обезумела. Лелька! Где Лелька?! А где я сама?
И голос...
...я тут. Мы обе тут. Брось бояться. Мы обе во тьме. Не видим друг друга. Давай я лучше тебе почитаю свой новый стих. Раз уж мы тут вдвоем.
...давай. А что бы не послушать твой новый стих! Надеюсь, там не про меня?
...нет. Там - про зверя.
Она стала читать, и я, люди, я просто очумела.
Господи... умирают люди... но всего больнее, когда умирают поэты... я - поэтесса... чахотка... кашель... вы не слушайте кашель... вы послушайте... я сейчас вам - Лелькин тот стих - весь - целиком - прочитаю... это же не стих... это - убийство... она им - убила меня...
Ах ты зверь огнедышащей пастью не пугай меня больше не надо Я одна себе ярость и счастье я одна себе казнь и награда Ты мне скалишься ветер целует тебя в зубы и в серые уши Ты все выл и тоску ты ночную выдыхал в изумленные души Ах вы души вы души живые Вон он зверь вдоль забора крадется И косятся глаза золотые на ведро у седого колодца Ночи зимней конца нет и краю волк ступает по спящей деревне по снегам многозвездного Рая по душе моей птичьей и древней Я к нему на крыльцо сейчас выйду И рубаха ночная подолом заметет и озноб и обиду и отчаянье вставшее колом Ах не волк ты а оборотень хитрый и не гибнешь под знаменьем крестным и не воешь под звездною митрой под кадилом дымящим и грозным Я ночную служу литургию Нож в руке кровью пахнет причастье Все тобою убиты нагие из могил пусть восстанут для счастья Ты загрыз их ты кровью насытил жилы все в сатанинской обедне и и ко мне ты явился в обитель - к жертве нежной ночной и последней Только я не овца не козленок не заблею трусливо и жалко Только воин я воин с пеленок я солдат в битве жутко и жарко в битве жадно и жданно и ярко кол в руке в кулаке подойди-ка Эта смерть мне пребудет подарком ввиду Божьего звездного лика И во имя созвездий Господних синей ночью в дымах ледяною я убью волколака сегодня ближе оборотень Бог со мною
У нее был такой голос сдавленный, затравленный, когда она начала читать. Но по мере чтения голосишко ее силой наливался. Такой силой, что я испугалась! Стихи, ведь это такая загадочная материя. Все думают, это просто словечки и буквы друг к другу плотно пригнаны, без зазора, и искрятся, и переливаются, и мерцают, и вспыхивают, и ослепляют! Нет. Это не слова и буквы. Это что-то другое. Гораздо более страшное. Будто, знаете, взяли всю Вселенную, видимую и невидимую, и крепко в кулак зажали. И сейчас она как взорвется в твоем кулаке! И в щепки разнесет и тебя, и твое время, и твой мир, и иные миры. А ты крепко держи. Ты веруй. Ты молись. Примерно так: Господи, дай Ты мне силы мой мир в горсти удержать! И никому его не отдать! Никогда! И смерти самой!
Вот то, что человек до сих пор живет, хоть сам свой мир на мине подорвал, еще теплится на корке земли, как огарок поминальной свечи, это, может, из-за стихов. Ведь и молитва древняя - тоже стих. И я, когда пишу, я же не пишу, а пою! Я внутри себя - все до словечка пропеваю! Мои стихи - моя молитва! Я - ими - молюсь! Как любой поэт!
На самой высокой ноте она оборвала песню. Глаза расширила. Глядит на меня. Блин, как с иконы - глядит! У меня аж мороз по коже пошел. Она мне: я, мол, этот стих аккурат перед твоим приходом написала. Будто чуяла, что ты придешь. Я ей: да что ты говоришь, Леличка, какая же мне честь, я и не знала, что ты мне уже стихи посвящаешь. Польщена! Возгордилась! Как бы, ха-ха, от гордыни не сдохнуть! Она мне: нет, уж ты, мать, продержись, ты нам еще нужна. Так пикируемся.
И она мне, неистово так: ты! Волчица! Ты бежишь за мной по пятам! Я тебя - ненавижу!
А я смотрю в нее, как в зеркало. И я ей: брось! Это ты! Ты - волчица! И это ты бежишь за мной по пятам! Ты все время орешь, что я у тебя краду! Уже несмываемое на мне клеймо! Щелкаешь зубами все время! Все устали уже от этого твоего железного щелка! Всех измучила! Меня извела! Вопишь без конца, что я вор, а я же тебе на самом деле - мать! Сестра! Ну какая я воровка, Лелька, окстись! Ну, был грех, своровала когда-то, ну, пару раз, ну, тройку, неважно! Но ведь это все от любви! Нравилась ты мне очень! А ты, жестокая... Ну, увидела мой грех: да, я своровала. Да! Мой грех! Мой! И только мой! А все грехи, между прочим, прощают! Священник - грехи твои тебе отпускает! Епитрахиль на тебя наложит и шепчет, шепчет святые слова, успокаивает тебя, дрожащую: нет, нет уже на тебе греха, бедненькая моя, нет! Нет, слышишь! Был - и сплыл! Ну, схватила ты меня за руку! Меня! И только меня! Но зачем кричать-то об этом на весь свет? Знаю, знаю, что скажешь! Скажешь, что имени моего нигде не назвала! Да! Не назвала! А все и так обо всем догадались! И что?! Вот представь только! Что, мне хорошо от этого всего?! Радостно, счастливо?! Да я как на дыбе живу! Я - живу - на костре! На кресте я распята! И это ты распяла меня! А я тебя, Лелька, все равно люблю! Люблю! Да! Люблю! Ненавижу, да! Но люблю! И - прощаю!
Она лепечет потерянно: ты... меня... прощаешь? Неужели?
А я ей: да! Я тебя - прощаю! За тот ужас, за то страдание быть воровкой, в которое ты меня погрузила! Да, мой грех! И больше того я тебе скажу! Я тебя ненавижу, но люблю все больше! И из новых твоих стихов горстями твои чувства выхватываю, ими вдохновляюсь - и свое пишу! Мы как сиамские близнецы, Лелька, ну неужели ты этого не видишь! И знаешь, пройдет совсем немного времени, и ты, ты будешь питаться мной, как я питалась тобой все эти годы! Да, я волчица, я грызла твое мясо, пила твою кровь, вдыхала до дна твою душу! Ты - вдохновляла меня! Я - училась у тебя! Жить! Петь! Писать! Так что же, меня теперь за это - повесить? Распять?! К позорному столбу навеки пригвоздить?! Не выйдет, Лелька! Не выйдет!
А она мне, потерянно так, потрясенно: а как это я буду тобой... кормиться...
Очень просто, кричу я ей, так просто, что сил нет как просто! Мои стихи будут тебе миской, и из нее будешь хлебать! Будут тебе ложкой мои стихи, и будешь ими жрать свою нищую еду! Будешь ложку в рот совать и ее облизывать, и причмокивать, и вдруг вздрагивать: ага, это же я, я, Волкова, тебе в рот залезла! И твой язык, и глотка твоя, и твое дыханье - моим голосом споют! Ты сама не будешь знать, где кончается твое и где начинается мое. Не верь тем, кто говорит: двойников нет! Вот - есть! Я - твой двойник!
И тут она, люди, застыла, да просто как каменная сделалась, застыла и молчит.
И я молчу.
...прошибло меня сейчас. Пот пробил. Простите, оботру мокрый лоб, шею. Сейчас все сбылось. Наступило это время. Время двойников. И время всеобщей лжи. И всеобщих зеркал.
Мы-то думали, оно никогда не наступит. А вот долгались. Доотражались.
Доигрались!
Все поменялось местами. Иллюзия и подлинность меняются местами. Мерцают, переходят друг в друга. Вспыхивают за спиной друг у друга. Это как в поэзии. Думаешь об одном, пишешь другое, а говоришь, поешь - третье. Все отражает всех! Все отражают все! Двойники уходят в дурную бесконечность. Одно не отличишь от другого. Стихи ко мне приходят в виде призрака. Вот стих. Это не стих, а ужас мой. Стоит у двери, белесый, колышется туманом, разделяется на нити, волокна. Не собрать в единую пряжу. Я пытаюсь их, эти метельные водоросли, сначала словами записать. Не могу. Потом пытаюсь пробормотать. Не могу! Потом... пытаюсь ими помолиться...
А кто такой Бог, спрашиваю я себя. Кто такой Бог? И где Он?
И Лелька ведь так же. Я знаю. Она тоже не может. Если бы она могла - могла бы и я. Нас не разорвать. Не расцепить. Вот, знаете, есть любовь. А есть, что крепче любви. И мучительнее. Это наш случай. Хотя я изо всех сил, когда в мире начались эти страшные войны, одна, потом другая, старалась на нее плевать. Плевать на эти воспоминания! Все это было в другой жизни. Было и прошло.
Как все стало таким... страшным и пустым? Сначала страны врали друг другу. Перевирали события. Пускали в Сеть обманных змей, и змеи жалили людей в уязвимые места. Сначала в голову. Потом в сердце. Сердца каменели. И становились кривыми зеркалами. И отражали мир, криво, издевательски искажая его!
Люди переставали лечить, кормить и учить, бросали возделывать землю, и зло стало царить над миром, ненависть отражала ненависть, месть отражала месть. Месть становилась бесконечной и умножалась. В глубине ужасными глубоководными рыбами, скаля дикие зубы, ходили, плыли и замирали глубинные обманы. И было уже не докопаться, ложь перед тобой или правда из правд. Нечем было проверить! Лакмус украли и сожгли! Вместо алмазов сверкали стразы. Люди носили искусственную кожу и ели искусственное мясо и поддельную икру! Их сначала выворачивало наизнанку, потом привыкли. А потом, когда лжи накопилось столько, что мир перестал ее вмещать, случилось Первое Великое Сражение. Так начались наши мучения. Так старый мир закончился. И начался новый мир. Проклятье ему! Я не хотела в нем жить! Да вот живу. Слава Богу, что каждый человек умирает. Но, Господи, как я хочу жить! Именно сейчас! До ужаса, до боли - хочу!
А что? Вы ведь тоже перевертыши! Слушайте, перевертыши, правду о себе!
Революция - перевертыш: вы ее устраиваете, а она кривым зеркалом отражает старый мир, что вы так жаждете разрушить, потому что вранье все, что мы-наш-мы-новый-мир-построим, а образца-то нет, кроме старого образца, вот на него революционеры и глядят, и с него - свой новый мир - строят и рисуют. И он все такой же подлый и пошлый. Все так же в нем, в этом новом мире, бесчинствует власть, все так же люди врут друг другу, все так же ненавидят и убивают друг друга. И в чем смысл великой революции? А?! Не слышу!
Война - оборотень. Начинают - думают: завоюем новые земли! Для нас, нашей великой родины! Поднимается ответная рать. Защитим! Не отдадим! Ни пяди! И потом защитники переходят в наступление. Атакуют! И уже они - захватчики! Где же правда? Да, отомстить врагу! Вот правда! А враг валится тебе в ноги, плачет, размазывает по щекам слезы и кровь, опять слезы и кровь. Помоги! Пощади! Не убей! А у тебя клокочет в груди: убей! убей! убей! А как же твоя Священная Книга? Ну да, та самая, сотканная из лучших на свете стихов?! Там черным по белому, а может, кровью на песке: НЕ УБИЙ!
И сама в себя глядится война. В свое черное зеркало. Глядит на себя солдат в каске. Перед смертью. Сейчас ему в бой! И он пойдет в атаку! И погибнет! Он - герой. Так думает его армия. Его народ. А противник думает: дрянь, сволочь! Сколько наших людей он убил! Так отомстим же! Не забудем! Не простим!
А что, люди? Ведь так все в жизни! Все имеет слепого, глухого и кривого двойника. Ой нет, вру, еще какого зрячего! И хитрого, и умного! Такого, что везде, через все двери и засовы, проникнет. И тебя - собой - отразит! И попробуй отвертеться, кричать, что нет, это не ты! Ты, еще какой ты! Просто такой ты, что уже это - я.
За любым существом, что живет в мире и идет по миру, то медленно бредет то сломя голову бежит, по пятам движется его волчий двойник. Это - закон.
Вот я иду за Лелькой. Иду. След в след. Так осторожно иду! Она меня не видит. И потом вдруг - хлоп! - видит. Потому что обернулась не вовремя! Я - спрятаться не успела! И что? Надо быстро поменяться местами. А чтобы никто не понял, что ты - волк! А она - человек! Надо быстро ее сделать волком. Пусть побудет в моей шкуре!
И я поворачиваюсь. И иду прочь. И она видит мою спину. И волей-неволей идет за мной!
Так, все перевернулось! Зеркалом обернулось! Ха! Вкуси мою боль! Испытай мой ужас! Ощути мою ненависть и пожелай мне отомстить! И ты быстренько станешь - мной! Ха, ха! Как просто! Как же просто в этом мире, Лелька! А ты, дура, не понимаешь!
...она уже не сидела, а лежала у меня под ногами, вместо дощатого настила у меня под ногами лежала земля, и я поняла, это Лелька стала землей, моей землей, моей силой, и сейчас, вот сейчас я встану и пойду по ней, и буду топтать ее, и буду плевать на нее, и буду поливать ее - водой, мочой, лимфой, кровью, дождями, слезами, я буду только человечица на ней, а она, она пребудет землей, неубиваемой, неумолкаемой, прощальной силой моей.
...я снова стала видеть.
Бедную комнату, угол подушки, светящийся нищей кромешной ночью квадрат окна.
Она сидела перед мной, и на ее губах еще горел этот стих. Эти ее слова еще жгли ей рот. Она его чуть приоткрыла. Голос умер. Она сидела тихо. Во мне звучали ее слова, будто я их сама написала.
И я тихо сказала: Лелька, спасибо тебе за этот стих.
А она мне: почему спасибо?
А я ей: знаешь, я его как будто сама написала. И сама прочитала.
И тут, люди, знаете, на меня что-то нашло. Ну, наверное, осенило. Это вдохновенье. Или сильный вихрь, он меня смял и закрутил! И понес! И я вдохнула глубоко - и заговорила, заорала, запела, заблажила будь здоров, не хуже той Лелькиной Блаженной, из ее старой книжки! Не остановить! Мной выдыхал мир. Мир умирал. А я все еще пыталась его спасти. И заодно спасти и себя, и Лельку, и всех своих родных и близких, и дальних, не знаю имена, и реки и моря, и пустыни, и сырую эту, влажную почву, на которой все растет, все сегодня еще растет, а завтра засохнет, завтра будет пепел, он все покроет, и явь и сон, и важно спеть мне самой - про Оборотня: чтобы Лелька, подруга, да, подлюга, в зеркало на себя посмотрела, и чтобы весь мир, подлец, в меня, в зеркало, поглядел на себя.
Я сама стала зеркалом. И это я отражала морду Великого Волка, а не она.
Я!
Это я поборола тебя загрызла это я над тобой подняла свое знамя это я достойна славы и жизни и войны что грянула между нами да я сама ту войну развязала ну и что кто-то должен развязывать войны и воевала и мне все было мало а от бегущей летящей крови я становилась только спокойней и постепенно день ото дня да уже и недолго капля по капле минута за минутой я из человека превращалась в волка вспыхивала в ночи клыками-салютом вспыхивала во тьме желтыми глазами яркими хищными свинцом раскаленным горела во мраке лезвиями-когтями каждой шерстиной ненавистью пропыленной стала я зверем не человеком а люди думали красивая баба я перед зеркалом подкрашивала веки а в зеркале отражалась звериная лапа я улыбалась а глаза горели я смеялась а зубы пылали я металась зверем в жаркой постели в слепой метели в снеговом одеяле я тебя настигла и повалила лапой наземь - жалкую дрожащую тетку и ты взмолилась: немного хотя бы дай мне пожить безвинной и кроткой а я скалилась ведь нету пощады а я хохотала рычала по-зверьи и острыми зубами до любви до надсада раскроила сердца твоего двери ребра ужаса твоего вспорола глотку молитвы твоей перегрызла и кровь твою пила у зимнего престола на краю твоей конченой жизни
...мы сидели, погруженные во тьму. До времени. До пространства.
Медленно из тьмы стали выплывать Лелькины черты. Лицо. Профиль, он прозрачно таял и дрожал. Пальцы: она подносила руку к губам.
Вспыхивали и гасли. Человек, он свет во тьме. Трудно побороть тьму. И человек погорит немного и погаснет. Так все... просто...
Эй, Лелька, шепнула я, мне внезапно стало стыдно, ну что я так на нее набросилась, думаю, надо бы помягче с ней, поделикатнее! А я-то, разоралась! Вот я так всегда. Разорусь, раскудахтаюсь, а потом - прощенья прошу. Эй! Лелька! Что притихла! Пришипилась... сидишь тут! Молчишь!
Я подняла глаза, глаза мои стали обхватывать Лельку, светящуюся во тьме, она то вспыхивала, то гасла, странно так мерцала, свеча не свеча, какой-то кусок золота в угольной топке. И пламя опять занимается. Злато, пламя, боль, ужас - все перемешалось! И я стою на краю безумной топки, как на краю света. И вижу, как мой свет горит. Сгорает! Мой мир!
И будто не Лелькин голос, а чей-то другой, глухой, ухает как в бубен, надо мной гремит с небес: ты, жалкая, слабая, ты что о себе возомнила? Ты понимаешь, что есть прощенье? Прощанье? Навек?! Понимание! Любовь! Объятие! Чистые слезы! Что зависти никакой нет, сгорает она в топке, дотла, а есть только чистое, честное, общее пламя! Общая - смерть! Общая - жизнь! И земная, и вечная! А если ты смеешься над вечной жизнью, жаль мне тебя!
Кто ты, чтобы тут так гудеть надо мной, бормочу, кто со мной говорит?
И ответа не надо. Я и так знаю.
И я кричу: Лелька! Ты слышишь меня! Лель! Ну хватит! Давай обнимемся! Ну, слушай, кончай воображать! И ты человек, и я человек! Слушай, ты слышишь, прости! Прости меня! Прости! В последний раз! Слушай, это честно, это настоящее прощение будет! Другого не будет! Потому что другого мира не будет!
Хватит! Мы ведь только здесь живем! И только сейчас! Здесь и сейчас!
Не будет другой жизни! Другого времени! А только это! Вот это!
И ее лицо мотается передо мной во тьме. Плывет, такой, знаете, золотой голубь в черноте, золотая грудка, крыльями взмахивает, хочет улететь, а тьма наваливается, и золото опять гаснет. Гибнет! И слышу Лелькин слабый голос: Ветка, Ветка, Бог есть, Он все равно есть, над Ним смеются, а Он есть, Его растоптали, а Он есть, и прощение настоящее есть, и все Божие с Богом есть, у Него за пазухой, и мы все у Него за пазухой, хотим мы этого или не хотим, и будь что будет, нас ждет страшное, если мы будем все так же ненавидеть друг друга, если будем только притворяться любящими, прикрывать свою ненависть сладкой маской любви, сладенькой улыбочкой, накрашенным ртом, а за этой умильной маской будет морда волка скалиться! А я ей кричу: Лелька, Лелька, а если все наоборот?! если за маской волка - за серой, дикой, шерстяной, с зубищами оскаленными - лицо, жалкое, плачущее?! Если это - мое лицо?! Мое! Лелька! Мое! Настоящее! Живое! И я только волком притворяюсь! Чтобы самой сильной стать! Чтобы перед собой - мощной выглядеть, могучей! Чтобы врага - загрызть! Да! Тебя! Тебе - отомстить! Ну вот я мстила, мстила и отомстила! Я местью этой - себя всю наизнанку вывернула! Перед людьми и перед Богом! Ты же теперь не мой враг! Я все в себе поборола! Я теперь - в Боге! С Богом! Кроме Бога, нет ведь ничего! Да, да, да, я знаю! Спасибо, что напомнила! И да, кроме любви, ничего и нет!
Любовь! Любовь! Любовь! Где ты!
Тьма ползла прочь и опять налезала. Я видела во мраке светящуюся Лелькину скуластую щеку. Один, большой, чуть косо стоящий, как у коровы, ее глаз, и глядел темно и блестяще, и не мигал. Как неживой. Как самоцветный, в мрамор вставленный. Будто Лелька уже памятник, а я пришла тому памятнику поклониться. И цветы положить к подножью.
Я слышала ее голос.
Лучше бы я его не слышала!
...ты о Боге говоришь. Ты же пробалтываешь это слово, Бог. Это имя. Ты не знаешь, Кто это на самом деле. Не чувствуешь. Твой язык его выбалтывает, называет. Все мире зовется по имени, и Бог тоже. Что это? Кто Он? Ты просто бренчишь этим словом: Бог, Бог. Как и другими словами. Ты жонглируешь ими. У тебя получается ловко. Научилась. Но художник - не циркач. Он работает воистину.
...воистину! Воистину! Будто ты истину знаешь! Что?! Знаешь?! И мне хочешь втолковать?! И другим?!
...все люди о Боге знают. И о Нем говорят. А кто-то и правда в Него верит. И ты думаешь, что веришь. И что знаешь, Кто Он такой. За это знание надо заплатить полным незнанием. Полнейшим отчаянием. Темнотой. Богооставленностью. Когда ты целиком во тьме. И вдруг - свет. И ты идешь на свет вслепую. Дрожишь. Тянешь руки. Любишь. Плачешь. Теперь знаешь: вот Бог. А не так, орать на весь свет: Бог! Бог! Божье! Божественное! И я - божественная! И я - приобщена! И я, и я...
...а что, кричать нельзя?! А если я так устроена! Если себе под нос шептать - не могу! Я - кричалка, да!
...кричалка, вопилка, гуделка, свистелка...
...а ты, Лелька, ты тоже ведь все вопишь: художник! художник! Художник, это не ты! Это твой ледащий муж! Он меня ударил!
...не ври.
...ударил! И рука у него отсохла! А потом сгорела! И сам он сгорел! В пламени! Горстка пепла одна осталась!
...нет. Не верю. Он жив.
...а ты не художник! Ты - писарь! Писарь несчастный! Ты - не поэт!
...ты опять за свое, Волкова. Недолго же прощенье твое прожило на свете.
Недолго! Прощенье! Мое! Прожило! На свете!
И вот, люди, вот он, наш мир без Бога. Без единой Его крошки! Да, неверующие! Вы так хотели, чтобы - без Него. Получите! Все по-вашему!
Бога не стало - и мир стал держаться на Двойниках. На Оборотнях и Перевертышах. Ха, ха! Мои ребята!
Люди, простите. Это вы меня простите. Не Лелька, нет. Что ее о прощенье молить. Она хочет прощает меня, хочет нет, это ее личное дело. Мне уже ее прощенье не так-то и надобно.
Я все кричала раньше в стихах: я - бессмертна! я - бессмертна! Это ненависть бессмертна. И моя, и чужая. Всех - ненависть. Вот она точно бессмертна. Ничем ее не вытравить, не выжечь. Выжжешь, а на тебе клеймо, шрам, рубцы. Издали видать. Я - бессмертна? Моя ненависть меня переживет! Именно она, отлитая в стихи, меня переживет и тленья убежит! Ха! Ага!
А Лелька бормотала мне: ненависть умирает, едва родившись... ненависть долго не живет... все в мире, что создано ненавистью и во имя ненависти, погибает бесславно и быстро... едва вспыхнув... Вот как молола мне Лелька. Мели, Емеля, твоя неделя! Моя ненависть - это моя любовь и есть! Что?! Скажете, вру?! Да я, может, впервые в жизни - себе правду говорю!
И вам... и вам...
Эх, люди, люди, люди... а кто такой волк? Вы задумались хотя бы однажды, кто такой - волк, живой? Он воет, он рычит, а это музыка: вся музыка леса, стволов и трав, стлаников и наста, обледенелых звенящих ветвей и жгучих еловых игл. Волк, он же рояль, орган, он сто скрипок и виолончелей, он целый оркестр! Он воет и любит. Он воет и поет. Плачет тягучим, вселенским воем по своей застреленной возлюбленной, единственной волчице, Вечной Матери. Звучание волка - это гул и дрожь всей великой рожающей и кормящей природы. А мы убили нашу мать. Мы взорвали ее, расстреляли, раскромсали ножами и штыками на красные куски. Кто мы, люди? Люди мы или звери? А может, зверь - это лучший, высший человек?! Может, он сильнее и великодушнее всех нас, любого из нас? Грабили мы землю, грабили, скребли ногтями по ее живому плачущему лику, из царапин кровь слезно сочилась, леса огнем горели, деревья, птички, зверьки, цветы, ягоды, орехи, в безгласный пепел обращаясь, изо всех сил вопили на последнем казнящем костре! И волки - орали! Кричали, морды к небу подъяв: что ты, гаденыш человече, сотворил с нами! С нашей нежной землей!
Как же трудно нам любить! Как мы не умеем любить! Не учили! Каждый любит как умеет! Вот я! Я тоже люблю как умею! И ненавижу как умею! Каждый и предает как умеет! А я?! Я - что, тоже предаю?! О нет! Я чистенькая, светлая, безгрешная! Ой ли? Кто тебе это сказал, Ветка, ору я себе, кто, кто, кто?! Не ври себе, матушка! Перед собой-то будь честной! Разве можно на земле только любить? И навеки убить свою ненависть? Разве можно никогда не убивать? Не предавать? Не перегрызть беззащитную глотку?
Среди нас - Каин и Авель! А вон, вон Иуда идет в толпе! И сейчас он подойдет к Учителю и Другу своему и, кривя лживый рот, поцелует его. Почему мы охотимся? Охотник взбрасывает на плечи ружье, заталкивает за голенище нож и идет в тайгу. На волка! Сегодня он убьет его. Зачем? Из удовольствия? Из мести? За то, что волк вчера загрыз его овцу? А вдруг он убьет волчицу? Малютки-волчата запищат из-за куста. Давай и волчат тоже бей, смелый охотник, стреляй! Деток беззащитных! Говоришь, вырастут они и тебя загрызут, и стада твои будут резать острыми клыками?! Да! Вечное, великое противостояние! Так природа мстит человеку - за человека! Так человек мстит природе - за Бога, что кинул сиротою, оставил его! Вышвырнул из блаженного Рая!
Люди! Мы забыли первозданность! Первую музыку талого снега, соков и листьев, клекота и свиста, воя и стона, живой земли! Мы забыли, как это - на крыльях парить! Как - сопернику, в схватке за любимую волчицу либо важенку, кровь проливать! Забыли, как отрекаться, предавать, убивать, а после, распластавшись животом на теплой земле, плакать, плакать нескончаемо о погибшей жизни своей, плакать, как петь! Мы забыли наш древний язык, слова подземных и занебесных песен, что пели племена, роды, живые бесконечные венки, хороводные семьи! Люди, мы копили, все хищно копили и прятали оружие, а потом пустили его в ход, вот он нас всех и погубил, великий Оружейный Ход по несчастной, голой, насквозь обнаженной земле! И ствол винтовки наставлен опять на волка. Опять - на волчицу! На мать! Не успела она отомстить за смерть волчаток своих. Стоит под черной дырой, и сейчас огненная пуля вырвется и волчий череп в ослепительные брызги разнесет! Для мести, о природа святая, всегда есть время; и часто оно предельно малое. Доли секунды. Граница воя и тишины! Кто первым выстрелил в старый наш мир?! Кто нас убил?!
Славно ты на нас поохотился, безымянный герой! На нас... на всех...
Ты - выстрелил - в любовь!
Это значит, глупый ты, бедный охотник: себе - в сердце.
Себя ты убил. А ты и был - весь мир.
Убил себя - и волком стал. Бог обратил тебя в волка, чтобы ты сполна волчью жизнь вкусил. Хищную. Ночную. Тоскливую. Чтобы тоску свою нечеловечью, зверью, неисходную пил и пил, чтобы ею во тьме выл и выл, чтобы вновь и вновь резал безвинную скотину ножевыми зубами, чтобы ел, ел, все время ел красное, дымящееся мясо, рвал и терзал, ибо надо жить, ибо надо дальше во времени плыть, и плевать теперь на людей-овец, на людей-кур, на людей-коров и людей-быков, все убивают всех, кровью залиты сараи, овины, пустыри, поля, сухая стерня и в инее жнивье, надо есть, чтобы зачать, надо жрать, чтобы родить, жизнь все равно, хочешь ты или не хочешь, совершит мощный живой круг, а ты кто такой внутри кона, вечный охотник? Кто же ты, оборотень, теперь, кому ты нынче родня? Ты поешь, воешь для меня и про меня! Я - человек, кто же я тебе, волк мой седой? Это я, зверица, нежная твоя волчица, в снегу на лапы припав, всем небом широким вою и вою над тобой, сиротой, над твоею бедой! Человек человеку - волк! Волк волку - человек! Человек волку - алый шелк... волк человеку - дымящийся снег...
Господи, какая тоска... снегирь у виска... на ветке рябины качается - а смерть высока...
Утробою - выть... и лыжею - плыть... сердцем слепым и соленым - любить... лицом ослепленным... рыданьем и стоном... да только так - жить...
Любите волка, люди, эй! Почему вы его не любите? Почему в пасть ему всовываете палку, лапы туго-натуго связываете? Что он, бедняга зверь, красавец могучий, сделал тебе, человек? Этот, да, вот этот, ты же растил его в теплой избе, вырастил из малого, в тайге найденного волчонка, ты же помнишь, как ты глядел ему в желтые глаза, и он глядел в глаза тебе, глубоко глядел, любовно, правдиво! Верни себе эту убитую любовь! Верни - ему! Волк - это ты и есть! Ты любишь его?! Это ты себя любишь! Разломи себя, как хлеб, оттяпай от себя охотничьим ножом кровавый кусок плоти и накорми его! Несмышленого щенка! Сильного красивого, ловкого зверя! Твой дом, твое тепло - ему! Возьми его в дом, как берут сироту! Обними его, ведь он друг твой! Брат твой, кровник! Он тебе и волк и человек. Ты ему - и человек и волк! Корми его детей! Учи его человечьей любви!
А может... ты хочешь прямо в пасть?! В пасть волчицы... живой мести... Великой Зверьей Матери...
Человечек, сучонок, недоделанный криволапый волчонок, недопёсок, недоволк, недочеловек, недоБог, недо... кто еще?! ах ты... как назвать-то тебя, ума не приложу... дьяволенок ты недолепленный, блин мятый, комковатый... ком кровавой ваты... Зубастая пропасть - вот, перед тобой! Разверзлась! Валяй! Шагай в нее! Ну же! Что?! Замер?!
На ходу замерз... трус... заяц...
Жадный ты, жадюга ты, глаза твои завидущие, косишься на богатство, на товар, на рухлядь... на теплую, мощную шкуру волка, дружка твоего... шубу пошей из него, из родни... на куски раскромсай, раскрои... для чужой и подлой, покупной любви... мясо, шерсть, пух - чтобы выжить... а - чтобы жить?.. Что тебе, человечишка ты подленький, мерзкий, еще надобно для того, чтобы - жить?
Ах, говоришь, любовь тебе надобна? Ох, удивил! Любовь! А что ты на земле сделал, человек, чтобы за любовь свою побороться? Чтобы ее достигнуть, завоевать, взять ее и отдать ей - все: и себя, и весь мир у тебя за плечами?!
Любовь... драгоценный дареный агат... там, внутри камня, глаз... это глаз волка... глаз природы, тайги, неба... Я вот оттуда родом, из лесов моих густейших, волчьих, дремучих, могучих, а всю жизнь, до этих войн поганых, в каменных ступах больших городов прожила... А дети, дети мои... Я же тоже мать... Мать-волчица... сосцами кормила, языком ласкала... детушки, волчатушки... вся жизнь, продолженье горящее, настоящее... к счастью движенье... кто убьет?.. и когда?.. да может, никто и никогда, а только чудятся мне эти чертовы выстрелы... капканы эти, железные пасти, ржавые зубья, кровь на снегу, лапу отгрызу, а к детям и любимому уйду... вернусь!.. на свободу, в свободу...
Я - поэтка Волкова?! Люрекс, лабутены, парча, тафта?! Бросьте, люди, дураки! Я - дикая волчица, чащобная царица! Таежная мать! Небесная шкура, вселенская чернь, ледовое речное серебро! Сосцы мои - звезды! Когти - рыдальные капли с плакучих ветвей застылых берез! Я только мать! Меня нельзя убить! Я мать моим словам, моим волчатам, моим рябинам и логовам в сугробах, сухим ветвям, что хрустят под тяжелой лапой моей! Я - мать! Меня нельзя обидеть! Мне брюхо нельзя распороть! Нож в меня вонзишь, в густую шерсть, под железные ребра - а я бессмертна! Ты что, дурак охотник, не знал, что Мать - бессмертна?! Я и волчат своих выкормлю! И тебя выкормлю! Коль будешь голодать и выть от голода на мертвую луну! И с тобою вместе, рядом повою! Я тебя не оставлю! Хоть ты, зверь-человек, и оставил, и предал меня! Убиваешь?! Мать - не убьешь! Она, живая, с горящими глазами, к тебе в ночи придет, ступая точнехонько, палец в палец, коготь в коготь, в свой старый, по снегу, след! И в дом войдет! И ляжет, зверица, около нищей кровати твоей! И запоет! Всею тундрой Колы! Всеми лесами Беломорья! Всеми угорами Урала! Всем утонувшим, канувшим в небо Беловодьем, Белухой и Телецким зрячим озером, сапфирным Байкалом и прозрачно-призрачным Иссык-Кулем! Мать я, волчица, воющая нутром, утробой, хриплой нежной глоткой, вся наша мать-земля, и плыву во снегах, и тону в бездне! А времени, слышишь, несчастный охотник, нет, есть только жаркая зверья кровь, струится, ярится, в жилы бешено толкается, отбивает такты поющей, всесущей жизни!
А теперь, люди, я умираю. Чахотка есть чахотка! От нее не убежишь! Мы все не убежали от войны, сначала от одной, потом от другой, так разве убежишь от собственной смерти? Эх, постоять бы на краю собственной могилы! И самой туда горсть земли бросить. Свой собственный двойник - у своей могилки - стоит! И землицу в яму швыряет! Фантастика! Или - чепуха! Я умираю. Вот это не чепуха. Это правда. Пожалейте меня, люди, если есть еще кому жалеть. И я вам спасибо скажу. Посмертное, ха-ха, в стихах!
Еще есть время написать последний стих. Как это у Лельки-то в стишке одном: пропой же мне последний стих, пропойца с пламенем седых волос, - что плачешь ты, затих? До дна ты выпил бытиё? Блин, как у нее там дальше: блаженны нищие духом, ибо их… Блаженны плачущие, ибо их… Последний Дух, и вдох, и дых: приидет Царствие Твое.
Ха, ха! Царствие!
Царствие... Божие...
Стук в дверь. Кого черт несет? Войдите! Я теперь никого не боюсь. Может, ты врач, да сейчас врачей нет. Все умерли. Может, ты могильщик! Да могильщиков тоже нет. Может, грабитель! Добро пожаловать! Нечего взять у меня. Ничем не поживишься. Давай, валяй, входи! Переступи порог! Господи! Кто это!
Лелька!
Легка на помине... да нет, я сплю...
Я думала, ты уже никогда не придешь! Разве приходят в дом, где тебя пытали! Убивали!
Ну давай, проходи. Полюбуйся на меня, умирающую! Садись. Скидывай пальто свое. Господи, Лелька, какая ты стала старуха! Рожа вся как кора столетнего дуба. Ужас! Посмотреть уж не на что! Да я сама такая. Старуха, да, не молодуха, но если подкрасить меня как следует, здесь и здесь, и тени наложить, и румяна, и помаду яркую, подмигну себе в зеркале, и я опять хоть куда! А куда? На погост? Теперь и погостов нет. Куда нас денут-то, Лелька, когда мы протянем ноги? Задумывалась? А? Нет? Вот и я не знаю. Куда-нибудь да денут!
На пустыре - сожгут!
А может, третья война грянет, и в пламени лютом, мертвые дрова, сами сгорим.
Села, сидишь. Что так смотришь? Не нравлюсь? Ты всегда меня ненавидела. Уж я-то знаю! Притворялась такой дурочкой вселюбящей! На самом деле ты ушлая и дошлая, и умная, разумная. И стишки у тебя умные, уж такие умненькие, спасу нет. Все говорили: умнее моих! А Пушкин сказал: поэзия должна быть глуповата! Да! Правду сказал! Ну, что ты-то мне скажешь хорошего? Явилась полюбоваться, как я буду концы отдавать? Гляди! Не жалко!
Всеобщая любимица! А меня тоже любили. Да! Тоже любили! Еще больше тебя! У меня такие поклонники были, тебе такие и не снились! Цветами меня заваливали!
Ах, исповедаться мне хочешь. Ну, послушаю твою исповедь! Исповедь, ха, дочери века! Век сдох, а дочки его живы. Последние поэтессы, мать их за ногу! Прости, ругаюсь, но я же простецкая девчонка! Буфетчица! Волчица! А ты, мать, блестящая аристократка, белая кость, голубая кровь. Что? Тоже простая? Не верю! Вся такая изысканная! Недаром на тебе художник женился! А я просто крашеная кукла! Да! Губки сердечком! Румянец красными колесами - на тряпичных щеках! Шерстяные букли надо лбом! И всю жизнь я была куклой! Чьи-то руки меня мяли, вертели! Щипали... потрошили... потом высушивали... набивали ватой... заливали слезами...
Ну давай, давай! ори, кричи! Выкричись вся, до дна, до пепла! Выкрикивай мне в лицо все, что у тебя наболело! Облегчи душу! Вывернись наизнанку! Спусти отчаяние с поводка! Отчаянье, это тоже волк! Он бежит и скалится, и с зубов у него капает отравленная слюна! Отчаяние хочет жрать! Оно хочет сожрать чужую боль, чужую любовь, чужую правду! Правда одна?! Ах-ха-ха, какая пошлая легенда! Правда у всех разная! Так и знай!
Выплюнь свою боль! Плюнь и разотри! Легче тебе? Легче?
А уж мне-то как легко! Праздник! Я вижу твою боль, Лелька! Твоя боль - это мое наслажденье! Моя победа! Все! Доплыла! Дожила! До твоего унижения и до своего торжества!
Кричишь? Вопи! Я только утрусь! И в подол высморкаюсь! Как после рюмки горькой водки! И крякну, как мужик! И еще налью! Чем громче ты вопишь - тем больше я наслаждаюсь! Причинить боль тебе - это была моя главная задача в жизни! Я только сама от себя ее прятала. Сама себе в ней не признавалась. Но сейчас, сейчас-то все обнажено! Перед смертью! Я все вижу, да и ты видишь все! Всю толщу времен сердцами, как глазами, пронзаем!
Говоришь, ты пыталась до меня достучаться? До меня, до этакой злюки, я ведь гадила тебе на каждом шагу? По-человечески достучаться, по-божески? Ха, ха! Да разве можно достучаться до Оборотня! Кулаки в кровь разобьешь! Зубки жемчужные обломаешь!
В какой-то, черт, старинной святой книжке, помню, прочитала: несчастен тот, кто рождает и питает сосцами в такие дни. Зачем пришла? Для своего торжества? Для покаяния? Для примирения? Или чтобы дать последний, настоящий поцелуй мне, Оборотню, чтобы с меня слезла шкура ненависти? Чтобы мы, две старухи, обнялись и заплакали друг над дружкой? Скоси глаза: из-под чахлого моего, скрипучего дивана торчит мертвая зверья морда! Волчья голова! Ха! Мое любимое чучело! И мертвый желтый волчий глаз вонзается в тебя!
Кричишь, я тебе завидовала? Да это ты мне завидовала!
Вопишь, что ты меня простила? Да это я, я тебя простила!
А может, еще не простила! Я еще не решила!
Уж больно гадкая ты! Бабой притворяешься! Ангелицей! Стихоплеткой! А сама-то тоже ведь волчица! Дьяволица!
Да еще какая!
О чем ты? Ах, война между Лемурией и Гондваной? А где это Гондвана? Я же не знаю. Я же блондинка, такая тупая-тупая, такая женщина-женщина! Когда-то русенькой была, потом рыженькой, потом золотенькой, потом стала серебряной, потом латунной, потом серой паклей, спутанным париком. Кошмой свалявшейся! Ха! А мне и горя нет!
Я не знаю, ей-богу, ничего про эту Гондвану. Война так война! Разве нас сейчас удивишь войной! Ну, быстрее помрем, только и всего. Ты что это на табурет села? Ты, мать, садись на кровать. Поближе ко мне! Чтобы я тебя телом чувствовала. Твою теплую ногу. Бедро. Ах-ха-ха, теплую! Колченогая старушня! Еле ковыляешь! Воровка! Украла у меня внучонка любимого, и еще зырит так нагло! Тьфу! Уйди! Пошла вон!
Сидишь... Не уходишь... Ну, сиди. Рот для исповеди разинула! А я все знаю, что мне скажешь. Будешь сейчас вспоминать все свое, опять мою эту стародавнюю кражу твоих несчастных стишков на свет вытащишь, будешь ею трясти, махать, нафталин с нее стряхивать, пыль сдувать. Уж надоела ты с ней, с этой кражей моей! Прожужжала ты ею уши всему белому свету! Все уж устали от меня, заклятой воровки, преступницы, каторжницы, мошенницы, измучились! Стряхнуть меня хотят с себя, как муху! И тебя заодно!
А у меня, между прочим, есть душа. И сердце есть, ха! Я тебе об этом сколько раз твердила! И в стихах... и в письмах... и по телефону... и наяву! Всегда! Я так хотела, чтобы ты, Лелька поганая, услышала, что у меня - тоже - есть - сердце! Да еще какое! Попросторней твоего будет! Пошире! Побогаче! Это сердце - много страдало! Себя - выстрадало! Свою единственную, неповторимую музыку! Да, я за нее, за музыку мою, за песню, дорого заплатила! Всеми на свете кражами! Всеми судами! Всеми приговорами! Всеми, мать, казнями! Я тебя казнила, говоришь, своими злыми стихами?! Так это же моя живая боль, Лелька! Боль моя! А боль - это любовь! Боль - это жизнь! Счастлив тот, у кого болит! У кого ничего не болит, тот мертвец!
Я боль такую в себе не могла удержать - и вываливала ее из себя, и людям в рожи бросала, и тебе в рожу швыряла! А чтобы поняли, почувствовали мою боль! Чтобы моей кровью - с ног до головы улились! Чтобы моим стоном - стонали!
А ты даже и не понимала, никогда не понимала, дура, что я-то стихи воровала - как праздновала! Как вино на дне рожденья пила! Хороший коньяк! Втихаря налью и в тени чужих тел и душ, за чужими спинами рюмаху хлопну! Кражей я себя взбадривала! Это мне было как допинг, как укол! Ну, настоящий наркотик! Да, я наркоманка! Я упивалась чужими чувствами, и меня трясло, ломало без них! Я прямо оживала, когда копалась в чужих стихах, в чужих жизнях и сердцах, и переживала чужие жизни как свои, и пила их, ела, и от страсти дрожала, становясь ими, чужими душами, и вот я жила, и вот моя кража становилась моим счастьем, и так, только так я могла жить! Ты не понимаешь этого! Жить! Чужая жизнь была для меня - плодоносное вдохновенье! Черноземная, вкусная почва для меня самой! Чтобы я росла и цвела! Чтобы меня - читали! Слушали! Восхищались! И любили!
Чужая любовь, да, я жаждала чужой любви! Сотен, тысяч, миллионов чужих любовей! Поклонников, зрителей, слушателей! Чтобы битком набитые залы катили тысячи своих бедовых голов, стреляли горячими, горящими глазами в меня! В одну меня! Тянули ко мне руки! Буйно рукоплескали! Мне! Только мне! А не тебе!
На чужой любви - на чужой жизни - мои золотые, Райские яблоки росли!
Ты - воешь, а я - пою! Ты - бормочешь, а я - взываю! Ты - тлеешь, а я - горю! На весь мир! На всю Вселенную! Ты - бледная поганка! А я - ослепительная звезда! Звезда! Зве...
...твой двойник, говоришь... Твой - преследователь... Чушь... Это ты - мой двойник...
А! Я догадалась! Двойник, о, как это верно! Да! Только так! Нас - двое! Я правильно сделала, что я у тебя кучу стихов утянула! Потому что нас в веках - с тобой, дура, рядом поставят! А, ха-ха! Я тебя переиграла! Обыграла! Ты - мой двойник! Я - твой двойник! Я - твой оборотень?! Ты - мой оборотень! Ага! Что примолкла?! Что глазенками старыми подо лбом вращаешь?! Выкусила! Это правда! Нас теперь не отличат, кто есть кто! И это ты моя воровка, а не я - твоя! Поди теперь докажи!
Говоришь, что ты - неповторима? Что ты - одна такая? Что мне тебя никогда не догнать? Дрянь! Я давно тебя догнала и обогнала! Перегнала! Догнать и перегнать! Это мой девиз! И еще - завладеть!
Да, я хочу владеть. Хочу - царить! Не удалось жизнью завладеть и славой, среди этих грязных человечьих войн, так хоть смертью завладею. И там, по смерти, все встанет на свои места! Пусть сейчас, на дне железного котла, мы никому не нужны! Земля оживет. Возродится! И возродится память о нас. О двух тетках на рынке, что друг другу в волосья вцепились?! Не-е-е-ет! О двух близнецах! О двух сестрах! Одна - гений, другая - ее загробная тень! А-а-а, ха-ха-ха! Вот и гадай теперь, кто тень!
Что? Что лепечешь себе под нос? Спрашиваешь меня, зачем я тебе всю жизнь мстила? Да! Мстила! И на пороге могилы, вот сейчас, буду мстить!
Я мстила тебе за то, что не могла сама. За то, что я тебе позорно, стыдно завидовала. За то, что ты меня, оборотня, однажды схватила за руку. Я мстила тебе за то, что я тебя - возненавидела! Я ни на кого в жизни, дура, так не злилась, как на тебя!
Ты - мой великий враг! Окровавленный стяг! Враг на всю землю, на все небеса!
Ты больнее, чем друг! Ты петли моей круг! Разметала огня волоса!
Ненависть и месть - родные сестры. И мы с тобой, ха, родные сестры! Во Христе?! Во поэзии?! Вранье! В военном, волчьем логове! Мир потонул в войне. А какая война-то? А никакая не кровавая, не мины и снаряды! Война ненависти с любовью. Отмщения - с прощением! Вот как все просто! Проще некуда!
Это нас и погубило. Ненависть! Месть!
Они оказались коварнее, чем все на свете гибельные бомбы!
Каин убил Авеля. Сальери убил Моцарта. Иуда убил Христа. Я убила тебя?! Врешь! Это ты убила меня! Чем?! Ах, еще спрашиваешь, чем?! Любовью своею! Прощением своим!
Я же, вспомни, сто раз просила у тебя прощенья! И сто раз ты меня прощала! Меня, твою убийцу, ненавистницу, воровку! Прощала меня и улыбалась мне! Я бы эту улыбку твою - у тебя с благородного твоего лица - со старой, морщинистой рожи твой - грязной тряпкой навек стерла!
Жертва, говоришь? Да ты всю жизнь играла в жертву! Ты на всех перекрестках кричала, что я тебя обворовала! А я ведь тебе не воровка никакая! Я тебе - сестра! Я тебе - мать! Я тебе - подпруга, подмога, подпорка старой, дрожащей руке твоей! Вот же я, рядом! Только руку протяни!
Ну?! Что ж не тянешь?!
Жертва... и палач... Хочешь сказать, да, что я твой палач... Палачиха... Еще одна мне пожизненная пытка... Ты, блудь, как язык твой кривой во рту у тебя поворачивается... Палачиха?! А ты - жертва? Ах, миленькая маленькая жертвочка, безвинная овечка! Да лучше я буду и останусь волком, красивым сильным зверем, с подъятой на загривке шерстью, с горящими безумным золотом в снежной ночи глазами! Останусь зверем в его священном безумьи! Останусь силой! Ловкостью! Страстью! Хитростью! Великолепием! Хитрить и царить тоже ведь надо уметь! Я - царю! Владею! И всем сущим, и тобой! Да, тобой, маленькая беспомощная жертвочка, нищая церковная мышка! Раздавлю тебя сильной, когтистой лапой своей!
И так буду гордо стоять, попирать тебя царственной волчьей лапой, а ты будешь под когтями моими пищать... верещать...
Почему я на тебя нападала? После того, как ты мою воровскую тайну открыла? Да потому, что мне стало тяжко, плохо! Гадко мне стало, горько, слезно! И я - тебя - атаковала! Чтобы утешиться! Мне даже не победа над тобой нужна была, нет! Мне нужно было - само сражение с тобой! Сама эта война! И я сама ее развязала!
Я была возмущена тобой: как ты посмела! Меня - в воровстве - уличить! Да я же чиста как стеклышко! Это ты, ты воровка! Я гневалась: как ты могла быть такой красивой и блестящей, что я на твои бирюльки - вдруг повелась! Я впадала в буйство, Лелька. Да! В самое настоящее буйство! Ты меня обидела - так я ж причиню тебе боль! Такую невыносимую, нестерпимую! Выдержать нельзя!
И я искала способы причинить тебе эту боль. И - находила!
И, когда я узнавала о том, что ты невыносимо, зверски страдаешь, такая радость охватывала меня! Я знала о твоем страдании, и у меня повышалось настроение. Знаешь, у меня повышался даже аппетит! Я готовила себе на кухне, в своем богатом особняке, самые вкусные блюда! Я наливала себе африканского пахучего кофе из золоченого носика старинного кофейника, а потом подливала в чашку сливки, а потом пила, жмурясь, как кот! Праздник себе устраивала, роскошное застолье! Из бокала - сладкого вина отпивала! А потом садилась за стол и строчила стихи. Они текли из меня, извергались, валились как из рога изобилия! Я гордилась: вот, я, Виолетта, гений, подключена напрямую к могучему вселенскому огню, а ты свои гаденькие стишонки из себя выпариваешь, как пот в бане!
И знаешь... вдруг мне становилось плохо... опять плохо... злоба из стихов переливалась в мое тело, и тело, как зуб, ныло от злобы.
Я должна была видеть твои страдания воочию, чтобы ими наслаждаться.
И я ходила за тобой по улицам. Шла по пятам. Подстерегала тебя в магазинах, на рынках, на набережных, на трамвайных остановках, на вокзалах и станциях метро. Я шла за тобой след в след. И мне от этого было опять горько. Опять гадко. Опять гневно! Опять грозно! Я боялась: вдруг ты обернешься и увидишь меня!
И ты оборачивалась и видела меня.
И ты трясущейся рукой рисовала на роже своей губной помадой идиотскую, уродскую красную улыбку до ушей - алый смех - и громко смеялась мне в лицо.
И я не могла засмеяться в ответ!
А ты и не подозревала, дура, что я на тебя нападала, чтобы защититься! От тебя! От мира! Мир-то, он, знаешь, какой жестокий! Сгрызет все твои косточки и не охнет! Мир, он хуже всех волков! Печаль твоя?! Через миг она станет гневом. Гнев твой рвет воздух вокруг? Ах-ха! Да через мгновенье он растает и превратится в жалкую, грязную лужу у тебя под ногами! А бывает, Леличка, гнев рождает гнев! Размножается! О, это самое страшное. Так рождаются войны. Слово за слово. Ругань за ругань. Взрыв... за взрывом... и покатилось...
Да, я в бешенстве сжимала кулаки, я клялась себе: отомщу! Сотру Лельку в порошок! Изничтожу! Какая у меня была жуткая жажда тебя ударить наотмашь! Убить! Я ночами пробиралась на кухню, вытаскивала из ящика кухонного стола нож, щупала его лезвие. Тесак! Хорошо в телеса войдет, быстро! Под ребра! Я однажды попросила мужа: купи лицензию и купи пистолет, а он вопрошает, на черта тебе пистолет, женушка, ты что, грохнуть кого хочешь? Я смутилась, говорю, поохотиться хочу! Он смеется: на охоту, говорит, с ружьишком ходят, а не с волыной!
Ты была мой храм, Лелька! Торчала надо мной, над моими горами, чертов Акрополь! И я задумала тебя поджечь. Как, бишь, та греческая храмина звалась, которую сожгли в пепел? Проклятье, я хотела стать Геростратом! Я думала, как поджечь тебя в натуре, как сжечь тебя, вражину! Видела огонь. В ночи! Во сне! Наяву! Брала факел, в пламя окунала, в ночной рубашке на улицу выбегала! И к твоему дому бежала. Тебя поджечь! Спалить! Дотла! Чтобы лишь косточки обгорелые от тебя на пепелище остались! И вдруг просыпалась. Подушка вся в слезах, в поту. Губы трясутся. Рыдаю. И мысль пронзает: да ведь это Лельку надо сделать Геростратом! Ее, собаку! А меня - ее божественным храмом! Который она сожжет! Она, бессильная, злобная, гадкая тварь! Да! Именно так! Все вот так и перевернуть!
И я писала такие стихи. И я в них вопила, на весь мир орала: завистник Герострат поджег меня, священный храм! И я горю! И сгораю в хлам! Дрянь Герострат позавидовал мне - и теперь я тону в красном безумном огне! Но меня не убьешь! Не сожжешь меня! Я воскресну, не пройдет и вечности, ночи и дня!
И их читали. И ими - восторгались! Я навек заклеймила тебя, Герострата в юбке! И я восстала из мертвых, святая обитель! Это во мне живет золотая поэзия, а не в тебе! Ты - мертвый город! Мертвая церковь! В руинах твоих свистит пустой ветер! И затягивает их паутина! И заметает железная снежная крупка! Жизнь... как последне... смертно... слезно... как хрупко...
Я вот сейчас, перед тобой тут лежучи, бессильная, на кровати последней распятая, я все думаю: а ведь я всю жизнь свою стихами изломала, и чем, вот смех, строфами и рифмами, я страдала по другим поэтам, я их читала взахлеб, запоем, я по них с ума сходила, подсаживалась на них, как на наркоту, я им всем - подражала! Перенять! к себе утащить! иначе охватит цепкими лапами страдание: почему у них есть такое, и еще вот такое, а у меня нет? Голова моя ломалась, и сама я ломалась. Не только от ненависти к тебе, Лелька, я стала Оборотнем. Вся жизнь моя меня к этому Волку подвела! И носом в его шерстяную морду сунула: надень - и владей!
О, я прекрасно понимала, мать, что ты была хороша! невинна! ни в чем ты не была виновата! И все-таки я мазала тебя грязью и мстила тебе. В стихах! И наяву! Я решила пустить о тебе плохую славу. А пусть ты не будешь такая хорошая! Я - плохая? Я - воровка? А пусть ты тоже будешь гадина! Запачканная! И так, что не отмоешься!
Я вопила в лукавой Сети: ага, Еремина крадет мои стихи, я ей так благодарна! И люди верили. Я кричала: люди, люди, она же шут гороховый, она же дура в колпаке, ей лечиться надо в психушке, а вы с ней носитесь, ее ублажаете! И опять люди верили.
И я сама начинала верить себе! Крикам своим!
Я добивалась, чтобы нас с тобой не различали, чтобы - путали, чтобы мы так слиплись - для людей чтобы гляделись на одно лицо! Чтобы нас, пластилиновых, гипсовых, глиняных, больше не разлепили! Не расцепили! Чтобы не понять было, где ты, Лелька, а где я, Ветка!
А потом, о, потом я иначе хотела. Я хотела - возвыситься над тобой! Стать ярче, ослепительнее, царственнее, - гениальнее! Ведь все твердили на все лады, что ты гениальна, ну так мне и хотелось тебя переплюнуть! Не только стать тобой, но - стать над тобой! И наступить подошвой на тебя! И растоптать тебя! Помнишь то письмо? Самое мое последнее, на которое ты мне уже никогда не ответила? Как я тебе прокричала тогда: ты, мышь, серость и блеклость! Все вокруг говорят: жалкая квакушка Еремина люто и бессильно завидует яркой, бесподобной и гениальной Волковой! Черница завидует царице! Лебедице! Да, все так и говорят! Весь город!
Я чудесная, мощная, вечная, гениальная и бесконечная! Ослепительно, радужно яркая! Забросаю стихами-подарками! Мое слово горит, изначальное, и вселенское, и отчаянное! И иду я, неповторимая, всем народом навеки любимая! Обо мне уже песню сложили! Я прекраснее всех! Ну, скажи мне, мое зеркальце, правду великую - про красотку меня, белоликую!
Я ведь не просто крала у тебя песни, мать. Я - переделывала! Я играла в твои стихи, как в карты и шахматы, я питалась тобой, я ела тебя и пила! Всласть жрала с твоего стола! А потом, да, потом я уже не крала. Я - просто ненавидела! Я ненависть свою переплавляла в стихи! Мне ненависть стала - счастьем! Я творила ненависть и творила ненавистью! Все думают: месть, ненависть - разрушение! Нет! Они - созидание! Ненависть дает силы жить! Война - это неведомые горизонты! Я войне - гимн пою! Война и месть - вот то, что движет временем и миром! Война и кровь! Любая! В стихах ли, наяву! Ненависть - торжество! Грохот разрывов! Мощь огня!
Я поняла, Лелька, что я своими военными, яростными стихами могу тебя прикончить! И я прекрасно знала, что ты мне этим же - не ответишь! Что душонка твоя неспособна на воплощенную, долгоживущую ненависть! Я отлично видела: ты - в любви и для любви! И это бесило меня сильнее всего!
Я готова была разрушить тебя, как город. Как страну! Вот так же, как в Первом и Втором Великих Сражениях безумные люди разрушили пол-земли. Камня на камне не оставить от тебя! И я думала, мне это удалось. Все мои верные друзья, все поклонники мои вокруг твердили: затопчи ты эту Лельку, изничтожь вконец, прибей! Чтобы и признаков жизни не подавала! Кричи Ереминой в лицо: смерть тебе, смерть, смерть! А я отвечала тихо-мирно, кокетливо потупясь: ребята, нельзя ненависть обнажать, она так же, как любовная нагота, тайная и уязвимая; а надо так: о, да что вы, ребята, я ж Лельку люблю! Так люблю! Прямо сил нет! Это она - меня - ненавидит!
И, говоря это, крича и шепча это на ухо людям, я понимала: я клевещу на тебя. Я подменяю тебя - собою.
И только стихи мои, наотмашь хлещущие тебя огненной ненавистью, говорят правду.
Страшную правду.
Ты-то не знаешь всего, Лелька. Не знаешь, как я ночами слонялась по дому, по трехэтажному своему особняку, когда все дрыхли, а я бродила без сна, без слез, без отчаяния, я даже уже плакать не могла, поднималась и спускалась по мраморным лестницам, бессмысленно насыпала корм хохлатому говорящему попугаю в золоченой клетке, молча шла от окна до окна, от света до света, и я вытягивала впереди себя руки, и глядела на них неотрывно, глаза мои к моим рукам прилипали, и мне казалось, с них, с ладоней и пальцев, капает кровь, и они, обе, красные, кровавые, липкие, это я мысленно тебя убила, и выкупала руки, двух мудрых слепых младенцев, в твоей крови, и вот она на руках проступает, пятнами, потеками, красной этой чертовой краской, коей муж твой, Лелька, непонятный, безумный художник, возил по холсту, двигал этой красной, кровавой кистью, держал ее живой рукой, и, может, он так меня и написал - однажды ночью, в рубахе до пят, с царскими кружевами, со спутанными буйными кудрями, с торчащей из кружев гусиной шеей, с искусанными губами, вот бреду я по белым снеговым комнатам, спускаюсь и опять поднимаюсь по белым ледяным лестницам, вдыхаю дух дорого парфюма, а может, крови соленый запах, я хочу убежать от себя, а от себя не убежишь, и, если я мысленная убийца, то нет проблем стать настоящей; а я если я уже по-настоящему убила, то вот она, кровь!
Лелька, Лелька! Как я мечтала тебя убить! И чтобы руки мои - по локоть в твоей крови! Это было бы так сладко! Так верно!
Я мечтала об этом на разные лады. И домечталась! Я решила стать твоей тенью. Убить тебя - тобой! Чуть появится на свет что-то твое, а я - раз! - и быстро тисну свое, на эту же тему, об этом же! Чтобы не только люди не понимали, кто же тут первый, Еремина или Волкова - чтобы ты мучилась невыразимо, страшно оттого, что я по твоим следам иду!
Я себе сказала: я стану первой, стану королевой, царицей, а не она, паршивый свергнутый кумир, и я стану ей - волком! Настоящим волком! По следу весь ее век пойду! Она шаг, и я шаг! Она два, и я два! Она - три, а я - десять! Поняла теперь?! Не давать тебе жить спокойно! Преследовать тебя! И везде, везде разнести этот вонючий слух, что это ты у меня крадешь! Ты! А не я - у тебя!
Кричать: Еремина воровка, она у меня ворует! Еремина ворует у Пастернака, у Бродского, у Цветаевой, у Ахматовой, у всех! Наглая, люди, какая же она наглая! И хитрая!
Так я стала волком. Настоящим! Я научилась загрызать, убивать. Мне это безумно нравилось! И я нашла ход! Гениальный! Не только по пятам за тобой бежать и тебя зубами за пятки хватать! Не-е-е-е-ет! Еще хлеще я ход отыскала! Чуть впереди тебя бежать, вперед забегать, и, увидев то, что ты едва родила, хватать зубами твоего новорожденного ребеночка и кричать: мой это, мой! Живой! А у нее - мертвенький родился, мертворожденный, его, бедняжку, уж закопали, а этого, прекрасненького, живенького младенчика - я, я родила!
Это же гениально: лишить тебя материнства! Материнского права на твоих детей! Отнять их у тебя, едва родились!
Да даже не просто отнять, а - съесть, сгрызть! Сделать их, твои стихи, моей плотью!
Да! Это была потрясающая находка.
Ты стала моей пищей! Я - ела - тебя! На завтрак и обед!
Да только так, пойми, и может жить волк. Он не может без живой пищи! Ему нужно свежее мясо! Кровь!
И мне была позарез нужна твоя живая кровь, чтобы - жить.
Да! Чтобы жить!
Ты стала моей жизнью! Я уже не могла без тебя!
Да, так, пожирая тебя, я - любила тебя!
Я кричала тебе: ты смерть! ты смерть! ты скелет утонувший! ты ржавый корабль на морском дне! ты Мертвое море! ты гнилая лужа! Мертвы твои звезды, и мертвы твои деревья, и мертвы твои птицы, и мертвы твои цветы, и мертвы твои дети! И ты никогда не восстанешь из гроба! А на самом деле я жадно читала тебя, живую и пламенную, люто и всегда ненавидя тебя, ибо ты была мне живой кровью, страшно дымящейся на чистом снегу! Ибо я не могла, не могла жить без тебя!
Ты настигала меня, мой кошмар, мой враг, в мыслях моих и снах моих, и за это я - живьем - преследовала - тебя!
И, изловив тебя на улице, приведя тебя к себе в логово, привязав к самодельному распятию и грозя тебе не игрушечной, настоящей смертью, я любила тебя!
Вымазанная дегтем, привязанная к позорному столбу, ты процарапала меня зверьим когтем, ты наизнанку вывернула мне судьбу! А вот теперь стой, привязанная цепями, и жди, когда к тебе подойду, и поднесу к тебе предвечное пламя, и прожгу прорубь в твоем погребальном льду! Ты, стерва! Ты ярче меня быть посмела. Так вот теперь тут, прикованная, томись и стой - хотела стихами прославить мерзкое тело, хотела в веках пребыть душонкой не дрянной, а святой! И я к тебе подхожу, крепче самого сильного яда, я никогда не скажу тебе, как другим: люблю! - и обливаю тебя с ног до головы ненавидящим взглядом, и набираю слюны полный рот и тебе в лицо смачно плюю!
Ну, только попробуй, думала я, накропай только, вякни, провизжи, прохрипи, что Волк, Оборотень - это я! Давай, валяй, намалюй людям мой настоящий портрет! Да я тут же крикну в ответ, что Оборотень - это ты! Я все живенько и хитро оберну, наизнанку выверну! Это про тебя я всем заору: ты - Волк! Ты - волчица, собака! Ты - дева с песьей головой! Это ты, зверица, жрешь меня, а не я тебя! И все мне поверят! Мне! А почему?! Да потому, что я-то все-все-все главное у тебя украла! Все! Да не жалкие строчки! Огонь! Страсть! Словарь! Музыку! Боль! Праздник! Душу твою! На свое сердце - твое сердце натянула! Напялила! И тебя самое - у тебя - тоже украла! Да так ловко, что все люди верят и видят: это ты украла все у меня! Это ты, Ольга Еремина, собака! Ты - Волк! Ты - Оборотень!
Это ты - Ветка Волкова! Хищница! Кровь на губах! А я - несчастная жертва! Я - благородная Лелька! Да! Я! Все случилось! Так, как я хотела!
И если ты, блудь, крикнешь мне в стихе: ты Оборотень! - я тут же слеплю стих, что Оборотень - ты! И буду читать его на всех площадях... да!.. хрипеть!.. орать!.. да никто не услышит...
А знаешь, чего я больше всего хотела, Лелька, а? Не знаешь! Не примиренья, нет! Не вышло у нас замиренья. Ну да, это я виновата! А по правде не я, а ты! Одним уже тем ты виновата, что ты - живешь на земле! И я подумать о тебе не могла спокойно. А думалось! Все думала, голову ломала!
И как же я желала, чтобы ты переняла все мои уловки! Чтобы ты научилась, дойдя до края отчаяния, подражать моим действиям, волчьим. Чтобы ты - да, ты, чистая, святая Лелька! вся такая безгрешная! - позаимствовала у меня все мои волчьи движения! Походку! Хитрость! Прыжки! Осторожный шаг! Хвост, вытянутый по ветру над ледяной землей! Короче, чтобы ты украла, да, украла у меня все мои ухватки! И не только! Чтобы ты скопировала мою ярость. Чтобы мою злобу - воссоздала! О, как я этого добивалась! И как это было бы опасно для тебя! Потому что тогда ты сама, да, Лелька, да, стала бы - Оборотнем!
О, какая несбыточная мечта! Как я этого хотела! Не передать. Смертельно! Неистово!
Я тебя - к себе - приручала. Я, зверь, приручала тебя, человека! И все думала: когда, о, когда этот жалкий, слабый человечек станет оборотнем! Обернется вокруг себя, своего честного, чистого шага и вокруг своей одинокой судьбы! Я видела, Лелька: ты - одинока. Ты в этом нашем обезьяньем, лживом мире делала то, что хотела, и что могла делать только ты. И никто больше. В целом свете!
О, как же я завидовала этому! Твоему одиночеству! Твоему великому сиротству!
Опасно? Иди сюда! Не выберешься? Попадешь в мою западню! Да, Лелька, да! Я для тебя - западня! Это ты скоро станешь оборотнем! Это в тебя будут стрелять охотники! Это рядом с тобой толпа будет улюлюкать и тыкать пальцами в тебя: а-а-а-а, вот она, волчья шкура! Поймали! К столбу привязали! Пойман оборотень! Теперь, люди, все плюйте в серую морду! Ударяйте палками в барабанную серую шкуру!
Вот как я хотела, чтобы - было. И так и сяк изворачивалась! Приучала тебя к себе, приманивала! То помирюсь, то поссорюсь! А ты, ты на меня повнимательней смотри! Повадки мои перенимай! Авось скоренько шкурой-то серой и обрастешь! А я, наоборот, волчью шкуру сниму. И выйду из нее наружу чистенькая! Голенькая! Святая! А ты - вой у столба, волчица!
Что там бормочешь?.. Что это дьявольское подражание? Что, выходит, я дьявол?! Эк куда хватила! Да в ком из нас нет дьявола! Да ведь и Бог в нас тоже есть! И человек, жалкий и пошлый! И зверь, главное, зверь! Глубоко он в нас, зверь, гнездится! Закупорь свой гнев в бутылке, сургучом залей - а вино забродит, и бутыль как взорвется!
Ты не знаешь, какие сны мне все время снились. Какие слышались голоса.
...быть может, тебе приказывали убить ее?
Кто мне приказывал?
Да, кто тебе приказывал?! Сама бы ты никогда не осмелилась! Не смогла!
Никто мне не приказывал... никто... Нет... да... мне приказывали... да... И я - не виновата... Я это сделала, потому что мне приказали...
Кто?! Говори!
...волк. Мой царь. Это зверь... моего рода...
Лелька, ты только вдумайся. Сейчас же его царство наступило. Волка. Не помню, какой-то старый дядька, в незапамятную старину, говорил: человек человеку волк, и все тут! Волк. Волколак. Волчий Брат. Ледяная, серебряная корона на башке. Стальные зубы. Очи золотые. Лес перед ним расступается. Дома рушатся. Все и так разрушил, гад. Любитель гибели. А мясо свежее любит. Тайный правитель. Прячется. Умеет тихо рычать. Чтобы никто не слышал. Это он уничтожил тьмы тем. Нас погубил. Царь ненависти. И настало царство ненависти. Я-то это понимаю! Вижу! А ты?
И ты понимаешь?! Понимаешь?!
Мир оборотней, Лелька! Мы все оборотни! Все подчиняются Тайному Волку. Его красные глаза глядят отовсюду. Он приказывает своим людям посещать нас. Наблюдают за нами. Это зря думаем, что мы брошены. Кинуты на произвол судьбы! Нет. Нас рассматривают в зимнюю лупу. Нас учат обрядам и танцам Волка. Их танцуют у него во дворце. Он занял место Бога. И место всех земных владык. Его люди - тоже звери. Они умеют говорить по-человечьи. Твой сосед оборотень - убей его! Он лжет - убей его! Она предала тебя - убей ее! Он ненавидит тебя - возненавидь и убей его!
Тебя ненавидит человек - отыщи и убей его.
Тебя укусил зверь - повернись к нему и в упор убей его!
Лелька, ты-то хоть соображаешь, куда мы все угодили? Мы живем в царстве громадной ненависти. Все дозволено. Каждый есть оборотень. И каждый, прикинь, каждый думает о другом, что он - оборотень!
Ты вот никогда не видела, как люди расстреливают людей у глубоких, вырытых в сырой земле рвов. Зимой. Никогда? А я - видела. Оборотни расстреливали людей. А думали так: мы - люди, и мы расстреливаем - оборотней! Вот так и думали, да! Чудовищно, скажешь? А что ни скажи, все будет неправда! Потому что и те - оборотни, и другие - оборотни! Все - звери! Все в волчьих шкурах! Во дворце, у владыки Волка, им, солдатам, сказали: найдите, свяжите, стреляйте, убейте, перед вами не люди - оборотни, это они сделали так, что мы все так плохо живем, не живем, а умираем, и у нас одни войны и один сплошной голод, и больше ничего. Это они во всем виноваты! Это - враги! Уничтожьте!
И солдаты исполнили приказ. На то они и солдаты! Они поставили в ряд людей у рва. Оскалились, чтобы было не страшно стрелять. Когда у человека волчья морда, ему не страшно убивать. Он должен всецело превратиться в зверя, чтобы убить. Люди стоят у рва, дрожат. Без пальто, без шуб. Из домов вырвали, вынули. Ко рву согнали. Оружие взброшено. Стволы наставлены. Люди трясутся. А звери что? Они думают по-людски: мы сейчас уничтожим зверей! И воцарится мир! Воцарится - счастье! Ведь должен же быть кто-то виноват! Всегда!
Я случайно, Лель, оказалась рядом. Присела на корточки у стены дома. Шаг шагнуть не могу, ноги ослабели. Спряталась. Молюсь, чтобы не приметили меня. Воздух сырой, холодный. Все запорошило снегом, а земля еще теплая, белое тает, рвется белый бинт. Люди перед рвом обнялись. Ревут! Я сама заплакала. Слезы у меня со щек ветер срывает. И тут эти очереди. Огнем - по живым! Они падают! Орут страшно! Кого сразу насмерть, тот счастлив! А многие упадут на землю и дергаются! Дергают ногами, головами! Человек, это же такой слабый, несчастный живой зверек! Никакому зверю, Лелька, не хочется умирать! Владыка у нас тот, у кого оружие! Так было всегда! Так и сейчас есть! А я, на корточках, из-за угла, гляжу на красные на морозе зверьи морды, на то, как пляшут старинные автоматы в руках у солдат, и мне плохо, меня сейчас вырвет! Я покатилась набок, лежу на снегу, колени к подбородку подтянула. Сейчас и ко мне подойдут, и в меня огнем плюнут! Страшно!
И вдруг перестало быть страшно.
Лежу как мертвая, а живая, и все соображаю. Я на облаках. Не на снегу. Небеса серые, рвется шкура, горит ветер. Все внутри меня горит. Может, уже расстреляли? Тишина. Грохот оборвался. Я чувствую тайну. Я не могу тебе ее сказать! Потому что для нее в языке нет слов! Даже в самых дивных стихах!
Далеко стонут. Стонут еще живые. Жизнь - это время, а смерть, это когда времени нет. Смерть это вечность. Мы же все всегда мечтаем о вечности. Ну, чтобы жить вечно. Или чтобы о тебе память хранилась вечно. Хранить вечно! Какая чепуха! Люди расстреляли людей, сбросили ногами в ров, закопали, засыпали землей, бросили на снег ржавые лопаты и ушли. Утопали тупыми, тяжелыми сапогами. В жизнь.
А в яме остались люди. И кто-нибудь из них, может, был еще живой. Открывал глаза, а в них набивалась земля. И в крик, в рот земля набивалась. Живая земля.
Наш мир, видишь, какой он стал! Полон бесчувственной жестокости. Это такие, как мы, его таким сделали! Такие, как я, хочешь сказать? Губки-то вздрагивают? Да! Такие, как я! Мы все стали волками! Помнишь, как на площади, ну, где петрушечник выплясывал за красной тряпкой со своим полудурком Петрушкой, однажды прилюдно казнили человека? За то, что он у соседа - попугая в клетке своровал! Ха! Попугая! Да для него, бедняги, это жар-птица была! И своровал, потому что красоты - захотелось! Ужас - душу измотал вконец! Захотелось веселья, праздника... живую птицу - в яркий глаз целовать! Попугайчик, такой красивый, волнистый, говорящий, как мой, а может, немой, а может, нахал какаду с кривым клювом... гнутый толстый клюв, как щипцы для орехов... Я не видала того краденого попугая. Лелька, я видала лицо приговоренного! Его вешали! Он стоял под виселицей бледный, как простыня. Я тихонько перекрестила его. На меня покосились. Никто не помнил этот жест. Все лживо-радостно друг на друга таращились: хорошо, что не я там, под перекладиной! хорошо, что не я! не я! не я! не я! А я вдруг подумала: вот бы мне так - и там. И глаза закрыть. Резкая боль в шее, в темени. И тьма. И все. Мукам конец.
Когда этот бедный мужик закачался на перекладине, мне стало плохо, и я упала. Очнулась, руки, грудь, ноги болят, отдавила толпа, по мне люди ходили, хорошо, хоть ребра не сломали. А надо мной этот, твой милашка, петрушечник, наклоняется. На корточках передо мной сидит и чем-то странным меня из склянки поит. И я глотаю. А он шепчет: пей, пей, это поможет. Я всю склянку осушила. В голове муть. А этот кукольник еще ниже ко мне наклоняется и шепчет мне прямо в ухо: вот и молодец, ты кукла. Кто, кто, глаза таращу, кто?! Кукла, говорит! Щечки размалеванные, носик ватный! Руки-ноги тряпичные, ватой набиты! Только не убиты! Пойдешь ко мне работать? На красную тряпку? Весело плясать, стишки орать? Пойди! Я тебе хорошо заплачу! Чужими глазами! Губами... слезами...
Я ему шепчу: я не кукла! А внутри меня вдруг порвалась важная нить. По которой в сердце кровь течет. И говорю: кукла, да, кукла... Всю жизнь ею была... Я - кукла, и я всю жизнь мастерила себе - игрушку: себя. Пуговки к тряпичному личику пришивала! Ротик бантиком изгибала! И я всю жизнь была в чьих-то грубых руках - кукла! И мне хотелось верить, что эти руки - ласковые! Я хотела, чтобы меня гладили! А меня трепали. Хотела, чтобы - к сердцу прижимали! А меня - наотмашь - в грязь бросали. И тогда у куклы завелись мысли под клоком волос, под рыжей спутанной шерстью. Хорошие мысли. Верные! Я поняла: мир так устроен, что в нем - не зевай! Хватай и свое, и чужое, да быстро! Не то увидят! Схватят, повяжут! Пробивайся в толпе, расталкивай всех локтями, кулаками! Топчи! Не то тебя затопчут. Ты, кукла, прикинься живой! Размалюй себя ярче, гуще! Перевернись, обернись! Не куклой, а человеком! Преврати холодную свою вату в живое, страстное тепло! И увидишь, что будет!
И только одного не забывай: того, что ты была куклой и останешься куклой навек! Для самой себя! А для других ты будешь красавицей, владычицей, царицей! Вырвешь у времени всеобщую любовь! Будешь ей питаться! Тебе же, кукла, нужна любовь?! Да?! Нужна?!
...вместо теплой щеки у тебя - наспех подшитый шелк. Вместо нежной груди у тебя - бархат рытый. Вместо слова кровавой правды - у тебя целый полк белья букв, рваного с бечевы, для разбитого вдрызг корыта. Вместо вздоха живого - любованье: в профиль и в фас. Вместо выдоха смертного - птичье, синичье кокетство. И косит тайной злобой раскрашенный кукольный глаз. И не алмазы, а стразы; и старость уже, а не детство. Вот в хрустальные залы, взвывая, толпу ты зовешь, чтобы в лица, в сердца, красуясь, швырнуть свое окаянство, - а они зрят: твои самоцветы - ложь! А они слышат: из чужой посуды это сусальное пьянство! Рюмки скрадены. Кто сей пирог испек? Балабонит язык - поплавком в стоячей воде. Эти рваные росписи-фрески, ошалелых оркестров злой рок люди слышали-видели... дай Бог им память, где...
...кто это написал? А, Лелька? Ты или я? Я или ты! А! Молчишь! Выдавить слова из себя не можешь! Стыдно? Или это мне стыдно? Да, я кукла! И если это я написала про себя - то я во весь кукольный рост себя написала! А если я тебя написала - так глотай, паскуда! Это ты бездушная кукла, не я! Ты! Ты! Ты!
А если это ты - написала - мне? Меня?
Мне, меня, мною... обо мне...
Ты видишь, я умираю, но еще могу читать стихи. Мы обе - можем! Две старухи! Переплывшие две ужасные войны!
И ты не все знаешь, мать. Не все. Чем я занималась ночами. Я лепила фигурку из пластилина, одевала ее в лоскутья. Кукленок? Забавка? Если бы! Это была ты. Я называла куклу твоим именем. Твоим ненавистным именем! Клала ее на стол, спиной вниз. Кругляш пластилина - головенка, вместо глаз - две дыры, вместо рта - дыра. Дыра, и опять неслышно изрыгает ненавистные твои стихи! Книгу твою, я ее так любила, что смогла, оттуда себе в стихи стянула, я давно уже брезгливо, с проклятьями, выбросила на помойку. А ты - тут. Передо мной! Лежишь! Беспомощная! Распластанная на столе! И я раскаляла иглу на огне полночной свечи. И прокалывала тебе, под лоскутом, пластилиновое, тряпичное, никчемное сердце твое. И шептала заклинания: сгинь, умри, пропади!
И еще знаешь что я шептала? Хо! Хо! Не знаешь! Я у великих темных сил - войны молила! Да! Войны! Я хрипела: вызываю из мрака войну! Вызываю огромную, страшную войну! Мир, погибни под войной, сдохни! Туда тебе, в смерть, и дорога! Ведь сдохнет и она! Вражина!
И что, думаешь, мне целого мира было жалко?! В те мгновенья - в ночи - ничуть! Моя война, против тебя, была всегда со мной! Но мне этого было мало! Мало! Я хотела войны - широкой, раскрыленной, расхристанной, размахнутой, на весь свет!
Да, мать! Вот такая магия! Дешевая, скажешь?! Да весь мир на поверку - дешевка! Все самое высокое и царское стоит грош, копейку! А то и копейки не стоит!
Всеобщая война начнется - но и ты, и ты, Лелька-дрянь, в ней погибнешь! Не будет тебя!
Я не мыслила, что не будет и меня.
Мне, знаешь, это было все равно.
Я все поняла. Давно. И я так жила всю жизнь. А потом я сшила себе еще одну игрушку. Тряпичного волка. И обшила его серым лоскутом старой шубы. И брала его в руки. И ночами выходила на охоту. Я научилась хорошо охотиться, когда годами ходила, незримая, за тобой. След в след.
Я прижимала игрушку к сердцу. И они приросла ко мне. Вросла в меня. Мой волк оборотился в меня. А я втиснула себя в волчью шкуру. Мне там было удобно. Хорошо. В ней никто меня не знал. И я могла творить все что угодно!
Я думала: я одна такая. Сначала и правда было так. Потом, ну, я же глядела на людей волчьими глазами, я стала примечать: о, а волков-то на улицах все больше! Вот уже бегают стаи! Вот уже развязали войну! Первое Великое Сражение, Лелька, я просидела в подвале. Хорошо, там были окна. Чуть поднимались над землей. Я видела сквозь стекла дым и пыль. Дрожала. Молилась: Боженька, спаси моих родных! Мы тоскливо оглядывали подвал: на полках много еды, хорошо, я, хозяйка, в сто банок нам жизнь закатала! Яблоки, помидоры, огурцы, кабачки! Со мной были там, под землей, мой сын и моя дочь. Дочь была беременна. Я сама принимала на руки ее ребеночка. Моего внука! Да это уже было потом. Когда ветер разогнал ядовитый дым.
А Второе Великое Сражение застигло меня на отдыхе. Все карабкались вон из нищеты и военных болезней, а я захотела, как в старые добрые времена, поехать на курорт! Ну, ты ж меня знаешь! Я такая! Внучонок маленький, доченьку потешить, самой стареющее тело на солнышке поджарить. Поезда не хотят, дороги разбомбили, а у нас в целости наша машина! И сын заброшенную бензоколонку обнаружил и домой много бензина привез. Украл! Что смотришь! Да весь мир крадет! Весь и всегда! Особенно то, что никому уже не нужно!
Помчались... на машинешке нашей... на юг... через всю страну... И тут я, Лелька, всю ее и увидела. Не дай Бог тебе ее так увидеть, как увидела я!
Пока ехали - я глядела в окно и плакала. Всю дорогу проплакала. Дочка с внучонком дремали. Сын вел машину. А я все глядела в окно и плакала, плакала.
Где-то вместо дороги торчали из земли камни: здесь асфальт сожрали бомбы, и мы заворачивали в объезд, и опять неслись как угорелые. К морю! Уж очень поплавать хотелось! На солнышке покалиться...
Какое там солнышко, оно тусклым жемчугом светилось сквозь серую рванину туч, таким тоскливым, грязным жемчугом, а было когда-то счастливым, золотым, а мы все мчались, бензина с собой в запас взяли много, мы сами себе казались богатыми и отчаянными, а вон оно и море, вспыхнуло за поворотом и встало стеной, синей стеной! И обрушилось на нас! Подъезжаем к пляжу. Серая галька! Волны плещут! Все как в мирное время. Вышли из машины! Косточки размяли! Разделись! Сын по гальке к воде рванул. Доченька стоит, в ярком купальнике, как в доброе старое время, внука моего на руках держит, море ему показывает. А я гляжу вокруг. Оглядываюсь. Что это со мной! С моими глазами!
Волки! Кругом волки! Не люди, а волки!
Кругом, Лелька, оборотни! Полон пляж!
Один другого валит на гальку и грызет. Скалится безнаказанно. Стая окружает вожака. Рычит. Сейчас убьют! Волчата возятся под пузом волчицы. Черт, а где же люди?
Где люди, где?!
Волк волку волк. Все родные. Все оборотни.
Убить другого - это сильная страсть. Это как любовь. Огромной силы чувство. Не побороть.
Дочка спрашивает меня: мама, что это с тобой? Что ты так смотришь?
А я смотрю. И вижу. Далеко. Над морем. Вздувается. Яркое, рыжее, жгучее. И на лице жар. И в глазах боль. Золотой шар растет. Вот он уже красный, кровавый. На полнеба! Дочь кричит. Волки воют. Или это воют от страха люди? Волки опять стали людьми? Страх обратил их в людей?
Слышу голос дочери: мама, беги! Туда! В кусты!
А там кусты магнолии росли. И на них цветы, потрясающий запах, с ног сшибает.
Мы побежали. Все орут. Мы рухнули на землю, зажмурились, дочь внука животом прикрывает. Кто-то вопит: это далеко, за морем, не бойтесь! Над нами магнолия источает пьяный аромат. И я вдыхаю: последнюю жизнь вдыхаю.
Последнюю, так я думала тогда.
А вот, поди ж ты, еще сколько лет на свете довелось прожить.
Обратно мы неслись по выжженной равнине. Два чудовища: я и дочь. Закутались в резиновые комбинезоны, нам всем на курорте в подсобке выдали солдаты. Внучонка в прорезиненную тряпку завернули. Он сперва ревел громко, потом охрип, потом уснул так крепко, мы думали, не проснется. Солдаты нас сначала не хотели никуда отпускать. Кричали: вас разбомбят по дороге! Дочь соврала: у нас там, говорит, в родном городе, еще один у меня маленький ребенок! Он у соседей живет! Мы его с собой к морю не взяли! Командир махнул рукой. Пусть, кричит, едут, погибают! Наплевать!
Тогда уже всем на все было наплевать.
Почему, спросишь, два чудовища-то, а? А сын мой тогда в море утонул. Взрыв увидел, воды хлебнул и захлебнулся, и пошел ко дну. Машину дочь вела. А я над завернутым в резину внуком пела безумные колыбельные песни.
Я запах той магнолии на всю жизнь запомнила. Это запах войны. Она пахнет пьяными цветами.
А знаешь, Лелька, что я больше всего в той, погибшей навек жизни, любила? Кого... Знаю, выкрикнешь мне сейчас: мужа! детей! любовников! моего последнего внука, что ты, дрянь, из-под носа у меня украла! Ну, кричи, хрипи, играй со мной в угадайку! Не угадаешь ни за что!
Мой родимый простор я любила. Мою - на полмира - широкую реку. Крылья светлые, сверкающие мне одной река распахивала! И я над ней бежала, плащик на рыбьем меху расстегнув, озорно раскинув руки. По обрыву! По откосу моему обожаемому! Над моим городом удивительным, красотой сбивающим с ног, вот они, золотые головы церквей моих, гусиные гордые шеи живых моих колоколен, сапожные иглы шпилей, ах, небесные сапожники трудятся вовсю, золотыми гвоздями звезд, метеоров тучи мои, облака подбивают, мой ярмарочный, богато-чванный город в самолучшие алые, золотые, лазуритовые сапожки обувают! А головки-то девичьи, бабьи - ах!.. в мощно связанных шалях, в ангорских козьих платках, в мусульманских нешвенных хиджабах, цветом как в бешеной теплой ржи младенческие васильки, а то как ярые военные маки, а то как тюльпаны, на голых розовых ханских жен в пару хамама похожие, а вон нимфея, жемчужную нежность лучами роняя, от счастья косея, идет, свернул шеи мужской слободской народ, ест красотку глазами, а небо над ней плачет солнечными слезами! А это, Лелька, всего лишь церквей в занебесной выси мои купола - а, что, моя взяла! Этот город восточный, непорочный, небесной поневы парчовая оторочка, над равнинной рекой - моя любовь и мой покой! Моя боль! Моя жатва! Моя страсть! Моя - кровью - клятва, моя власть! Если бы город мой краснел на костре раскаленной сталью - в руку нагую взяла бы, крепко, рыдая, сцепила! Если бы топором был, от казней ржавым, усталым - башку бы на плаху ему, смеясь, положила! Мой город - мое Лобное место, мое Пасхальное тесто! Над ручьями его всю жизнь бежала, и бега того мне было мало! Над оврагами его танцевала, обессилев, наземь валилась, вставала - и плясала всю пляску сначала! Я все всегда начинала сначала! Это ты, ты вослед мне, спотыкаясь, каблуками стучала! А я, вечная Ветка, медная Божья монетка, бежала над осенним златым, царским обрывом и во всю глотку кричала: Господи, как же у меня красиво! Господи, как же тут у меня ветрено, вольно! Господи, как же мне тут гордо, горько, похмельно, земельно, поднебесно, спесиво! Как же мне от любви моей больно! Любовь и боль, боль и любовь в обеих руках, голуби-птицы! Подброшу! Выпущу в небо! Пущу, как себе кровь! Мне, люди, яркая жизнь моя снится! Руки мои - летящие голуби! Глаза мои голубиные! Лечу в небе над моим горьким городом, им одним смертельно раненная, навеки любимая! Бегу в парче - в золоте - в изарбате заревом, алом - в шелке подталом - в весне, в ливне сребряном - в нимбах осенней бронзы, ненароком святая - во вьюжном, последних Царей, горностае - над обрывом твоим, пьяна от любви, над пьяным - хмельным вусмерть, пуржистым простором моим! над землей моей в зимних перлах-опалах! Бегу!.. руки раскидываю!.. обнять!.. целовать!.. воздух ртом хватаю!.. сердцем благословляю!.. кровью, дыханьем, слезами - вся - вытекаю!.. бегу!.. смеюсь в лицо другу, врагу!.. бегу!.. пока... не упала...
Да, так, вот так я любила мой город! Мою реку! Мою землю! Мою - жизнь!
А ты?! Ты - так - любила?!
...Родина! Жизнь моя! Ведь ты - это я! Живот мой белый - твое снежное, дикое поле! Космы рыжих волос моих на ветру бытия - ладони Батыя, Осляби, Мамая, Димитрия, Игоря-князя остро кололи! На плечах моих бабьих, на развороте их гордом и смелом я несла меж сугробов - веков твоих коромысло: я, баба, сильная, крепкая телом, а звезда зимней зари над платом моим расписным лампадой-ягодой висла! Руки мои - реки твои! Ноги мои - дерева на юру! Пальцы мои - кусты ракиты, тонкие, страстные, дрожащие на ветру, наледью, как серебром Покрова, облиты! Груди мои - твоих гулких церквей купола! Я ими дышу, к небу их горячо воздымаю! Я столько кругов уже вокруг светила ближнего обошла, от стольких разрывов-выстрелов стала глухонемая! Столько в смоляном небе прочитала звездных письмен! По слогам, по буквицам, стрекозиным летящим знакам! Стала слепая, крещеная, меченая огнем, крест-накрест пламенем, довременным мраком! Вы думали, женщина я?! А я-то и есть земля! Ваша земля, шлемы ваших Кремлей, ваши разъятые недра, ручьями клокочущие овраги! Вы убили меня?! А я начну - не с нуля: с литья нового колокола, с лазури нового - над головами - в келье монашьей пошитого стяга! Богородицына эта моя, петлею на глотку - синь! Захлебнусь слезами дождей! В синеве мира радугой-рыбою поплыву я! Да только Ты, мой Господь, меня не покинь! Там, за облаками, Ты зри меня: бабу в любви, в соку, жадную и живую! Это я - Родина! Где жизнь твоя, где моя - перепутала, честно! а зачем различать?! разве сращенное разрывают?!
...а война - разве моя?.. как же быть с ней... война - ничья...
...а я - с коромыслом - румяная - от простора пьяная - с ведрами слез - под ногами кренится откос - все иду - меж синих сугробов - меж башен суровых - по грозному льду - иду - задыхаюсь - качаюсь - плыву - уплываю...
Лелька, а ты знаешь, я сплетни всякие собираю. Знаешь, что народ говорит? В базарный день на площади? Там, где кукольник трясет над красной тряпкой своим шутовским Петрушкой? Люди балакают: скоро, мол, опять Бог придет. Бога нет, нет, нет, нет, а потом Он р-р-р-раз! - и придет опять! Из-под земли выпрыгнет? С облаков слетит? Никто не знает! А Бога ждут! Хотя люди уж и не знают, Кто такой Бог. Забыли! А имя Его помнят.
А еще, знаешь, что бормочут? Что, мол, Бог прячется от людей, чтобы люди Его, как волки, не загрызли. А еще, далеко, высоко в горах, от Бога и от людей прячется еще один мужик. Этот вообще страшный. Ну как тебе объяснить. Такой... Противобог. Антибог. Совсем зверь, говоришь? Ты громче говори! Я плохо тебя слышу! Да нет, не зверь! Человек с виду! А говорят, внутри страшнее всех зверей. Вот это - настоящий Оборотень. Царь оборотней. Я против него просто пыль!
И, болтают, между ними, Богом и этим Тайным Зверем, и будет последняя схватка. Эх, жаль, Лелька, мы-то уж на нее не полюбуемся!
И такой на земле настанет ад, что наша нынешняя жизнь нам покажется светлым Раем. Опять нас изгонят из Рая! Выгонят, слушай, взашей! Плетями исхлещут! Лезвиями исполосуют! Там и будем убегать, в воплях, в кровище! И ветер свищет! И яблоки, золотые наши головы, в завыванье урагана валятся на землю!
Ах, Лелька, если бы я была Бог, я бы из твоего Рая - тебя первую изгнала! Да тогда, давно, мне чудилось, что изгнала! Я всем кричала, пальцем на тебя показывала: вон, вон она, злобная волчица, бежит, поджав хвост, трусит прочь, люди, швырните ей в бок камень, быстрее понесется! Я била тебя словами! Не хуже, чем плетями! Все, думала я, я изгнала ее из мира людей, из мира тех, кто перед ней благоговел и почитал ее, как царицу, как икону! Царица стихов, ха-ха! Не царица, а подстилка! Блудь! Да! Блудь!
Шваль! Мразь!
Ты бежала прочь из моего Рая, гадина, волчица, мое проклятье, а яблоки все падали вокруг, все падали, падали, падали... и тянуло запахом падали...
Да я согласна была даже им - стать! Ну, этим могучим Тайным Зверем, который сидит там, высоко в горах! Эх, вот так бы, как он, прийти к великой и всемирной власти! И возвыситься надо всеми! И знать все про всех! И всеми помыкать! И всем приказывать! А если захочу - и казнить! А чтобы другим неповадно было! Грех, ведь он наказуем! А любовь, я уже догадалась, это самый тяжкий грех!
Бога - за любовь казнили!
И Он благодаря этой позорной казни - стал Богом! А то так бы и умер под забором, дрожа и плача, в безвестии!
Лелька! Если бы я была царица, владычица, я бы тебя первую - на площади - умертвила! Виселицу бы тебе первой - возвела! И трубы трубили бы по всей моей стране, когда тебя вели бы на Лобное место!
Я думала... я хотела... я...
Что так таращишься на меня, ненавистница, а?! Мысли мои читаешь?!
Читай! Читай! Мысли мои - стихи мои! Мысли мои - слезы мои! Поцелуи мои! А твои - головешки в печи!
Я мыслила, что я тебя из Рая вытурила. А вышло так, что ты вышвырнула меня. Я сердцем и нюхом чуяла: на твоей стороне правда, ибо я кругом перед тобой провинилась! А признать этого не желала! И ветер шумел в ветвях, оглашенный, и яблоки падали, твердые, золотые, больно стучали о землю, гремели, звенели, падали и катились, ветер катил их, миг назад они свисали с ветки, а вихрь сорвал их, покатил по смоляной земле, золотые кегли... по черному крепу пожарища... по смертному, ядовитому пеплу...
Ветки, ветки... ветки Райских яблонь... золотые яблоки, золотые... хочешь откусить сладкий кусок - зуб сломаешь, выплюнешь...
А я в жизни так хотела любить... и мнила, мнила, что - любила... Я - к хорошему рвалась... к светлому... к празднику тянулась... Ветка-конфетка...
Что ты там мне опять бормочешь: подражание... повторенье... разум, мол, мой сотворен так, что приспособлен к обезьянству... Что?.. говоришь, я не Волк, а обезьяна?.. а-ха-ха-ха-ха...
Ха... Ха... Приспособиться... Собезьянничать... Да ведь весь мир, с незапамятных времен, Лелька, ты вдумайся, только этим и занимается... Да, я, Ветка-профурсетка, нагло и люто только и делала, что подражала! Подражала великому искусству! И, подражая, вот смех!.. сама понемножку становилась великой... становилась и становилась... становилась и становилась... И не поняла, как - великой стала! Да! Что зенки выкатываешь! Да! Я - великая! А ты - жалкая и тщедушная! Никому не нужная! А я подражала, подражала, подражала... над чужими стишками дрожала... любви подражала!.. да!.. другим бабам!.. ноги, как они, в койке раздвигала!.. как они, от счастья орала!.. как они, после - в сладких муках - рожала!.. Вот она, моя презренная мимикрия! Вот он мой, как это старый дед Аристотель говаривал там, далеко и давно, среди мраморов Парфенона, этот, как его... мимесис! Или мемезис, черт его разберет. Ну и что, что я все иноземные словечки и громкие имена неграмотно пишу! Перевираю! Мне наплевать! Поймут! Если надо, поправят! Редакторы, козлы!
Я - всему человечеству - подражала!
Жизни самой подражала!
Жизнь саму - у нее, у жизни - жадно и страдно - все крала, и крала, и крала!
Что, что ты там бормочешь? Лыка не вяжешь! Как пьяная! А раньше-то какая бойкая была! Что тебе ягодница во лесочке! Всякое лыко тебе лезло в строку! Что?! Не слышу! Повтори! Цветистая посредственность востребована, ибо она... что?.. бессодержательна? А-ха-ха! Кто это тебе наплел? Великий, говоришь, поэт? А как того поэта звать? Мне никто не указ! Ненависть, говоришь, не к другому... а к кому же? Ах, ненависть всегда направлена против себя?! О-го-го! Какого такого знаменитого мудреца, Лелька, ты ограбила, чтобы мне это - здесь и сейчас - наотмашь - в морду кинуть?
А я-то ведь тоже хитрила! Мудрила! Еще как! Я почему имя твое всем по слогам называла: орала: Оль-га Е-ре-ми-на! меня! бьет, избивает! убивает! распинает! в грязи валяет и катает! кричит, что я воровка! Да, вот так, люди! А вы как думали?! Я о тебе - все громче и громче кричала! Чтобы унизить тебя! Чтобы - раздавить! А самой стать героиней! Чтобы тебя все презирали! А меня - любили и превозносили!
И еще... еще потому... для того... чтобы... прославиться... чтобы... стать знаменитой... Ведь распятые - всегда знамениты! Ведь мученики прославляются! А в палачей - плюют! Мне надо было все перевернуть! И я вопила на весь свет: Ольга - палачиха, а я - жертва! Люди, любите меня, жалейте меня! И да, люди, вознесите к небу на руках - меня! Воспойте и хвалите - меня! Меня одну!
И меня - жалели! И мне рукоплескали! И я, Лелька, да, я - становилась знаменитой! Меня - читали! За мной - следили! Эта война с тобой, которую я сама выдумала и отчаянно развязала, приносила мне сладкие плоды! Райские яблочки, м-м-м!
И я ловила, как золотую рыбку, минуту славы! И я шла по городу, а мне шептали в спину: глядите, это она идет, она, рыжекосая красавица, поэтесса, ну, та, которую на весь свет ославили, воровкой обозвали! И я хотела оглянуться, да не оглядывалась. Знаменитость - она ни на кого не оборачивается! Она гордо идет вперед!
Да, я оказалась хитрее тебя! Ты - бесхитростная дура! Дурища, да! Я это тысячу раз повторю! И потом тысячу раз тебя поцелую! И щечки твои, и руки, и ладошки! А надо - и ножки твои исцелую! Мне что! Мне все равно! Пусть люди глядят! Еще знаменитее стану!Ты ж меня не знаешь, Лелька! Я та еще оторва! Я плачу, каюсь в грехах, а через миг нагло совру! И захохочу, и покажу в заливистом смехе все зубы!
Да, ты всего не знаешь, блудь! Не знаешь, как я кругами бегала, металась по городу, как работу искала, чтобы выжить, как ходила по людям с протянутой рукой: возьмите меня к себе, я буду вам все делать в лучшем виде, я старательная, исполнительная, ловкая и оборотистая, я вам еще пригожусь! Не знаешь, как я таскала тяжелющие бревна, когда сама - свой роскошный дом - строила! Как рожала своих детей, как взращивала их, билась рыбой об лед, как, едва восстав с родильного ложа, бросалась пищу для голодной семьи добывать! Я за пищу - дралась! Да, как зверь! Да, я и была волчицей, взращивающей детенышей своих, Ромула и Рема! Волчьими, висячими сосцами их вскармливала! А Ромул и Рем вопят, рты шире варежки разевают, глотки надсаживают! Есть просят!
Ну да, украла я твой стих про роды царицы, украла! Украла?! Да это я сама его и написала! Своей кровью - на царских простынях! На бедняцких! Не ты одна рожала! И я! И тысячи тысяч баб в целом свете! Корчились, извивались! Орали взахлеб! Подумаешь, царица! Да, ты ухватила в тех стихах корневое наше, вечное, бабье! Оно же и мое тоже! Я себе этот твой родильный крик - беззастенчиво присвоила! Да! Я воровка! Но тогда и все другие бабы в целом мире - твои воровки! У нас одни корни! У нас одни крики! Одна родильная кровь! Я и не стыжусь! Было твое, стало мое! Что?! Съела гайку?! Утрись! Отвали!
А хочешь, Лелька, я тебе песню спою? Даже не песню, а арию! Настал мой ча-а-а-ас, и вот я умира-а-а-аю! Тебя навек проща-а-а-аю! Да! Это я прощаю тебя, а не ты меня! Все перевернулось, мать, и ты тоже! Это ты передо мной навек виновата! И как же мне тяжело тебя простить! Как же больно!
...ох, как же мне больно, люди... А она сидит тут, рядом с моей постелью, сидит, совища, глаз старых, бездонных, с меня не сводит...
...а я ей говорю: Лелька, ты помнишь, помнишь, в нашем городе был вокзал, а в нем с потолка свисала такая люстра, ну, чудовищная такая, величиной с земной шар, совершенно жуткая люстра, ужасная, какое-то чертово колесо, а не люстра, вижу, помнишь!.. а ты помнишь, как мы все ею восхищались?.. как мы все ее любили, наблюдали, как диковинного зверя в зоопарке, приходили глазеть на нее, глядеть ее, как кино!.. такая волшебная люстра, ну ты помнишь, вся из позолоченных плоских висюлек, из бронзовых щепок, когда распахивали вокзальную дверь и врывался ветер, все золотые щепки разом отчаянно звенели! Звенели, гремели, погремушки! Вот что может выделать человек! Мастер! Толпа мастеров! И что? И война. И где теперь те мастера? Погибли! Наверняка! А люстра живет! Но и она ведь погибнет! Как пить дать! А тебе разве ее не жалко? Не жалко?! Но ведь она же такая красивая! Красивее люстры в мире нет! Красивее этой люстры только я! Я! Я одна!
Да, я красива, я красива, как все самое красивое в мире, и стихи мои красивы и бессмертны... люстра умрет, ее собьют с потолка, она упадет наземь и разобьется, разлетятся золотые лучины и бронзовые ножи... А стихи мои и через тысячу лет будут повторять! Вышептывать их! Рыдать над ними! Ты говоришь, что людям, мимолетным друзьям, вечерком у камина все про нас рассказала? Дура! Зачем! Они же ничего не поймут! Зачем сотрясала воздух! Глотку надрывала! Наше - это только наше! Этого никто никогда не поймет, кроме нас! Бестолковое дело исповедь! Обнажать душу?! Выбалтывать?! А! Хочешь сказать, что мы себя до дна выбалтываем в стихах! Да?! Это хотела сказать?! Ха! И это - правда! Ведь только в стихах и можно. Только в них! И грубить! И грабить! И оскорблять! И резать по живому! И клеймить! И головы отрубать! И на кострах сжигать! И распинать! На то они и стихи! Стихи, в них все разрешено! Все, за что человек человека осуждает, в тюрьму сажает и даже расстреливает! Потому что стихи - это природа! Это искусство! Это страсть! В стихах даже ненависть становится любовью! Правда, не всегда! А только в таких, которые написаны гениально! Я - гениальна! И ты это прекрасно знаешь!
Никто не знает... никто...
А я у тебя... даже дар - украла...
Нет! Вру! Это Бог для меня его - у тебя, гадины - украл!
И подарил. Протянул! Шепнул: бери, Ветка, владей! Топчи сапогами Лельку, всеобщее идолище поганое! Недолго ей жить на земле в качестве царицы! Возьми все ее богатства, ее корону скради и на себя напяль! И увидишь, что будет!
А ты и не подозревала, дура, что я на тебя нападала, чтобы защититься! От тебя! От мира! Мир-то, он, знаешь, какой жестокий! Сгрызет все твои косточки и не охнет! Мир, он хуже всех волков! Мир, он разбомбил мой роскошный дом и умертвил моих детей! Печаль твоя?! Через миг она станет гневом. Гнев твой рвет воздух вокруг? Ах-ха! Да через мгновенье он растает и превратится в жалкую, грязную лужу у тебя под ногами! А бывает, Леличка, гнев рождает гнев! Размножается! О, это самое страшное. Так рождаются войны. Слово за слово. Ругань за ругань. Взрыв... за взрывом... и покатилось...
А я ведь... я ведь, может, в маске полжизни была! Маску пол-судьбы своей так, смеяся, и проносила! На краю богато накрытого, праздничного стола за обе щеки ела-пила - да пошла ты к черту, моя могила! А нынче, нынче маску - устала! - как резко сдерну я! А под ней - дитя, девчонка, ребенок беспомощный, нежный, без малой защиты... Люди, не бейте! Вы все сегодня - моя семья! Я ваше дитя, ваш младенец, на войне под обожженным кустом позабытый! Под обгорелой крышей родной избы! Под грязной руиной сожженного храма! Люди! Я просто ребенок, без рода-племени, без судьбы, пока вся моя судьба - лишь это рыданье звенящее: "Мама! Мама!" Я ваше, люди, горько плачущее дитя! Взахлеб рыдаю и смеюсь сквозь великие слезы! Я плачу по вас, люди, вот забинтованная культя, вот пальцы - колосьями страшными на грязном снегу - обломал военный хирург в чудовищные морозы! Вы все калеки, люди, каждый чем-то да болен вдрызг! И каждый мыслит: ах, именно я добреду до Райского Рая... Вы все человеки, люди, а я ваш ребенок, подъел всю еду из собачьих мисок, но я голодаю по нежности! по вашей слезной любви голодаю! Я, девчонка голодная, со стола у вас стянула кусок, ну и что?! Вы что, от детской игрушечной кражи все враз обеднели?! И стою, и реву, запахнувшись в штопаное пальто - я, ребенок войны, сирота, красота, слезы прозрачней и яростнее капели! Я так страдала от снежков мне в спину... эй, вы, ну! Не отталкивайте меня! Это я, меж вокзального сброда и люда, все брожу меж вами, все вам руку тяну: ну, родные люди, положите в ладошку мне хоть корочку чуда! Хоть кусочек воли! Хоть кроху теплой любви! Что?.. бедны?.. у самих в карманах - дырявый ветер?.. И стою посреди вокзала, под сверкающей люстрой богатой, нищий храм на крови, одинокий ребенок, в слезах, одна на всем белом свете...
Любовь, где ты, где ты...
Люстра... люстра... Та, могучая, страшная, золотая... Медь звенящая... кимвал бряцающий... Лелька, я тоже бряцающий кимвал. Вот дрожу вся, звеню, кричу! Я всегда кричала. Вопила! Я всегда - ярко горела! На весь этот чертов грязный вокзал! Грязный, а из мрамора! Да, базарная баба я, да, ору, воплю и лузгаю семечки, а - красива! Неповторима! Не повторить никому мою наглость. Мой оголтелый звон на всю округу!
Люстра, я помню тебя, ты меня забыла, это все равно, ты звенишь на сквозняке, а сквозняк изо всех всю жизнь выдувает, и мертвое золото дрожит и стонет, а я человек, я хрупкая и драгоценная, я могу не кричать, страдая, не пикну, закушу губы в кровь, зубы стисну. Я помню тебя, ведьмина люстра! Твою красоту! Твой потолок, обложенный мраморной плиткой! Все разбомбили. Красоту убили. А Волкову - наказали: жить оставили! Жить!
Прошлые времена хочешь вспомнить... Губы так и шевелятся, сказать дорогие имена... названия всех наших кафешек, ресторанчиков, залов и зальчиков, где мы стихи читали... Анфилады и палаты, залы-зальчики, и халупы, и дощатые сараи... Все на свете были девочки и мальчики... лишь одна я, старуха, умираю... Как умру, вот стану я собаченькой! Вот кощенкой стану я облезлой... Девки, девочки, пацанки, шлюхи... мальчики... Стану старым ангелом... над бездной...
Чьи это стишки? Неужели мои? А, опять твои... Твои, Лелька! Твои, успокойся! Видишь, как я тебя наизусть знаю! Вслух читаю! И сама себе читаю! И потолку пустому! И серому небу мышиному за жутким окном! И тебе, еще живой, вот сейчас! А ты помнишь, Лелька, какое там, у нас, в те наши времена, было синее небо? Ярко-синее, густо-синее, пьяно-синее... ослепительное! Как я! Небо как я! Я как небо! Я и есть небо! А ты, Лелька, ты серая жалкая мышь, ты стой, задрав голову, и в небо гляди, и плачь! Пусть слезы льются!
Меня оплачь, что ли... если уж больше некому...
А зачем, вот ты скажи мне, ты, старая собака, ты!.. прислала мне тогда, мне!.. красавице длиннокосой и огнеглазой! поэтессе не с маленькой буквы - с большой!.. да что там - с огромной! с необъятной просто буквы!.. мои же собственные стихи? А?! Зачем?! Не слышу! Громче! Разевай рот беззубый! Отчетливей говори! Я глохну! Глохну как Бетховен! Ага, лепечешь чушь! Я так и знала! Устала, видишь ли, она! Устала! От чего устала? От кого? От меня?! Ага, от меня! Да без меня тебе не прожить и дня! Мы, мать, не просто сестры - сиамские близнецы! Хоть ты и шипела, гюрза, змея подколодная, пыльная веревка пустынная, всем и каждому, что я бездарность и воровка, буфетчица и пошлячка, бесстыдная торговка и ночной оборотень!
Ух ты! Что вскочила, мать? Не сидится на месте-то? Плохие слова я тебе бормочу, да? О Господи... что это ты делаешь... Лелька!.. Что творишь... Вынула из кармана помаду... откуда она у тебя?.. старинная!.. еще довоенная!.. И что? Помадой этой... на роже своей старой... рот себе яркий, кровавый рисуешь?.. Рот до ушей... хоть завязочки пришей... А-а-а-а! Рот твой смеется! Красный, скалится! Кривится! Изгаляется! И щеки себе красные малюешь! И лоб, лбище свой старый красными пятнами изрисовала! Эх, морда у тебя клоунская! Это рожа... это рожа... а-а-а!.. догадалась... Смеха! Это! Смех! Смех! Смеешься! Смеешься надо мной! Смеешься! Да! Боже! Как страшно! Как обидно! Чем я заслужила! Да я ж никогда! Я ж ничего такого! Леличка! Не хохочи! Прекрати! Отвернись! Мне страшно! Страшно! Прости меня! Прости! Прости! Ну не я это! Не я сама стала волком твоим! Это кто-то надо мной! Выше! Сильнее меня! Ну сожги мою шкуру! Ну повесь меня на суку! На гвозде, вбитом над дверью, повесь! Все равно ведь я умираю, я же сдохну сейчас, вот сейчас! Только не смейся! Не смейся! Не смейся надо мной! Ладонью закрой этот красный, опасный рот! Эту красную пасть! Чтобы мне не пропасть!
Смех! Смех!
Это пропасть! И я валюсь в нее!
Падаю! Падаю в твой смех надо мной, Лелька!
Лечу! Руки-ноги выше головы! Сейчас разобьюсь!
В осколки!
Хватит смеяться! Скажи хоть слово! Прохрипи!
Что, бросаешь все-таки мне в лицо эти свои грубые, злобные речи? Эти твои камни, булыжники! Забросать камнями, так просто! Разбить мне лицо, голову в кровь. Любуйся! Да! Все понимаю! Да! Ори! Отведи душу! Брызгай слюной! Все вытерплю! Ты долго терпела! Выговорись! Выплюйся! Выблюй прямо на меня из красного, страшного рта всю свою боль, свое унижение! Я мучила тебя, да! Я тебя пытала! Я была твоим волколаком! Оборотнем твоим! Зеркалом! Роскошным твоим чудищем! Много лет! Я - убить тебя хотела! Занеси камень! Швырни! Отомсти! Меня - зеркало - разбей!
В осколки расколоти!
А, не хочешь... Не можешь...
Слабачка...
Что приближаешь лицо?.. Любопытствуешь?.. Изучаешь, собака?.. Мои страдания исследуешь... злорадствуешь... Думаешь: вот она умирает, а я, а я-то остаюсь жить... Плохо вижу из-за слез... Да лик вроде у тебя и ничего. Морщины вроде как-то стерлись... расплылись... делись куда-то, как по волшебству. Колдунья ты, что ли? Это не ты колдунья! Это я колдунья: я же давеча призналась тебе... чем на досуге занималась... Какое наслажденье было... если б ты знала... мастерить из воска фигурки, одевать их в твои наряды, ты черное любила, благородный цвет... и я восковую... а когда глиняную... а когда пластилиновую... жалкую малютку, воробьиную бирюльку закутывала в черный штапельный лоскут, и называла ее Лелькой, и потом клала навзничь, и раскаляла на огне иголку, и... в сердце тебе втыкала... прямо в сердце... и шептала: сгинь, пропади... умри, гадина... в мученьях... Вот что я делала тебе! И ждала, что будет! И ничего не происходило! Плохое, видать, было мое колдовство! А ты теперь... зачем так жалобно смотришь на меня? Так близко... гляжу в тебя, как в зеркало... лицо мое плывет... я вся слезами плыву, заплываю... лицо все, лоб, щеки камнями твоими, стихами, разбито... кровь или слезы, не пойму... да все равно...
Ах, ты вопила мне, Лелька, что я Оборотень... Ах... Да в сказках наших все всегда и во всё - превращались! И не стыдились того! Все превращаются. Всё превращается. Оборотень - это Великое Превращение, ты, дура! Воин то во птицу быстрокрылую оборотится, то птица опять в богатыря в доспехах, и снова в бой. А ты, ты... никогда ты не думала, тугодумка, что Бог - это тоже оборотень?! А?! Что затихла... испугалась? Уши прижала! Бойся, бойся меня! И думай, думай головой! Господь, он человеком родился - а Богом - р-раз! - и обернулся! А Богородица? Так ведь и Она тоже - оборотень! Была - простой девицей, а прилетел архангел Гавриил, нашептал ей на ушко святые слова, и перекинулась девочка Мария - Божьей Матерью! А? Каково?!
Само непорочное зачатие - это такое оборотнево превращенье: ах! - и свет прикоснулся к телу, ох! - и тело мгновенно переродилось... обернулось, короче. Ясно тебе?!
Вот вообрази только! Медведко-Бог - да ведь это же оборотень! К женщинам смертным являлся и в женщин, покорных-послушных, дрожащих, вливал свое зверье семя, и рождались на свет Божий дети-Медведи... лесные цари... что, не от оборотня, скажешь? А тот, что мысию, сиречь, белкою по древу в древней летописи скачет, это, по-твоему, не оборотень? А под Иваном-царевичем серый Волк - кто ж это такой, вдумайся, а?! Друг его, брат его, зверий дивный, быстроногий брат! Скачет, лесные да полевые мили серыми мощными лапами мерит! Несет Ивана-царевича - куда?.. - к счастью, куда ж еще... к счастью!
А змей, змей... В трубу избы влетит - об пол грянется - да добрым молодцем, красавцем, обернется... и прекрасную девицу крепко обнимет. Зачарует собой, гибким телом своим, горящими очами! Ну да, змей змеем, и хитрец, и гордец, и на звездной дуде игрец... и возлюбленную - за собою - в потусторонний оборотневый мир - да-да-да, обхватив накрепко-горячо, навек унесет! Да как не любить того оборотня... и ты бы не устояла!
Оборотень - он был, есть и будет! Он - наша вода и воздух! Да что там! Земля под ногами! Да что я, бери выше: все сущее, весь мир подлунный - Великий Оборотень!
И надо, он тебя загрызет. А надо, сразится со злом! Его умертвит! Сожрет! Уничтожит!
Ты, Лелька, ты - мое зло! И я с тобой борюсь! И я тебя - уничтожаю! Ибо не должно зло в виде тебя, такой крылатой и любящей, пребывать на земле! И я кричу всем: доброта твоя - злоба лютая в маске добра! Крылья твои - лапы злобные, когтистые в виде крыл ангельских, на широком ветру шумящих! Маску - сорвать! Лицо Лелькино - грязью измазать! Крылья - топором отрубить, палицей исколоть, в кровавые перья искрошить! Вот как я хочу!
Ибо я добрый Оборотень, а ты - злой!
Не должно тебя на земле быть, слышишь! Не должно! И не будет! Буду только я! Я!
Я светлым воином обернусь - и моему родному народу победу принесу. А ты, темный оборотень, ты какой стяг над собой воздымаешь?! Молчишь... Да ты к воде, к воде ближе подойди! К нашей родной реке. Погляди с берега, с бережку зеленого, кудрявого в водицу чистую, холодно-неистовую. Что видишь? Ага, отраженье! Ну да, отражаешься. Рожу свою видишь. Свою?! А через миг она - птичий клюв. А через миг - зверья морда. О, зверь зверей, морда морд, пасть пастей, природа природ! Рычи, зверь, это значит - пой! Песня твоя. И моя тоже! Не ругай меня, Оборотня Великого, не проклинай! Я разбойничать и оборотничать-то пошла из-за чего?.. из-за того, что по бережку реки бегала, аки лиса рыжая, выла-подвывала, аки волк с шерстию встопорщенной, собакой лаяла, кошкой потерянной, брошенной мяукала-вопила! С бандитами у костра прибрежного, рыбацкого - водку пила! Без закуски. И стихи им читала. А они, бандиты, смеялись: уж больно хороши у тебя стишки-то!.. валяй еще!.. любо!.. И я читала-пела им, ночным людям-зверям, свои стихи... ах, Лелька, да разве ж ты когда такое чудо испытывала - свистеть на ветках ветлы приречной - цветною птицей, выть среди людей-убийц зверицей покинутой, голодной! Время тогда такое стояло, помнишь, Лелька?.. голодное, холодное.
А кто такой человек? Не зверь ли? То из тени на солнце выбежит, то опять в тень шарахнется. Прячется! Не хочет убитым быть. В упор расстрелянным не хочет быть. Не утопишь Оборотня: он в последний миг - р-раз! - и рыбою перекинется! И поплывет, рыбонькой красноперой, царицей речного простора, в стихии родной, сладко-прозрачной, дивно-призрачной. До дна вся вода видна! До дна звездного - неба роскошную плащаницу видать! Ах, это я, я пронзаю его горящим, безмерно любящим взглядом!
А ты мне вопила отчаянно: Оборотень, Оборотень треклятый!.. Дура ты. Если обернусь, человек, зверем - внутри любых человечьих войн выживу! А если захочу к человекам опять вернуться - да на раз-два, знаю волшебные слова! Когда все вокруг волками станут, зубами все до единого зверьими защелкают - я дуну-плюну, через девять острых лезвий перекувырнусь, через девять пылающих огней перепрыгну - и из волка вновь стану человеком!
Оборотень... На, на вот тебе зеркало, Лелька! Вот, вот, к носу твоему поднесу! Не отворачивайся, гляди! Не волчья ли шерстка, седая, унылая, жалкая, на твоей курьей башке? Не зубы ли волчьи, длинные да желтые, хищные ножевые клыки, предательски торчат из твоего старушьего, впалого рта, а ведь такая нежная, яркая улыбка у нашей Лелички сияла, а уж так ротик розочкой прелестной горел-пылал, бутончиком под солнышком теплым распускался! А вот, вот зеркалишко-то! Гляди! Заглядывай глубже, как в воду! Что видишь? Не желтые ли, острые, жестокие волчьи глазенки?! Зыркают туда-сюда... добычу ищут...
Поэт - да, оборотень! Не прикидывайся незнайкой, все ты прекрасно знала! А я ж тебе лишь напоминаю, о ясном, об очевидном! Поешь о медведе - стань медведем! Поешь о зайце трусливом - стань зайчишкой! Поешь о гордой орлице, в небесах синих, вольных летящей-парящей - стань той орлицей, с размахом великих, всеобъемлющих крыльев! Что там бормочешь?! Что я передергиваю? Что великий закон всей жизни, закон об изменении и перевоплощении, нагло, обманно подменяю законом оборотничества?! А-а-а-а-ах! Вон оно что!.. Ну да, да. Да! Подменяю! Ну мне же надо как-то гордо, красиво себя оправдать! На Оборотня - царскую корону напялить! Ибо он, Оборотень, он, дура, великий поэт! Он сверкает, царит! А все остальные - у его ног: валятся ниц, дрожат от восторга, страха и любви, повержены, любят-завидуют, ибо не могут, как он, всеми на свете существами обернуться! А хотят! Хотят, как он! Ибо Оборотень - всесилен!
Все оборачивается. Был один - стал другой. Был старый - стал новый. Был живой - стал мертвый, а живою водой побрызгали - стал опять живой. Обернулся! Это значит - воскрес.
И что?! Рот мне не заткнешь! Все равно на весь белый свет крикну: наш Бог - Оборотень! Был человеком, обернулся Богом! Был казнен и погребен, а обернулся - и воскрес! Ха! Вот вам! Вот тебе, вот тебе, Лелька, накося-выкуси!
А поэт, поэт поет, и оборачивается то мужиком, то бабой, то младенцем непорочным, то палачом лютым, то вором-ворогом, то предателем-Иудой, то преступником... то дождем, то снегом обернется, то рекой текучей польется, то дымом от костра в ночь взовьется... перекинется - и рассыплется звездами по ночному смоляному зениту! И тут же, в миг один... ворвется во чрево, свое зачатие будет наблюдать... зародышем станет, из него же завтра всё, весь мир начнет быть-становиться... а он уж малютка такая, булавочная головка, искра огненная, кроха жалкая, клеточка незримая, не видная никакому глазу, ни звериному, ни Божьему...
Если птицу поешь, поэт - пой птицей! Птицей - по небу - лети!
Если о рыси поешь злобной - стань рысью, прыгай с кедра на добычу, в загривок ей зубы вонзай!
Если ты, поэт, о казни разбойника песнь голосишь - вселись в него, несчастного, им обернись! Стань им! Сейчас его копьями пронзят, и голова его с кровавой плахи покатится. Переживи вместе с ним, внутри него его последние минуты! Ведь это, дура, твои минуты! Твой последний воздух в легких! Твоя последняя песня!
Пой, поэт, ты Последний Оборотень. Ты - можешь петь! Когда вокруг никто этого давно не может! А ты - так рожден, и вот так перерожден, ибо колдовское слово знаешь, ибо из смерти в жизнь бабочкой, горлинкой, лебедицей, волчицей - перетекаешь!
Из тени в свет перелетая... Господи, кто сказал, когда...
Оборотень - я?! Да!.. и еще какой! По-волчьи вою, по-птичьи свищу, по-медвежьи воплю, по-соловьиному серебряные рулады в ночи рассыпаю! Я никогда не казню ни одного Оборотня, я их - вижу, чувствую! Люблю! Ибо они - это я! Я - это они! Я вселяюсь во всех, я есмь все живое и все превращающееся! Да, я прикидываюсь! Да, я исчезаю и появляюсь! Да, да, я одна, и тут же другая, а через время одного вздоха - третья, пятая, десятая! Не поймаешь меня! Под языком я храню и мед, и яд! Из горстей лью воду и мертвую, и живую! Меня пронзят деревянным копьем - изрубят мечом-кладенцом - а косточки мои мгновенно силой нальются, а жилочки срастутся! И вот я снова живу. Возродилась! Крылья раскинула! И над жизнью, над смертью лечу! Над смертью твоей! И своей! Потому что моя смерть - это всего лишь заклинание Оборотня: обернись в раннюю рань, из мертвых - восстань!
Что лепечешь, Лелька жалкая?.. опять про Бога?.. Бог, Бог... Да наш Господь под сердцем у Матери Своей - всеми земными и звездными жизнями бился-толкался, оборачивался-кувыркался! В околоплодных водах занебесных - плавал-сиял! И был Он тогда всем на свете, всем живым, всем оборачивался, что дышит, движется, страдает и празднует свободу: и змеей гибкой, и рыбой холодноглазой, в чешуе сребристой, и червем извивающимся, рабьим, печальным, подземным; и птицей летящей, высоко парящей, о чуде поющей, под облаками сущей! И зверем лесным был, с подшерстком серым, колючим, тугим, с загривком, выгнутым во гневе-испуге, в упоении жестокой битвы - за жизнь, за пищу, за кровь, за любовь! А потом... потом... Лелька, потом Бог, зверий, цветочный и птичий, красно-рыбий, всевластно-глыбий, обернулся - для нас, несмышленых, своей враждой глупо упоенных! - человеком... и шепнул: люди, люди, яблоки вы на блюде, на земле Моей Мiръ, в человецех благоволение... и на человека того накинул ученик его, рыбак Андрей, сперва белый снеговой хитон, потом медвежий горячий тулуп, мохнатый ворот у самых губ... осыпал его звездами метелей, галактиками кедровых постелей... а Господь валенки не надел, вдаль поглядел, озеро не стынет, вода плещет зимнею синью... и босою ступней на водицу наступил, и шагнул, и пошел, пошел, пошел вперед... по лукавому льду, одолевая жаль-беду, а я-то от Тебя, Боже, Великий Оборотень, не отойду, за тобою волком, след во след, по чистой воде пойду... по всей земле пойду!.. стопы купая в синеве, в жаре-мареве, во сливках, во цветах-травах, в меду... Ты идешь, я за Тобой, Небесный Оборотень, Звездный Свет мой, мой...
Ах, хорошо!.. Время надломилось, сломалось. И ты сидишь, старуха, вот на меня глядишь! Бормочешь глухо! Да, я всю жизнь кричала тебе, что ты получала за свои книги огромные деньги! Хотя знала, знала, дура, что ты бедная, нищая ты, как церковная мышь! Вопила, что сердце твое стало мохнатым оборотнем и само себе стало завидовать, и само себя стало сжирать, зубами зависти перемалывать! Так я ворожила, так колдовала... так шептала - и сама в это свято верила... Это была моя молитва. Хочешь, я ее теперь тебе прочитаю? А простая она, как лапоть! Вот такая: я хороший Оборотень, Лелька, а ты, ты - плохой! Я ясная-прекрасная, а ты отвратная-закатная!
Так я молилась: сгинь-пропади, оборотись во слезы-дожди! А я, Ветка, цветущая яблони ветка, буду с небес синих - златом светить, зверей-птиц-людей по-Божьи любить!
Что шепчешь... не слышу... почему всех любить, а тебя - нет?.. А это ты, Лелька, себя спроси. Потому что ты не Птица Гаруда! Не жаворонок звонкий над полями! Не Павлин Царский, не Феникс Господарский! Не Сирин ты, не Алконост, не Гамаюн! Высохла твоя великая река!.. высохли глаза твои, остыли горячие руки твои, вымерзла душонка твоя, обросло шерстью волчьей сердце твое!.. так вот кричала я тогда, века назад, и сейчас так буду кричать. Потому что это мое заклинание тебя! Так я свою ненависть обращаю в любовь!
Я по-другому... не могу...
Мне так хочется, Лелька, это уж я тебе по секрету скажу... чтобы ты вся дотла выгорела, как костер на берегу! Чтобы ветер только головни того кострища развеивал... черные, сожженные кости твои! Я спала и видела тебя - мертвой, выжженной, выпитой, высохшей! И заклинала-молила, чтобы ты перекинулась - и обернулась скорее, скорей - не человеком, не божеством, не поэтицей, не лебедицей, не ангелицей, не дьяволицей: нежитью! Чтобы скорее, скорей ты улетела - черным пеплом с когда-то бушующего, слепящего костра - в Царствие Навье!
Ах, Лелька... К чему меня призываешь, старуха бессильная... К покаянию? Да и без тебя знаю: надо - каяться! И покаюсь. И еще как покаюсь! Мне - не впервой!
Каюсь, Лелька, каюсь.
В том, что не распознала тебя, не увидела-не услышала, что ты - не певица небесная, а хриплая мертвячка.
Каюсь во слепоте своей - что не видела: у тебя не стихи, а корявое заиканье, невнятное запинанье, бессильное заклинанье!
Каюсь, что слова твои в закрома свои утаскивала, а не надо было, ибо словеса твои - тьфу!.. гниль и пакость. Слух, разверзнись! Глухотой надобно слышать. Слепотой надобно видеть! И плевать, что я человечицей всю жизнь пробыла; надо уметь и волчицей, и лебедицей, и белорыбицей-царицей оборачиваться! И вот каюсь, что не умела, что - боялась!
А ничего бояться не надо! Ненавидишь - так ненавидь! Любишь - так люби!
А спрятаться хочешь - так обернись невидимой да спрячься в пустоту!
Завернись во звездную, алмазную красоту!
Все равно тебя найдут те, будущие! Все равно - по буквицам - раскопают, разгадают!
Все равно - споют!
Буду умирать - и вдруг - с одра смертного - восстану, воспряну! Стану молодой да красивой! Сильной, яркой, ослепительной! Как встарь! Ведь я Оборотень! Вот - юностью старость обернулась! Жизнью - смерть, последний ее приговор! Что, вчера была дрянь, преступница, мерзавка?! Так сегодня - светлая, чистая, ясная, святая! Ярче Солнца, серебряней Луны!
А ты, ты... ты помнишь ли, прочитаешь ли... споешь ли сейчас мои стихи, Лелька?.. Я-то свои стихи, песни свои малиновые, утренние-соловьиные, все наизусть знаю. Все! Да и твои - знаю! Будь они неладны! А память у меня такая. Умирать буду - на смертном ложе стихи петь буду! Обернусь - стихами... звуками и словами... песней останусь, люди, между вами...
Как это, Господи... как, бишь, эта музыка, эти звуки...
...я молюсь лишь об одном: чтобы все не стало сном. Чтобы, жестко и жестоко, жадно руки мне скрутив, жизнь мне вдунула - до срока - в душу - МИЛОСТИ мотив. До отмеренного срока: я, черна, гола, нища, задеру башку высоко, сгибну, плача, вереща, но спою!..
...лимонным соком выжатым; казнящим током; я, пастушия праща, родинка на коже Бога, - все спою, что суждено: кану полночью на дно.
И отыщут. И заплачут. И рубаху разорвут. И за пазуху запрячут. И тихонько запоют. Все слова мои соврут. Всю слезу мою сольют. Боже, Зрячий и Незрячий, - неужели... все умрут?!..
Кто это спел?.. Я... или ты?.. Ах, мертвячка... поганка... так то ж опять ты... Ты, ты, ты... И рада бы не помнить, не петь, да ведь помнится... и поется...
Каюсь, Лелька! Каюсь, что стихи твои помню. И песни - помню. А лучше бы не помнила! Лучше бы - свободой от тебя навек - обернулась!
Ты двойник мой! Тройник, четверник, пятерник!.. мой многогласый патерик... Не избавлюсь от тебя никогда! И каюсь, каюсь, что - избавиться хотела! Каюсь в том, что о твоем исчезновении из моей жизни - мечтала! Мешала ты мне! Ты - мое место занимала! Каюсь, что поздненько я обнаглела, осмелела, голос против тебя возвысила, плюнула тебе в лицо! А надо было тебе еще тогда, в младые годы, бесстрашно швырять в рожу: ты, волчья седина, злой подшерсток, исписалась, иссохла, иссякла, изникла! Но, видишь, нашла в себе оборотневые силы - хоть в старости тебе этот камень прямо в сердце бросить!
Мучься! Плачь! В муках рождается новое сердце. Новая жизнь.
И от страданий - новые стихи поются!
Нам ли с тобой этого не знать!
Пою на разные голоса. Ты меня научила! Поклон тебе. Пою молчаньем, свеченьем, пыланьем, обещаньем. Ты меня научила. Слава тебе! Кричу взахлеб, так, что на другом конце Земли, в Гондване военной, слыхать. Ты вселенскому крику научила меня! Так и пою, лепечу, свищу, плачу, кричу, молчу на разные лады. И я уже не я, а хор. Я - народ! Целый народ! Жгли его в войнах! Били-убивали! В упор стреляли! Во гробах целовали! А я - за него, за весь народ - хором пою!
Я. Одна.
Я! Но не ты!
Каюсь, что не спела на моей земле мою главную песню. Но ведь спою! Мне плевать, что я умираю. Наши песни будут петь после смерти нашей! Так всегда бывало на земле! Лишь бы осталась хоть горстка живых душ. Тех, кто восплачет над буквицами... и воздух древней силы вдохнет... и выдохнет... и меня - запоет...
А тебя?.. тебя... тебя...
Я призывала - и я ниспровергала. Я утверждала - и я отрицала. Я же Оборотень! Я же не могла застыть навек. Я никогда не хотела остаться навсегда. Я не верила - а назавтра я верила свято, упоенно! Я разбивала иконы - и я кидалась на колени перед ними, расколотыми, и склеивала их своею кровью, и сшивала их своими кровеносными сосудами, жилами своими и сухожилиями, и билась лбом о сухую землю, поливала ее живыми, густо-солеными, кровавыми слезами. Я была сначала одна, а потом тут же другая. Такая уж я! Мой девиз был всегда: покайся и солги!
Я тут же покаюсь и тут же солгу!
Я - так - жила...
Что, спросишь, хотела ли я жить по-иному? А!.. так я же Оборотень. Разве он может быть другим? Он же все время меняется! Он - текучая вода! В нем ложь и правда! А ты мне шепчешь: научись... не оборачиваться...
...крик был: не оглядывайся!.. Оглянулась я...
...это ты стоишь, Лелька, соляной столб, или это я стою?.. и ветер крутит то ли мои седые кудри, звездные лохмы, то ли твою короткую стрижку, седую волчью челку... волосы налезают на глаза, на закрытые в тоске веки... на давние, дивные, горькие века... все прожито, изжито... выжито... выпито... но мы, мы начнем сначала... еще воздух в легких остался... для того, чтобы глубже, глубже вдохнуть - и запеть...
Ты знаешь, Лелька, я вот Оборотень, и я, между прочим, голос свой, состоящий из целого хора голосов моих родных, больше жизни люблю... и я сама не знаю, честно, кто такой на самом деле Оборотень... почему он такой... и я не понимаю, почему я Оборотень, и я втайне не верю, что я Оборотень, а верю, что оборотни все вокруг... а я - нет... я втайне, знаешь, думаю так: все вокруг меня бездарности, а я одна - поэт поэтов, певица всех певиц, подлинный, соловьиный талант, чарующий голос... все в Золушкиных затрапезках, а я одна - в короне, в лебединых, снеговых парчовых перьях, и во лбу - сверкающий алмаз... но, знаешь, сейчас я бросила так думать... вот сейчас!.. больше всего мне сейчас хочется родиться на земле во второй раз.
В десятый... в сотый... в бесконечный...
Леличка, а может, ты знаешь, ты же все знаешь, ты ж у нас умница-всезнайка, зайка-побегайка, может, где во врачебных, лечебных закромах сокрыта, яшмой-яхонтом зарыта такая чудесная таблетка, ну, лекарство такое, выпьешь его - и живешь долго, вечно... о, сколько превращений ждет Оборотня на вечном пути!.. ты меня, бывшую воровку, насурьмленную бровку, висельную веревку, научила быть собой, и я изо льда побежала в жар-тепло, и я встала, встала на крыло... а я тебя, за всю-то вечность, нам сужденную, научу оборачиваться... это так соблазнительно, так привольно... так счастливо... драгоценно так...
Вот зерно, Лелька... оно оборачивается - журавлиным, длинношеим деревом... над рекой... над холодной рекой...
А на том берегу реки - свет. Костер рыбацкий пылает... горит... далеко... в ночи...
Это я горю, Лелька. Это я горю.
Ах, не знаешь, не знаешь ты, мышь запечная, кошка ты драная, как я неистово, неохватно любила землю мою! Милые мои реки и поля, чистые синие озера и затерянные в лесах деревеньки! Как я моталась по этим заброшенным деревням - и там, вдалеке от душного, безумного многолюдья, трем древним старухам у печки - стихи читала! Я любовалась ликами этих старух! Я любовалась родиной моей! Великой, старой, престарелой, и такой юной, такой нежной, вся земная нежность глядела на меня из синих, прозрачных, небесных очей тех сморщенных старух! Я читала, а старухи плакали! И мне моя жизнь чудилась - не напрасной! Да! Не напрасной, если три этих старухи у жарко натопленной печи слушают мои стихи и ревмя ревут! Слезы - заячьими ушами белых платков - утирают!
И так, и только так я могла выразить родине моей мою великую любовь!
А ты, небось, так, как я этих старух, никогда никого не любила!
А меня люди - любили! Публика моя - меня на руках носила! Ну да, что глазенки вылупляешь?!.. однажды из зала так и вынесли - на руках! Триумф! Кричали: Волкова - поэтесса номер один, номер один! Лучше Волковой в мире нет! А платье на мне тогда так сияло, глазам больно... как солнце... парчовое... из золотой парчи... переливалось, мерцало... как праздничная риза иерея, прости Господи... я его, помню, специально для того многолюдного концерта - в лучшем ателье заказала! И так пошили мастерицы, пальчики оближешь, сидело на мне, как влитое! Я в нем шествовала золотою царицей! Выбегала на сцену - зал взрывался и грохотал! Мои сумасшедшие концерты, я тоже, как и ты, давала концерты! И я была не лыком шита! Я - была артистка! Настоящая Ветка-артистка! А не ты! Не ты! Я покупала себе богатые, блестящие, с люрексом, ткани, усыпанные узорами, цветами, колосьями, бабочками, изумрудными скарабеями, золотыми шмелями, искрами полуденного зноя, мощную парчу и невесомый атлас, полночный панбархат и прозрачную, чтобы тело соблазнительно просвечивало, в морозных узорах, в алмазах инея, зимнюю тафту, белопенное кружево и сверкающий кровью на ноже, красным флагом в лицо бьющий плюш, чтобы шить роскошные платья! Я примеряла их перед зеркалом, вертелась... мне хотелось... да, мне хотелось!.. быть роскошней, чем ты! ослепительней! призывней! прекрасней! Затмить тебя сияющей одеждой! И декламацией своей красивой - затмить! Я всегда читала стихи на высокой ноте! Просто-таки визжала! Оглушительно! Огненно! Полоумно! А почему?! Чтобы тебя взорвать, разрушить - глоткой своей! Криком своим! Сжечь визгом тебя до пепла! Перепеть! Перекричать!
Чтобы крик мой - на всю землю раздавался, на все небо! И чтобы ты услыхала его везде, всюду! И уши затыкала, а голос мой все равно буравил твою башку!
Душу твою поджигал!
И ты бы горела, горела... шкура бы горела твоя, твоя улыбка, твои щеки, глаза и зубы, твой скелет, вся твоя жизнь... бумага твоя, рукописи твои... твои никому не нужные стишки, твои никчемные, бессвязные строчки... кто их теперь читает... после двух страшных войн... и еще войны будут... еще будут... а тебя - не будет... да и меня, мать, не будет...
Ты-то - навек застыла, надгробный памятник, в своей никому не нужной, ледяной любви! А я к ней - иду! Я - бегу к ней! Сбиваю ноги в кровь! Ору: любовь, эй, любовь, безумка, дрянь, блудь, где ты?! Погоди! Дай хоть за подол твой ухвачусь! Пальцами, как когтями! Не убегай! Любовь моя! Дай догоню тебя! Давай бежать вместе! Вдвоем! Я не волк! Я любовь! Ты любовь, и я любовь! Я всю себя для любви перелеплю, переиначу! Распорю и заново сошью! Всю себя до корней вскопаю! А потом в себя - зерна посажу! И вырастут яблони! А на них яблоки! Золотые! Райские! Вот чем я стану! Я стану - любовью, землей! И, когда захотят выкричать клятву, на меня, землю, на колени встанут и будут есть меня! Меня! Теплую и живую! А не тебя!
Не тебя, дура, глыбища ледяная!
А хочешь знать, зачем я на тебя в суд подала?.. Зачем судилась с тобой... с тобой!.. со своей проклятой судьбой!.. Думаешь, мне хотелось на весь город, на весь мир, перед всеми людьми - тебя пугалом огородным выставить?!.. чтобы обвинители и судьи исхлестали тебя всевозможными жестокими словами, как плетями?!.. избили на моих глазах.. издубасили... искровавили... гвоздями в жизнь твою, жизнешку никчемную, вбили приговор... да, да, ты так думаешь, так!.. А вот и нет!.. А вот и не угадала!.. пальцем в небо попала, дура... все не так! Я подала на тебя в суд не для того, чтобы ты страдала! А для того, чтобы я - перестала страдать! Чтобы себя - спасти! Суд тот, отвратительный, гадкий, был для меня - лекарством! Операцией! Реанимацией! Иначе я бы просто испустила дух! Под забором подохла!.. от ужаса... от боли... оттого, что я такая, какою родилась... а ты - другой не станешь... да, просто оттого, что ты - есть... Ну, чтобы хоть кто-то принял - мою сторону! Встал - на мою защиту! Не на твою! А тебя - разрезал острым тесаком правосудия, и соль тебе густо, горкой, на рану посыпал! А не мне! Не мне! Чтобы тебя, не меня осудили! Тебя - приговорили! Наказали! Хотя я видела, прекрасно видела, что правда - у тебя! А не у меня! И это было ужасней всего! Это было для меня - смерть! И я шептала судьям, сидя на той поганой скамье: судьи, судьи... оживите - меня... спасите - меня... дайте мне напиться вашего правосудия... из кружки... перебинтуйте мне рану... сердце - кровит... и кровью изойдет... и вытечет вся кровь... и больше - не будет - Ветки-конфетки...
А ты сидела на той дрянной скамейке, гордая, вся железная, жесткая, как ржавая кочерга, и только глаза у тебя горели! А рот на замок! Молчала! Ждала! Что-то, не помню что, крикнула! И тут же захлебнулась. Будто плыла и вдруг стала тонуть. И больше ничего не кричала, не шептала. Молчала. Молчала!
Суд говорил, а ты молчала.
А у меня сердце стучало, стучало.
Что ты мне там выстукиваешь... кулаком по столу... костяшками пальцев... точки... тире... точки... точки-точки... тире-тире... брось... не достучишься... ни до меня... ни до Бога... ни до людей... ни до кого!.. а зачем нам кто-то?.. спи-усни... мы с тобой сейчас одни... мы с тобой одни навек... снег... снег... снег!.. ах, Лелька... недолго уже... недолго...
Молочные реки... кисельные берега... Лелька, Лелька, расскажи мне сказку... в стихах...
Что ты шепчешь там?.. ох, не разберу... Говоришь - понимаешь?.. Говоришь - давно поняла?.. Бормочешь: и давно, давно уже... давно уже - что?.. а ну, повтори... не слышу... еще, повтори громче, еще!.. Простила?.. Простила?..
А что это за слово такое - простила?.. растила?.. может, простыла?.. не слышу...
Ты - меня - простила?.. ох, ты - меня... диво какое...
Ах, Лелька... ну, иди сюда... ближе, ближе... не бойся, я тебя не укушу... не съем... да нет, не загрызу, какое там грызть... меня самое сейчас тьма загрызет... и косточки не оставит, все смолотит, до хрящика... Леличка... ты же видишь, Леличка, я же на самом деле хорошая... я - добрая... светлая... я - дрожащая ветка... весна придет - я расцвету... а зима - иней облепит меня... в шубу оденет... буду качаться, дрожать на ветру... я просто Ветка, Ветка... живая!.. живая...
Ну, ближе, ближе... Перед смертью ведь люди всегда говорят друг другу всю правду... Всю-всю-всю!.. как на духу... Ты еще тело, Лелька, а я уже дух... Любишь огонь? Всегда любила?.. А огонь... он любил тебя... и любит сейчас... все больше, сильнее... А я?.. Люблю ли - я?.. Люди!.. люди... Я хорошая! Я такая нежная! Я - сияющая... глядите, как сияют мои глаза... как небо... я их - в зеркале вижу... в тебе, Лелька... ты такое хорошее зеркало... Ты - меня - всю - отражаешь... какая я есть... Спасибо тебе... ты - это я... и не спорь... разве это плохо... я сейчас умру... и выдохну душу... и всю ее - в тебя перелью... и буду в тебе жить, да, Леличка, да...
Ах... морда волка торчит из-под кровати?.. да брось, это старая шуба... рваная... задвинь ее под кровать, поглубже, ногой... наступи на нее... раздави... выбрось во двор с порога... сожги... она больше уже не нужна... Кончился волк, затих, распластался... сдох... теперь только освежевать... и шкуру - на новое чучело пустить... Да брось, смейся, веселись... хохочи во все горло... скаль кровавый, помадой нарисованный рот... волк уже - мертвый... он давно - мертвый... я просто так, им, от горя, от безумья - спасалась... чтобы глубже тоску свою внутрь забить... осиновым колом... пробить... я ведь - не волк... не воровка... Лелька... нет... я - твоя мать... твоя сестра... твоя дочь... твоя душа... твоя... любовь...
Да... твоя любовь... хочешь не хочешь, а люби... какая есть, такую и люби... так суждено... так назначено... Я - хорошая... Я - светлая... Я - добрая, я сплошное добро... сплошной свет... во тьме... во тьме... Лелька... Лелька!.. ближе наклонись...
Вот так... обнимемся... наконец-то... по-настоящему... крепко обнимемся, крепко... так... еще крепче... чтобы не разнять... не расцепить... хватаюсь за тебя, ты такая родная... ты мне родная... роднулечка моя... сестренка моя... никакой зависти нет и не было... никогда... никакой злобы... ничего черного, ужасного... никакой крови, Лелька... она - приснилась... да все приснилось... одна война, другая... новый мир... гибель, смерть... а я хорошая... ты же видишь, какая я хорошая... почувствуй, какая я хорошая... добрая... как люблю тебя... крепче обними... какие у тебя белые космы, просто снег... вся седая... ну?.. помирились?.. помирились... наконец-то... я ухожу спокойно, нежно... Леличка!.. ты меня - простила?.. да?.. ой, какое же счастье... счастье... и я тебя... и я тебя... простила...
А все равно я тебя ненавижу... ненавижу!.. да!.. Ненавижу - и люблю...
И ненавижу тебя... и люблю... так люблю... ненавижу... Боже, зачем я люблю... и ненавижу зачем...
Любовь... где ты, где ты, любовь...
Посмотри в мое царское зеркало... ну посмотри... видишь, мы там две сестры?.. Ты волчица, и я волчица... ты человек - и я человек... Ты ангел - я ангел, ты демон летящий - и я, я, веселая демоница, лечу в зените вместе с тобой... За руку тебя крепко держу, не дрожу, весело смеюсь, за тебя всем сердцем молюсь... Ты Люцифер, а я Веспер... или Геспер, да кто ж его теперь разберет... Ты демон поверженный - я рядом с тобой на земле лежу, от ужаса плачу... от ужаса и счастья тебя обнимать, навек, напоследок...
Там, на небесах, ты помнишь, помнишь... мы были родные, кровные... вольно летящие... настоящие...
Слушай... родная... а давай вместе, вместе уйдем?.. Ну... обнимемся и так уйдем... и нас вовек не позабудут... а пусть забудут... я всю жизнь хотела удрать от смерти, а теперь мне уже все равно...
Поцелуй меня... пожалуйста... поцелуй... на прощанье... и на прощенье... и - на встречу... ведь мы с тобой там увидимся... где?.. ну, там... ты понимаешь... сама знаешь, где... там... где мы с тобой бессмертны... Лелька, дурочка... там... в бессмертье... а где же еще...
Поцелуй... я люблю тебя... я...
***
Солдат Макар отбил телеграмму Хельге. Из Гондваны. Прямо на почтамт.
Так и написал адрес: "ЛЕМУРИЯ-КВАДРАТ-63 ГОРОД 125 ПОЧТАМТ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ ПОЧТОВОЙ СЛУЖАЩЕЙ ХЕЛЬГЕ ФАМИЛИИ НЕ ЗНАЮ".
И стояло в той телеграмме издалека, не буквами, не нотами, не иероглифами, не иными знаками, - точками и тире, тире-точками, это билось далекое сердце солдата:
"ДОРОГАЯ ХЕЛЬГА С ПРИВЕТОМ ИЗ ГОНДВАНЫ СОЛДАТ МАКАР ТЧК БОИ ИДУТ УСПЕШНО МЫ РАЗБИЛИ ПРОТИВНИКА НАГОЛОВУ ВСКЛ ЕСЛИ ПОБЕДИМ УСТАНОВИМ НА ЗЕМЛЕ МИР БЛАГОДАТЬ ТЧК КАК ВЫ СЕБЯ ЧУВСТВУЕТЕ НЕ БОЛЕЕТЕ ЛИ ВПР БЕРЕГИТЕ СЕБЯ ВЫ ХОРОШАЯ НЕ ГРУСТИТЕ ВСКЛ МУЖ К ВАМ ВЕРНЕТСЯ ДЕТИ ВЕРНУТСЯ И Я ВЕРНУСЬ ЖИВОЙ ТОЛЬКО ЖДИТЕ ТЧК Я ТУТ ДОЧКУ НАШЕЛ ВМЕСТЕ С НЕЙ К ВАМ ПРИЕДУ ЗПТ ДЕВЧОНКА НА ВАС ОЧЕНЬ ПОХОЖА ТЧК ЗАБАВНАЯ ЗПТ ВЫ ПОЛЮБИТЕ ЕЕ ТЧК ВРАГ НЕ ПРОЙДЕТ ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ ВСКЛ ОБНИМАЮ МАКАР"
В окне, где сидела раньше Хельга, теперь сидел мальчик. Его рука лежала на рычаге аппарата Морзе. Синие глаза горели подо лбом строго и сердито. Мальчик принял телеграмму, протягивал ленту с точками-тире через пальцы; расшифровал. Лента бумажной змеей ползла на пол, сворачивалась у ног. Ноги мальчика не доставали до пола. Он приткнул ступни под табурет. Поставил пятки на перекладину под сиденьем. Ладонью откинул со лба русое сено густых волос. Губы его шевелились, он опять читал текст.
Мальчика звали Роберт.
Он еще не забыл свое имя.
В ночи, во тьме, он повторял его, как стихи.
Как азбуку Морзе, биение сердца, тире-точки-тире.
И люди тоже за ним повторяли.
И люди тоже не забыли.
ПОСЛЕДНИЙ СТИХ ЛЕЛЬКИ О ВЕЛИКОЙ ЛЮБВИ
Ах вы милые, милые, милые, милые люди!
Оглянитесь вокруг, поглядите в лица людские свои.
Понесите себя друг другу на серебряном блюде,
На золотом, на серебряном блюде огромной любви.
Что вы будете, будете делать завтра?
С вашей ненавистью ненастной, с вашей злобой в накат?
Захлестнете ушатами грязи, обольете слезами,
Изобьете в кровь, на расстрел у рва поставите в ряд.
Это ваша последняя, люди, немая попытка -
Протянуть эти руки друг другу, дрожащие, как дожди!
Нанизать эти слезы, тяжелые бусы,
на кровеносную нитку
Злого времени - Бог, не убий, пожалей, не спеши, погоди...
Это ваше последнее, люди,
жемчужиной в раковине - желанье,
Ваш - от казни до казни - пьяный, последний шаг,
Ваше последнее - распятое!.. орущей глоткой!..
на семи ветрах!.. - красное покаянье,
Ваш последний - как поцелуй! - нищему - нищий пятак.
Ах вы, люди! Довольно палить друг в друга!
Что вам стрельбище это! Что пули эти! Всё пыль!
Вашу лютую месть давно заметает вьюга,
Стала вечным сном и старым зеркалом
ваша кровавая быль!
Ах, и зеркало это, за койкой больничной,
за панцирной сеткой,
опасно кренится, плывет, плавится, бьется,
Разбивается, люди, на тысячу призраков, горьких кусков...
Отражение ваше камнем канет на дно колодца,
В завыванье песков, во пургу тюремных веков!
Больно, люди! Вы лишь любовью спасались.
Лишь любовью бывали прощены, благословлены.
Вас так долго спасали! Дальше плывите сами.
В белопенье вечной зимы! В ледяной океан войны!
Субмарины, стальные вы люди, эсминцы, крейсера и подлодки,
Злые танки, каленые гусеницы, густо давящие судьбу,
Дальних взорванных рельс мертво сверкающие селедки,
Вы, железные люди, услышьте мою мольбу!
О любви! Лишь о ней одной! Ну что вам стоит!
Поднимите солнца светлых, слепых, небесных, соленых глаз!
Ради вас и ради любви я осмелею, стану последней святою.
Полюбите друг друга! Да, снова! В последний раз!
Это снится мне, это грань кошмара и яви,
Это гаснет факелом гибель в колодце глубоком,
Это мыслит дерево, яблоки плачут зарею: "Гори!.." -
Это зеркало тает,
стакан умирает,
нож воскресает,
голодные спички - космами - ночью - пылают,
и, в блеске и славе,
Мир плывет предо мной,
зареванной, одинокой, смешной,
старым паникадилом, парчовым рыдающим Богом,
меня обнимая ладонями ладана, тихо горящей любовью,
свечой дрожа на птичьем ветру изнутри.
Я раскину жалкие руки. Мир, ты слишком большой для объятья!
Люди, люди, вас слишком много, чтобы разом мне всех - обнять!
...и стою на последнем ветру, он рвет мое старое платье, -
То ли месть, то ли весть, то ли ненависть, не понять,
то ли дочь, то ли ночь, то ли мать.
И опять этот крик! Этот вопль из груди моей старой!
О, любите друг друга! Опомнитесь!
Нежная, бедная жизнь коротка!
Да! Любите друг друга! Пыланьем. Последним пожаром.
...первый снег. Мой обрыв. Ветер мой. Моя - внизу - ледяная река.
И под ветром тем волчьим,
под лимонными куполами ослепшего храма,
Под железным зенитом,
вбивающим белое солнце в тугую военную синь,
Я кричу вам: люди! чужие! родные! лишь мертвые - не имут сраму!
Вы - живые! успейте! целуйте! прощайте! жалейте! любите!
Аминь.

Новые рукописи
- Берегите мужчин! Автор: Шелейкова Нина Жанр: Публицистика
- Утки Автор: Виктор Верин Жанр: Проза
- Долина царей Автор: Крюкова Елена Жанр: Проза
Книжные новинки
- Заметки фенолога – 2024 Автор: Фирсов Геннадий Жанр: Книги РОСА
- Владимиров А.А. "Формирование микрогеометрии поверхности при вибрационном точении" Автор: Информационная служба РОСА Жанр: Книги РОСА
- Истина Рая Автор: Карханина Валентина Жанр: Книги РОСА

 Видеогалерея
Видеогалерея Фотогалерея
Фотогалерея Аудиогалерея
Аудиогалерея Магазин
Магазин