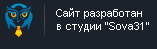Храм
Дата: 11 Февраля 2017 Автор: Белозёров Евгений
— И больше Вы не виделись?
— Да. Уже много лет.
— И кто был виноват?
— Не знаю, что и ответить…
Вопрос был прост и, вместе с тем, неожидан. И, правда, я не знал, что ответить. Кого винить в том, что люди иногда расстаются? Почему надо обязательно винить кого-то? Или это вопрос, который непременно должна была задать женщина?
…Машина мчалась по шоссе, которое ровной, сужающейся полосой упиралось далеко в горизонт. Справа и слева раскинулись бескрайние равнины с лесами и перелесками, выкрашенными в эти октябрьские дни всеми мыслимыми и немыслимыми оттенками осени.
Я в составе группы писателей ехал на тамбовщину, родину почти забытого сейчас поэта, память о котором ещё сохранялась, благодаря сидящим рядом людям, среди которых был и брат поэта, Виктор Михайлович — депутат, руководитель, любитель поэзии и всего, что было связано со словом "искусство"…
Это был очень деятельный и неутомимый человек. Его энергии мог позавидовать каждый, кто, хоть однажды, встречался с ним. Причём, эта энергия была неиссякаемой, не затухала со временем, напротив, она нарастала с каждой минутой и её апогеем, как взрыв, была песня или романс в исполнении этого жизнелюбивого человека.
— Посмотрите, какие просторы!
— Какая бесконечная грусть и красота, — вторил ему седовласый поэт, окидывая ясным и светлым взором, мелькавшие за окном пейзажи,— Может быть, здесь и кроется секрет нашего никому непонятного, русского характера?— задумчиво, будто бы самому себе, сказал он.
Слова не казались высокопарными. Всё, что было вокруг, было таким тихим и восхитительным, таким ярким, но не вызывающим, таким бескрайним и необъятным, что никакие сравнения не смогли бы полностью передать всю прелесть милой среднерусской осени.
На душе было покойно и мысли неспешно уносили меня в дни давно ушедшие, которые виделись сегодня, как край дальнего леса, ровной полоской, окрашенной отсюда не яркими, но тёплыми, и может, чуть грустными, красками.
…Ты сидишь рядом. Мы мчимся по шоссе, и город уже давно скрылся за, тронутой близкой осенью, листвой подмосковного леса. Слева от дороги я вижу очертания огромного карьера, наполовину заполненного водой. Ещё тепло, и нам хочется выйти из машины и побродить по берегу водоёма. Хочется снять обувь и зайти в воду, чистую и прозрачную.
Берега крутые, и мы осторожно спускаемся к воде. Я иду первым. Следом идёшь ты, опираясь на мою руку.
Вода тёплая. Ноги вязнут в глинистом дне.
Немного побродив вдоль берега, дав отдохнуть ногам в родниковой прохладе, возвращаемся к машине, снова преодолев крутой и скользкий, теперь, подъём.
На ногах глина и пока я раздумываю, как мне надеть обувь, ты уходишь и возвращаешься с остатками минеральной воды в пластиковой бутылке (моя машина служила нам, зачастую, гостиницей), и присев, начинаешь запросто ополаскивать мои ноги, тщательно смывая ладонью засохшую глину и озорно глядя мне, при этом, в глаза.
Я смущён. Стою тихо, затаив дыхание. Ты верно понимаешь моё состояние. Мне никто раньше не мыл ноги, разве только мама, но этого я уже не помню.
Вымыв и насухо отерев их, помогаешь мне надеть ботинки. Затем, ты никак не можешь подняться, ноги твои затекли и я легко помогаю тебе, и так же запросто начинаю покрывать твоё лицо поцелуями. Нежными и благодарными. И так продолжается, не помню сколько времени, пока я вдруг не вспоминаю, что ты всё ещё стоишь босая на влажной, прохладной траве.
Теперь я поспешно чтобы ноги твои скорее оказались в тепле, и аккуратно, как только можно продлить это мгновение, омываю твои ноги. У тебя красивые ступни. Я мою их и понимаю, что мне приятно это делать, что мне доставляет удовольствие прикасаться к ним. Я чувствую, что это приятно и тебе. Я не вижу твоих глаз, ты молчишь, но я чувствую, что тебе это приятно: одна нога согнута в колене и почти касается моей головы…
…В этой компании я впервые.
За окном уже рязанская земля. Те же поля, леса и перелески. Тот же простор, свобода и симфония красок! Та же загадочная прелесть: тихая, неброская, кое-где приглушённая серой облачностью и, вместе с тем, торжественная и величественная!
— Какая программа на сегодня?
— Часа в три будем на месте. Разместимся в гостинице, а в четыре — выступление.
— Где выступаем?
— В городской картинной галерее.
Я молчу. Я только прислушиваюсь. Мне ещё неудобно задавать вопросы. Я ещё раз переживаю то состояние…
Я мою ноги женщине! Я никогда не додумался бы до этого сам. Что происходит?!
— Иногда отдавать намного приятнее, чем брать, — как-то сказала она, задумчиво и по другому поводу.
Я долго не понимал до конца значения этих слов.
Что же такое — женщина? Почему происходит так, что сказанное однажды слово, когда-нибудь, обращается во что-то вещественное, как это случилось и в этот раз? Отчего мне становится так хорошо, когда я понимаю, что нечто подобное испытывает и она сама, когда она сама хочет этого?
— Посмотрите!— прервал мои размышления поэт и указал в сторону близких посадок,— стоят, как девицы с расчёсанными волосами!..
И снова в его словах не было и намёка на высокословие.
К обеду были в Тамбове.
…После выступления наша группа была приглашена на ужин в один из ресторанов на окраине города, хозяином которого был курд.
Стол изобиловал яствами. Блюда всё приносили и приносили, и гости уже не успевали отпробовать все их. На стол, помимо традиционных салатов и закусок, были поданы: наваристый суп в глиняных горшках с обязательным куском мяса, долма, домашние тончайшие купаты, шашлык с зеленью и соусом, восточные сласти, цукаты, фрукты… звучали тосты за поэзию, за гостеприимную и талантливую тамбовскую землю, за гостей; читали стихи, вспоминали друзей настоящих и давно ушедших и кульминацией вечера стали песни в исполнении всё того же, Виктора Михайловича: "Ямщик, не гони лошадей…".
Возвращались поздно, уставшие от насыщенного событиями дня и мечтавшие только об одном — скорее попасть в гостиницу и, наконец-то, отдохнуть. Впрочем, уже укрывшись одеялом, я долго ещё слышал, доносящийся с улицы, рокот нашего неутомимого певца.
Почему-то я не люблю гостиницы. Есть в них какая-то непонятная, для меня, грусть. Может быть, это из-за того, что мало в моей жизни было тёплых домашних дней, уюта, не было круглого обеденного стола с обязательной супницей (мечта всей моей жизни!), а было много долгих и страшных (для ребёнка) вечеров в ожидании поздно приходившего с работы отца.
Не люблю я гостиницы, но в тот вечер я уснул быстро, даже под всепобеждающий голос Виктора Михайловича, и ничего мне не снилось.
Утро началось с армянского коньяка и завтрака в гостиничном кафе.
— Ну, будем!— скомандовал Виктор Михайлович, — и хлопнул рюмку коньяку.
Пить, правда, стали не все, и причины были разные, зато все охотно ели яичницу и обсуждали предстоящий день.
Сегодня мы должны были встретиться в общеобразовательной школе с односельчанами поэта, чьё семидесятилетие мы и приехали отметить.
Предстояла встреча и с его родственниками.
Настроение было приподнятое.
— А вот и Светлана Ивановна!
В дверях появилась женщина, сопровождавшая нас в этой поездке.
— Доброе утро! Машина уже ждёт,— с улыбкой оповестила она нас.
— Идём, идём,— все засуетились, и только Виктор Михайлович, с присущей ему обстоятельностью, не торопился: ну, ещё по одной! — сказал он и обвёл отказавшихся укоризненным, полным непонимания взглядом.
И опять была дорога. Слева и справа — поля и рыжие перелески.
…У неё были рыжие волосы и лёгкое, с короткими рукавами, платье, цвета ранней осени.
— Красивое платье,— сказал я, увидев его впервые,— и очень тебе идёт.
— Нашла в шкафу отрез, я и забыла про него, и попросила знакомую что-нибудь сшить, — просто ответила ты. Глаза твои сияли. Тебе нравилось, когда я смотрел на тебя, любовался, когда разглядывал украдкой новую вещь, непременно изящную и гармонирующую с другими предметами твоего туалета.
Я вспомнил, как, посещая магазины, всякая вещь приобретала особую прелесть лишь после того, как ты окидывала её взглядом, либо прикасалась к ней рукой.
— Тебе нравиться этот шарфик? Ну, посмотри, разве он тебе не нравится?
И шарф, на который, минутой ранее, я бы даже не взглянул, начинал сиять другими, какими-то новыми красками и узорами, и я невольно с этим соглашался.
…Впереди замелькали белые строения посёлка. Машины резко повернули и остановились у трёхэтажного кирпичного дома, в котором размещались библиотека и местный краеведческий музей. На небольшой площади, на невысоком постаменте, был установлен бюст поэта, на который отовсюду, как заплаканные девичьи глаза, глядели рябиновые гроздья…
Встречали нас представители местной администрации, телевидения и областной газеты.
К памятнику были возложены цветы и прозвучали, присущие такому случаю, речи.
В заключение, говорил брат поэта. Виктор Михайлович, говорил с лёгкой грустью, долго и вдохновенно, и мне всё казалось, что сейчас он будет петь.
А после мероприятия, прошедшего, в общем, организовано, нашу делегацию ожидала встреча с другими местными достопримечательностями.
— Вы когда-нибудь видели керамический иконостас?— спрашивал меня глава района, — Таких всего два! Поедем после обеда…
Я никогда ничего подобного не видел. Мне, конечно же, хотелось увидеть это чудо. Но главным в тот момент для меня было другое. Я давно уже не оказывался в кругу людей, которые за несколько часов, проведённых вместе, становились почти что родными. Они настолько были искренни, настолько любили свою землю, земляков, настолько хотели, чтобы и мы вместе с ними пережили то же самое, что я готов был отправиться в храм, в который нас приглашали, даже пешком.
Храм, как и было положено, находился на берегу реки, на самом красивом месте на краю посёлка. Он был не просто высок, он был огромен и несоизмерим с другими поселковыми домами, что сразу бросалось в глаза.
— Раньше здесь и река была судоходной, и жили самые богатые люди — купцы! Кстати, они-то и перекупили иконостас, который везли с Украины. Куда? Уже никто и не помнит.
Церковь — громадное здание красного кирпича, выстроенного по всем правилам церковного зодчества, венчал золотой купол. Огорожена она была металлической изгородью, крепившейся на кирпичных столбах. Вход, как и положено, окаймляла каменная арка.
Но бросалось сразу же в глаза и грустное запустение. Не было уже здесь, и давно, того количества людей, которых готова была принять под свои своды, эта церковь: ни купцов, ни простого люда. И со стен храма, да простят меня прихожане, убого глядели на мир, кем-то грубо написанные, явно не богомазом, в ярко-синих тонах, иконы.
Светлана Ивановна, накинув косынку, первой шагнула во двор храма. Мы последовали за ней. Перекрестившись, поднялись по каменным ступеням, и зашли внутрь.
Я не умел креститься, хоть и был крещён матерью ещё в младенчестве, в строгой тайне от отца, и сейчас не сделал этого.
Была служба. Несколько сухоньких старушек молились. Молодой по виду батюшка, энергично выйдя из ярко освещённых врат, не замечая, похоже, никого, прошёл мимо, размахивая кадилом и что-то зычно распевая. Хор вторил ему.
В огромном и почти пустом помещении церкви было сумеречно, и свечи, слабо мерцавшие под образами, не в силах были наполнить светом весь её простор.
Светлана Ивановна поспешила к двум иконам, выставленным на постаменте в центре зала, и поцеловала их поочерёдно. Я подошёл следом, и, видя, как это делали другие, просто прикоснулся лбом к их окладам.
Мне захотелось это сделать. Почему? Я долго думал. Может быть, потому, что все мы чьи-то дети. И всем нам когда-нибудь, хочется прикоснуться к кому-то, уронить голову на чью-то грудь или плечо в надежде на покой и понимание.
Ведь матери, наши бесценные матери — умирают, жёны и дети уходят от нас, и кто же остаётся, кто поддержит и утешит в трудную минуту? Тот, кто не оставит тебя никогда, тот, в чьё незримое присутствие, рано или поздно, ты начинаешь верить; кто будет рядом всегда, если только, ты сам от него не отвернёшься. Таков человек.
… — Понимаешь, мне просто необходимо быть для своей женщины первым. Во всём. Иначе, я не смогу быть с нею рядом.
— Не первым,— прерываешь ты меня, не давая договорить и кладя свою ладонь мне на руку,— не первым, а единственным!
Ты понимаешь меня, соглашаешься, говоришь мало и много убедительнее того, что произношу я, заставляя меня задохнуться от переполнивших чувств.
— Я не хочу, чтобы мои отношения с женщиной зависели от случайностей: от некстати сказанного слова, от неправильно понятого взгляда, от всех тех мелочей, которые уже случались в моей жизни, отчего я уже терял и страдал несказанно.
Иногда я специально бывал груб, настойчив, давая понять, что мне плевать на любой исход, вёл себя отчаянно, как мальчишка, непреклонно. И она была уступчива и сговорчива во всём, кротка и предупредительна. Готова была пойти на любую мою прихоть, искренне страдая, когда не всё у неё получалось.
И тогда я делал шаг навстречу, и мы снова были вместе, остро переживая и безумно наслаждаясь тем счастьем, которое лишь по глупости могли потерять.
— Я давно поняла: к тебе надо сделать всего один шаг навстречу, и ты ответишь десятью. И ещё. Чтобы тебя любить, тебя надо знать!
Она знала меня так, как знает мать своих детей, как никто не знал меня до этого и вряд ли когда ещё узнает.
Вечерело. Солнца уже не было, и только ветер заметал в подворотни остатки ушедшего дня.
Вдруг, вспомнил: "Выйдя из собора, велел извозчику ехать на Ордынку, шагом ездил, как тогда… — и всё плакал, плакал…".*
*И.А. Бунин. "Чистый понедельник".
Новые рукописи
- Берегите мужчин! Автор: Шелейкова Нина Жанр: Публицистика
- Утки Автор: Виктор Верин Жанр: Проза
- Долина царей Автор: Крюкова Елена Жанр: Проза
Книжные новинки
- "Осенние откровения" Ларисы Каменщиковой Автор: Информационная служба РОСА Жанр: Книги РОСА
- Заметки фенолога – 2024 Автор: Фирсов Геннадий Жанр: Книги РОСА
- Владимиров А.А. "Формирование микрогеометрии поверхности при вибрационном точении" Автор: Информационная служба РОСА Жанр: Книги РОСА
 Видеогалерея
Видеогалерея Фотогалерея
Фотогалерея Аудиогалерея
Аудиогалерея Магазин
Магазин