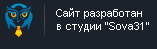Север всё спишет
Дата: 8 Апреля 2015 Автор: Чекусов Юрий
Содержание
1. Для людей с юмором
2. Командировка
3. Ледяная быль Ермака
4. Откачка
5. С днём рождения
6. Северная малина
7. Сибирские сказы.
Сборник для них, людей с юмором
(анекдоты, перлы и афоризмы)
Так получилось, что мне стали близки по духу такие профессии, как археолог, геолог, журналист. Об этом, по крайней мере, мечталось по жизни. Вот потому и интересны мне соответственно история, камни, люди – есть о чем написать. И старался писать художественную прозу, а получалось патриотическое, философское, ремесленное, увлекательное чтиво и прочие произведения. Хоть и «привязывался» к датам и событиям, хронике, документам, дневникам, мемуарам, воспоминаниям и цитатам, но всё равно пишу художественную прозу. В мире три «кита» – три основных профессии (три профи), на которых всё держится – геолог, металлург и военный. Геолог ищет камни и полезные ископаемые, горняк и шахтер их добывают – уголь, руду и строительные материалы, металлург обеспечивает так необходимым металлом, а военные их всех и всё охраняют. Вот про них и будет речь вестись – про историю и людей этих, их курьезы и далекие земли. Послушайте анекдоты, с бородой и без; все, конечно, не расскажу... Вот они, перед вами...
Анекдот первый: И было у отца три сына: геолог, который ничего не потерял, а всё что-то ищет; военный, который сначала сделает, а потом подумает; и третий-дурак – нашел, что не терял, так как думает.
И другие анекдоты – вам.
Народные фольклор и мудрость.
...
— Белогвардейцы всё еще атакуют?
— Как черти лезут... вон, по ковру прыгают.
— Ну, давай еще беленькой хватим, замаскируемся, может не заметят.
Лётчик звонит подруге: «Маша, это я». Ему в ответ: «Взлетная полоса занята». Летчик отвечает: «Ну тогда я полетел на запасной аэродром».
Студенты-геологи на практике: «Знаем, знаем, умный в гору не пойдет, умный гору обойдет. Мы ж не альпинисты».
Загадки слов «перлы» и «афоризмы» – не от слов ли таких произошли, как «переть» и «аферы»?
Лучше гор могут быть только горы, на которых ты еще не бывал! — Обходи их стороной, о несчастный, о лучший из лучших!
Кто может вломиться без спросу в историю и бытие? — Только писатель-фантаст с его необузданным чувством потери реальности.
— Абразив, абразив, образина... — тупо соображал нож, пока его драл и мутузил наждак.
— А если вдруг ты заблудишься в тайге?
— Да вы что, в трех наших соснах... Всё может быть, однако.
— Так откроем новое месторождение?
— А зачем? Программа на них закрыта.
— Там, говорят, впереди остров «Земля Санникова».
— Во-во, его-то нам еще и не хватало.
«А путь наш далек и долог, и нельзя повернуть нам назад. Крепись, геолог, держись, геолог...» — Эх, знал бы раньше, что геолог идет на пенсию только в 55.
— Как ты думаешь – если мы перейдем через Чукотской пролив, то откроем новые земли?
— Там тоже любопытные чукчи живут.
— Есть же «Горячий камень» Гайдара?
— Гайдара уже нет, а камень поискать надо – может, еще не остыл.
«Замерзли, мои дорогие?» — геолог, отдирая унты от ног в чуме оленеводов.
Хорошие дороги у американцев – прямые как стрела, скоростные у немцев – по их автобану дашь 180 км, но самые непревзойденные дороги у нас, русских, – загоняешь машину в колею, вылазишь на капот с бутылкой, не тряхнет и сама приведет.
— И долго нам еще идти?
— До ядреной фени.
— А Феня где и когда?
— Фортуна – это как?
— Отвечаю, балбес. Фортуна – это быть в нужное время на нужном месте, и не просто «как», а с двумя стволами, чтобы не обкакаться.
— Вот это ляпота!
— Она самая, лепота, — ответил Иван Грозный, — не зря за ней гоняется ляпота необразованная.
У палеонтологов:
— Вот, летал же такой в те древнейшие времена. Молодец. У нас бы ему давно крылья подрезали.
Гробокопатели древних могил: «Взроем?» «Не стоит, а им чего достанется, археологам?»
— Абориген, ты зачем яму копаешь?
— Фотограф сказал, что будет делать снимок по пояс.
— А эскимос с Аляски – правда наш пра-пра-отец?
— Забудь, сынок, сказки про алеутов.
— Неужто дошел?
— Да-да, правильно шёл, до Анадыря, НКВД сопровождало.
Из сводки НКВД: «Что будем делать с этим чукчей? Нашему засадил прямо в глаз. Решено: пошлем его снайпером на фронт».
«А что ты, совсем уж тупой?»... Тот задумался.
— Так он же сдохнет сейчас там на морозе после четырех суток!
— Отошлем потом в Сибирский полк на фронт.
— Что такое 10 лет в Гулаге?
— Слава богу, не за колючкой, а помрут они и сами по «простате», а не по статье «58».
— Странно, а почему в Магадане до сих пор снег и морозы... Климат другой?
Невольно позавидуешь таким людям, как Баренц, Беринг, Лаптевы – жили в здоровом климате.
Турок – русскому:
— У вас глупых людей Ваньками зовут?
— Нет, обычно туркой называют.
По национальности – он и она: грек–гречка, турок–турка, чукча–чукча, финн–финка, человек–жёнка, кореец–корейка...
Вот сижу и думаю: век учись. Век борись. Всё равно дураком помрешь. А когда же жить?
— Так это Гавайи?
— Пусть даже они... Мы в кругосветном путешествии, не успеваем. На задворках не тормозим.
1904 год, Русско-Японская война. Каперанг:
— И всё-таки мы его уделаем!
В ответ:
— Да, командир, без котлов, винта и башен... иначе нам Николай II не простит.
— Приказываю дать залп с «Авроры» по Зимнему.
— Извините, я не «Варяг», да и с потопляемостью у нас плоховато.
В московском аэропорту напыщенный, весь из себя чукча перед автоответчиком: «А вот угадай, кто я?» Ему в ответ: «Ты – чукча. Прилетал сюда на утверждение звания почетного академика. После долгого размышления ты согласился – мол, буду академиком по четным, а по нечетным числам продолжу пасти оленей. Пока ты со мной препирался – твою доху спёрли, а рейс твой в Анадырь улетел».
— Так Ермак на самом деле покорил Сибирь?
— Когда приходил – да, а остальное всё потом как на американском Диком Западе, только чуть пораньше.
«Так это ты, моя мечта?» — протрезвевший геолог утром в постели чукчанки. «Да, — говорит чукча, ее муж. — Говори свой адрес и жди меня в гости».
— А синяя птица удачи у вас не продается?
— Занесена указом в Красную Книгу.
— Здорово, волки! Наконец-то!
— Да мы не из тамбовских, таёжные. Налетай, братва, позавтракаем.
— Так вы всё-таки наши?
— Были. Пять лет в очереди за дипломом отстояли. А теперь, шелупонь, посторонись...
— Как пройти в Центр? Тут недалеко, пройдете несколько улиц: сначала Ленина, потом Сталина (сейчас Краснопролетарская), свернете у XXII съезда, чуть за 50 лет Октября – и на месте. Не заблудитесь.
Куда там бедному Аносову с его дамасской сталью из Златоуста! Вот бы взять российский клинок-ковань да пронесть его от Ленских приисков до Распутья – все бы познали заранее, «как закалялась сталь».
Проводнику:
— Мы без вас дальше самостоятельно доберемся до Хабаровска через Тигровую Падь?
Проводник:
— Вполне. Первую вы одолели, их тут три – тигровых пади...
А вот если сакуру взять и просто так сожрать, что будет? (Сахалин).
— Не подавись, Япония рядом, там тоже кушать хотят.
— А что росомаху бояться, этакий, видите ли, мини-медведь! Правда, говорят, у нее когти что лезвия бритвы, и сама она мордой отвратна и вонюча... та еще тварь!
— Вы, гонцы за удачей, не меня ли звали?
— Да откуда же в нашем родовом... да такие слова...
— Да оттуда, откуда и ваш род поганый.
— А что, мы и правда по родословной сарматы, скифы, древляне, викинги, славяне, монголы?
— А и то уже неплохо – сейчас все нас слушаются.
Пиши, отрок: стоять будем... Написал? Пиши – стоять бум... Написал? И даже если не бум-бум, всё равно стоять бум!
Про БАМ: «На дальней станции сойду, трава по пояс»
— Так это ж прекрасные строчки.
— За них мне и сказали отбыть пять лет на БАМе.
Кёнигсберг 45-го, отступающие немцы: «Мы еще вернемся, Иммануил Кант». «Поздно уже, другой хозяин идёт. Так что вы поспешите...»
— А-ла-улю! Берем Рязань, Владимир, Киев... Алла-у-лю... берем Казань...
— Стоп, оголтелые мои, — Батый посуровел. — Казань-то еще наша. Это ее потом Ванька Грозный возьмёт, нас не спросясь. Начинаем Игры Нашего Генерального Штаба заново! Пошли...
— А мы их нашим тевтонским клином! Зараз мозги вышибем.
— А потом? Что у нас останется...
— Дай бог, до дома добредем, без всяких Иванов Сусаниных.
— Так мы пришли?
— Похоже. Вишь надпись: «Броду нет».
— А наш паровоз в светлое будущее не заблудился?
— Не должон. Одноколейка, однако... до следующей станции.
«Там, где была гора Благодать – там уже ничего не видать» (Там сейчас яма – Гороблагодатский железорудный глубокий карьер).
«Так как меня встретит благодарное потомство?» — вперил взгляд в будущее знаменитый Михайло Ломоносов. «А немцев ты победил? Эк их ломает-то...»
«Подводим итоги Чеховского фестиваля: курящие – направо; сахалинские – стройся и по прямой на восток; толстые и тонкие – про вас сказ особый; этих – в шестую палату... И унтеров, унтеров не забудьте для охраны».
— Вы о-о-откуда?
— С Во-о-ло-гды!
— О-о, земляки наши с Гулага.
— О, благословенна земля наша манси, открывшая взору гору железа нашему Большому Государю!
— А что дальше-то делать, шаман?
— Уходим на север, в тундру, подальше от горы.
— Я – изыскатель, геолог.
— Что ты там изыскал – не знаю, но жена тебя потеряла, ищет.
— Ну а теперь куды?
— Куды-куды, на Кудыкину гору.
— А где она?
— Где-то впереди должна быть. Не будем же возвращаться.
— Чем знаменит град Тобольск?
— Своей Тобольской губернией; земляками, что обитали там – Ермак, Алексашка Меньшиков, Николай II...
«Вот и пришли на край света, — сказал задыхающийся старец своему молодому попутчику. — Дальше уж ты сам...»
Уссурийская тайга, Дальний Восток. Китаец-контрабандист тигру: «Котя, котя... я свой, чумиза». «Шастают тут всякие, — подумал эмигрант из Индии, белый тигр, — а я кушать хочу».
— А Порт-Артур чей сейчас?
— Порт остался, Артура не стало.
— А ты упертый, уралец?
— Не путай с хохлом. Я – упорный, остальное – они.
— Эх, батя, побывать бы в Афгане!
— Был.
— Или в Африке и Индокитае!
— И там. Советником.
— И где ты только не был...
— Ты сначала сопли вытри, а потом к делу. Ну, говори, что надо?
— Мошка – они или она? Жалко мне их, тысячами гибнут, пионеры тайги!
— Здорово, гнус! Даже накомарники не помогают... ну и гнусь!
Пожар в тайге.
— Уходим, что ли, начальник!
— Знать бы, куда податься от верхопала и низового огня...
Шишкобой в сибирском кедровнике – не слабо? Успевай только не схлопотать синих «шишек» на себе.
Военный Совет в Филях – сдать Москву или сберечь Россию? А перед этим к Кутузову во сне приходит А. В. Суворов и говорит: «Сдать Москву – это я еще разумею, но если всё остальное – смотри, Михайло, приду и устрою тебе второй Измаил».
Кутузов:
— Приходит ко мне во сне мой учитель Александр Васильевич да как лягнул своей пяткой, коей он наступил когда-то на швейную иглу. Я враз понял – Москва Москвой, а за Россию он мне куда-то что-то вгонит...
Один из генералов на совете в Филях:
— Сдать Москву? А зачем она нужна, если мои поместья на Смоленщине и под Бородино разрушены.
— Болотом еще не пахнет, чащобы начались, мертвяком завоняло... правильной дорогой идет Сусанин.
— Так пойдем? — Ну, конечно... Риск – благородное дело.
— Быть в нужном месте, в нужное время и под своим именем – что еще может пожелать наш благородный читатель.
— Политика – грязное дело!
— Удивил. Да то уже известно было с Древней Греции.
— Бестолковые ляхи, да куда ж вы заперлись в болото, — сказал перекрестившись Иван Сусанин. — И выводить уже некого.
— Иван IV – убиенному сыну своему: «А Казань, сынок, мы всё же взяли!»
Пётр Великий: «Прорубим окно в Европу?» Его друзья промолчали, но топор на всякий случай приготовили.
— Ну, узнал?
— Ну.
— Ну?
— Ну и ну!
Ох не прост, не прост наш Александр Васильевич, свет Суворов, граф и князь Рымкинский и Италийский! «И себе не ам, — сказал он Бонапарту, — и другим не дам». И умер.
— Вот вам кукиш, рос-сяне! Обманули и побили тупых монгол – веду цивилизованное войско против вас, скушайте! Ваш Петя-котяра съел пол-Европы, но уж мною бы он подавился! Жалко не повстречались... Ладно, я побежал до Березины, оттуда мне уже недалече до Парижа.
— Скажи, чем мы провинились перед нашей историей?
— Пока еще абсолютно ничем, поэтому и не попали в историю.
— Так мы все-таки правы?
— Да. Вот только не пойму, в чём.
— Скажите, а может, вы в чем-то не правы?
— Так разве ж я говорю, что прав в чем-то?
— Мальчик, ты цыган?
— Нет, дяденька, я еврей.
— Надо же, такой маленький – и уже еврей; как быстро растут люди.
Русский стоит на чердаке и в окно всматривается вдаль. «Что там, сосед?» — подходит к нему еврей. «Да вот смотрю, где хорошо». «Там хорошо, где нас нет» — вздыхает еврей. «Вот я и смотрю, где вас нет».
Велика Россия, сразу и не обоймёшь! «И все-таки здравствуйте!» «Здорово, придурок, коль неймется».
— Сволочи!
— А это кто?
— Все остальные.
Одна половая доска объясняет другой: «И в тебе должно быть достоинство, по крайней мере – не ниже плинтуса».
— Долго ли, коротко ли та сказка сказывалась...
— Бабушка, да ты носом клюешь. Давай я тебе расскажу, повеселее. Значит так: недолго музыка играла, короче становился...
И прошло всё у бабки, как метлой смело, Фомой пронесло, враз всех своих вспомнила до седьмого колена.
— Ну а мы?
— А вы туда, уж извините, никаким боком.
— А как же известная Римская империя?
— На то она и известная, чтобы о ней позабыть.
30-е годы. Объявление диспетчера на вокзале: «Господа бывшие офицеры и чиновники! Поезд на Колыму отходит через три минуты, со второго запасного пути. Просим не опаздывать».
Панки? Это кто или что? Американские придурки от безделья или маленькие дети поляков? А может польская шляхта, направляющаяся по каторжному шляху Российской империи.
От истины до истины другой... ох как круто и далеко... штаны не порвите!
Сломать вас – трудно. Согнуть – а зачем? И бесполезно. Так что пошли вы подальше со своим российским характером.
— Как же вы собираетесь жить дальше?
— А как жила Великая Россия!
«Так куда дальше, хозяин?» — Соловей-Разбойник после богатырского тычка.
«А пойдем посвистим в Кремле или Европе... Больно там тишь стала, вроде как штиль перед поганой метелью».
— Что-то я не понял, — глядя на спесивый запад, молвил князь Пожарский, — по мою душу этот ляхетский костерок... С-час, одыбаю вскоре.
Пьянь и Лень – сиротки наши российские, неприкаянные... Какие надо поискать в других странах!
— Собрался уже помирать?
— Окстись, батюшка. Мне еще охота покурить, выпить и посмотреть драку из-за моего наследства.
— Предположим, попал ты в штрафбаты...
— Тогда и будет «и».
— Значит, готов... к труду и обороне.
— Как прорываться? Впереди я один, сзади полк НКВД; все поляжем, но боевую задачу выполним.
— Так кто со мной, за горизонт, в светлое будущее, в неизведанное?
— Колумб тоже ходил, плохо кончил, без соленой капусты и чеснока.
Аргонавты: «Мы доплыли к своей мечте – Золотому Руну?» «Так то ж скифы блестят – видно, давно уж дожидаются».
Карфаген – своему великому Ганнибалу:
— Так ты берешь Рим?
— А стоит ли? Всё равно убьют. Свои ли, чужие...
Суворов: «Берем штурмом стены города. Мародёрства не допускать».
Ленин: «Захватываем вокзалы, почту, телеграф. И – банки!»
Унитаз через столетие после октября семнадцатого и должен быть золотым – за что страдали и мучились вечность?
— И всё равно мы будем жить при коммунизме, нашем светлом будущем, хотим мы этого или не хотим!
— Я просил у руководства для будущего строительства наших ферм... Выделили только фанеру. Предложения?
— Строим ероплан и как фанера над Парижем докажем капитализму его гнилую сущность!
— Быков сгоняем в общее стадо нового колхоза?
— Да. Надо запрос сделать наверх. А сами они как?
— Быки-то? И раньше «положительно» относились, только бодались... иногда.
— Так стелим коллективные нары, пред?
— Погоди. Впрочем, стели. Мне с той маленькой, что у коров – отдельно постели.
— Церковь рвём? Кулаков напрочь?
— А куда от них деваться... жить-то надо.
«После разрухи войны, после 45-го всё подняли. Пора и целину поднимать...»
Воспоминания участника коллективизации: «Вот помню Давыдова, красавец был! Да куда от судьбы уйдешь у меня, наемника!»
— Целину подымем?
— А зачем? Она сама по себе загнется.
— БАМ подымем? Одолеем?
— Только про Сталина не упоминай: он её и делал до войны; и после войны тоже – да вот руки его тогда не дошли.
«Мы приветствуем новый образец социалистического хозяйства: впереди Стаханов, за ним тринадцать горнорабов. Стаханов, возглавьте их движение».
Социалистическое движение: да мы что... мы ничего... подсказали... вот и показываем путь в светлое будущее.
«Так вы что, опупели, мои соплеменники? — Миклухо-Маклай. — Опять сожрали белого человека!» «Да мы ж тихо, успели, пока никто не видел».
«Я вас чему учил?» — грозно Миклухо-Маклай своим папуасам. «Мы так и сделали: Кук, этот спесивый англичанин, недолго мучился».
Умер знаменитый вождь Миклухо-Маклай. Сидят после его смерти вожди прочие и горюют: «Надолго ли мы снова оторвались от цивилизации... Успеем?»
Александр Невский своему дружиннику: «Ты не из запасного полка? Ах да... перепутал тевтонцев со шведами...»
Праздники наши ново-российские: ноябрь стал на день длиннее, от декабрьской конституции отказались, День независимости не признаём, усиленно молимся – может, на самом деле Господь вытащит нас к светлому капиталистическому будущему?
Резолюция Петра I интенданту: «В прошении отказать, ибо должность сия воровская».
— Н-ну, так я приехал?
— Н-ну, вроде да...
— А что ж здесь дороги такие плохие?
— Других в ад не бывает; остальная дорога – в рай.
Участник чапаевских боёв: «Гляжу – плывет. Повел пулеметом чуть, как дал по нему... утоп!»
Древняя бабка – правнуку: «Так и будем мучиться? Да я их всех к ногтю! Пока всяких немцев не добью и не устрою мировой пожар... Кто у нас сейчас в лидерах? Иванов-Петров-Сидоров?
Пустеет Мавзолей... конкуренция сильна или пора общежитий заканчивается?
— Ну явно не впустят в рай, у них здесь такой отбор и столько кандидатов... Пойду-ка я обратно к своим дорогим избирателям.
— Кто вы такие? А! Так мы вас и ждем... Огонь!
— В библиотеку? Правильно идете, там за поворотом... Трое наших урок.
— Ну, ты, чмо?!
— Это мне?
— Тебе. Проходи. Приглашён.
— Вы звери или люди?
— А кто еще?
— Оборзела, собака! У меня тут конец квартала, запарка, а она совсем нюх потеряла!
* * *
Ну и напоследок вам – старые вопросы из XX века; отвечать быстро, не задумываясь:
Что тяжелее – пуд железа или 16 кг золота?
Кук совершил три кругосветных путешествия, в одном из них его съели. В каком – в первом, во втором, в третьем?
Назовите российского поэта, часть лица, фрукт.
Ответы перед вами (чтоб не мучились): старинный пуд тяжелее 16 килограммов; бесспорно – в третьем; Пушкин, нос, яблоко. Так вы что ожидали?
Три русских поля (какие?) пройдены, сражайтесь в четвертом (каком? – и сам не знаю) те, кто дружит с юмором и жизнью.
До встречи.
Анекдот – смысл или игра слов?
Шаг за горизонт
Горизонтом является видимая невооруженным глазом линия, где для человека небо сливается с землей – так определяется понятие о горизонте в древних трудах человечества по географии. Нам никогда не догнать горизонта – с каждым шагом он отдаляется ровно на столько, сколько ему отпущено на это природой. Тут нельзя сказать, что горизонт отодвигается на расстояние шага – это было бы неверно; примером и доказательством тому служит наше продвижение к крутой и закрывающей небосклон горе – в этом случае мы, вполне возможно, и догоним горизонт; спускаясь с горы, мы уменьшаем его сферу; выходим из закрытого пространства – и горизонт уходит от нас вдаль.
Можно ли остановить горизонт? Можно ли сделать шаг за горизонт? Давайте сделаем так: наметим для себя в этот конкретный момент условный горизонт, ну, хотя бы вон ту темную непроницаемую полосу, затем дойдем до нее и... шагнем за горизонт!
Сказано – сделано! Дошли. И, оказывается, нашим горизонтом является крутой скалистый обрыв с поднимающимся из ущелья густым странно-черным туманом. И даже эхо, кажется, не пробивается вперед, за горизонт. Но мы сделаем этот шаг, за горизонт!
Шаг за горизонт. И...
На краю света
... на краю Света! Как он мечтал там быть. Это ему снилось, мнилось; романтик от жизни почемучной он так хотел этого, и возмечтало же ему знать сие нежданно-загадочно непреодолимое; в общем, он об этом просто думал, желал видеть и до конца узнать.
Он долго шел к своей Мечте. Годами. Мыслями. Поступками. Пробиваясь сквозь обыденность, нищету жизни послевоенных лет. Откуда в нём, в послевоенном парне, этот романтизм... Но он шел; упрямо; и лозунгом ему стало потом «прорвемся».
Шансов прорваться на край света было мало (возможности, если постараться, чуть поболее...)
Но если он готовил свою благородную жизнь для «чего-то» – то вдруг?
«Вдруг?!» – он понял, не бывает. Бывает, было, будет или было только для того, кто должен быть иль будет там – как для него, в его мечте «на краю света»...
Не первый ты и не последний. Так говорили ему друзья. Но он не верил. Для них его заботы, знал он – «нищета». Но нищий телом, он был богат, как царь морской, он был богат мечтой и духом.
... Как люди смело и свободно расстаются со своими мечтами, думами, фантазиями – он этого себе не позволил, ибо он долгие-долгие годы шагал к своей мечте: от горького и безрадостного послевоенного детства и после следующего скромного бытия, он шёл, пробивался, он знал, что достигнет и шагнет к своей мечте – побывать на краю света. Он – не Колумб, не открыватель дальних стран, да и тяжеловато и накладно для нынешнего и современного мира оказаться в роли того далекого Колумба.
Тем более – мой предел называется СССР. Советский Союз Социалистических Республик. И именно ОН даст мне возможность – возможно... достигнуть чего-то.
Хотя бы «край света»?
«Мы успели...» — спел В. Высоцкий, умерший позднее. Таков «запев» годится на многие случаи жизни.
Я, такой-то и такой, не успевший стать партийным, как и мой отец на фронте, отдавший столько лет своей мечте быть «на краю»... – я сделал это!
... И вот он (то есть я) стоял на восточном берегу острова Сахалин, и впереди меня билось льдами Охотское море – Тихий океан, и впереди, далеко за нашим краем света вроде как виднелась в тумане за тысячи верст чуть ли не русская Северная Америка... Это ли не мечта советского и русского человека, к осуществлению которой человек наш идёт годами.
Да я знаю... потом узнал: после войны шла вербовка на Сахалин рабсилы; каторга была при царском режиме (А. П. Чехов – свидетель, читайте его «Сахалин» – сильная вещь для тех, кто знает, живет и будет на каторжном и знаменитом непревзойденном острове). В 1945-ом НАШИ взяли его снова, как и должно и положено обратно себе... на Сахалине осталось очень-очень много японского (но да это – отдельная повесть).
Где-то там, между Сахалином и материком – Татарский пролив... где-то там на юге между Сахалином и Японией дугообразный залив Анива, с нашим серым и толковым портом Корсаков. А где-то чуть в стороне «кидают камешки в проливе Лаперуза»; и есть переправа Ванино-Холмск и город Чехов... много чудес и прелестей на знаменитом острове-погранце Сахалине; лишь чуть подальше его, где-то в глубине далекой – Курилы, с его островами и городами-поселками – Шикотан, Северо-Курильск (и... извините – туда еще не долетел глас мой!)
... Я, так долго мечтающий о сём долгожданном моменте, стоял спокойно и уверенно на берегу... Каком? Восточье Сахалина... край большого СССР... Край света... конец своей мечты?
Тихо и сумрачно било лёд о берег.
Вот и конец мечте?
Неужто столько лет затрачено на долгую мечту впустую? Столько лет!
Тяжело, мерно, с шумом, шла на берег волна, ломая и круша апрельский стойкий лёд Охотского и Тихого.
И в душе стояла умиротворенность. Может быть потом созерцание такого совершенства позволит ему и разрешит, «великому страннику», так беспардонно и непоколебимо посмотреть на большие реки (это ж не океан) наших времен и народов?
Но... это... может потом. Сейчас шум волны и льдов, серая мгла завораживала. Он – был! Он – есть.
Он им стал.
Столько лет отдано мечте.
С детства грезил.
Пробивался и шёл упрямо.
Столько лет потерял? Не зная где и зачем. Ведь «тот» он и «этот» я – не знали же где закончится «вот это всё».
Вы знаете???
«Столько лет...» «...столько лет...»
Ему...
Мне было 23 года, и впереди у нас была еще целая жизнь после недавнего окончания института.
Единственно что плохо – что так рано угас наш Край Света. Возможно, что и будут – потом – даже другие варианты...
А сейчас я стоял на берегу Охотского моря. Это была моя вторая командировка на остров Сахалин. А первая командировка на Сахалин была месяцем раньше (но все равно – Сахалин-74), после которой мне сказали так: «Иди, свободен. Пока. Готовься, скоро, скорей всего в апреле, снова на Сахалин – на съемку приморского месторождения песков». Но вот что было в первой командировке – стоит вспомнить.
Командировка
Всё было сделано – оба проекта, и мой, и Маляренко, лежали в папках, готовые к «старту». Готовились и мы.
Маляренко расхаживал по кабинету и по привычке своим густым басом разглагольствовал: «Ну разве знал я, что полечу на Сахалин? Нет, даже не ведал. Тельнов, — это уже ко мне, — ты доволен?» Спрашивает так, как будто это он делает мне одолжение, берет меня с собой. Я усмехнулся. После того злосчастного месткома, на котором я остался без «ключей» от будущей комнаты, злость моя на него еще не остыла. Но работа есть работа, и мне пришлось что-то буркнуть ему в ответ.
И все же брала злость. Нет, теперь, спустя полмесяца после того заседания месткома, уже не на самого Маляренко – что было то было, да прошло; бог с ним! – а на его нерасторопность. Когда к концу января я уже доводил свой проект до конца, он со своим еще копался. Весь февраль так проковырялся над расчетами – помогали ему всем отрядом. А по его словам периодически проект готов был через каждые два дня. Нилабину, нашему начальнику отряда, это надоело вконец. И вот при проверке черновиков проекта они сцепились: Маляренко дышал тяжело, как загнанный конь, Нилабин – зло и резко. На шум (а может быть и так) прибежал из соседнего здания главный инженер партии Василий Владимирович Невский. Встрял в их спор и начал от волнения заикаться. Теперь эти солидные люди (младшим из них был Нилабин Андрей Николаевич, которому уже стукнуло три с половиной десятка лет) схлестнулись втроём.
Кого я из них троих одобрял? Симпатии, соответственно, мои были на стороне своего непосредственного начальника – Нилабина.
Конечно, о командировке я давно мечтал. Если ехал сюда работать по направлению после окончания института, то надо повидать мир. Но командировка – это, в основном, этап завершающий. Когда всё сделано – едешь, летишь, идешь куда-то и защищаешься там (точнее, защищаешь проект) перед заказчиком. А я этой командировки ждал долгих пять месяцев, то есть с самого начала работы здесь. Взялся за один проект, Нилабин говорит: «Отставь, пока он не нужен»; потом был на «подсобных» работах (на подхвате у других); и, наконец, попался этот проект, а если точнее – мой первоначальный проект просто-напросто разбился на два. Они и стали оба по Сахалину – там таких объектов, для которых мы делаем проекты, много.
И вот эта командировка попадает под праздник восьмого марта, а в итоге-то получается, что нам на Сахалине придется без дела сидеть целых три дня (праздник и сразу два выходных). Но ехать надо было обязательно: март – последний месяц первого квартала, и отряду до зарезу требовались акты о сдаче работ. Подписание актов означало деньги, а деньги – выполнение плана.
Бухгалтерия выписала нам деньги. Мы с Маляренко радостно потрясли ими перед изумленными коллегами – каждый по двести рублей, и ринулись в милицию оформлять пропуск.
Как всегда в паспортном столе было много народу. Но Маляренко изворотливости в таких делах не занимать. Раздвинув народ плечом, затем извинившись, с кем-то пошутив и пробасив: «Мы, товарищи, по служебным делам», — пробился к двери... и оказался в кабинете начальника паспортного стола. Люди зашумели, и как бы в ответ на их роптание высунулась голова Маляренко. Она покрутилась и заметила меня. «Ага, — решил я, — пора и мне проходиться. Или прорываться. Непонятно». В меня вцепились.
Еле выкрутившись, я ввалился в кабинет. Заполнили прямо там же справки, вручили начальнику письмо-прошение о нашем въезде и временное проживание на о. Сахалине. Получив по две печати на каждое командировочное удостоверение и расписавшись в книге учета, с облегчением оказались на улице.
Билет брали на «Юности», есть такое агентство аэрофлота по улице Юности. Летим по маршруту «Красноярск – Хабаровск – Южно-Сахалинск» с посадкой в Хабаровске, вылет в ночь с четвертого на пятое марта. В этот же день на доске приказов был вывешен приказ о нас: «Командировать старшего горного инженера Маляренко А. А. и Тельнова Ю. Б. в город Южно-Сахалинск для решения производственных вопросов на срок 10 дней с 5 марта по 14 марта 1974 года. Основание: производственная необходимость».
«Всё оформили?» — встретил нас Нилабин. Александр Артемович ответил ему и за себя, и за меня: «Всё. Осталось только вас выслушать». Николаич, как уважительно и просто мы звали Нилабина, взглянул на Маляренко. И тяжело ударил его фразой: «Александр Артемович, нам всем известно ваше поведение на работе в последнее время, и надо сказать, что оно не ахти блестяще. Я думаю, что не стоит напоминать вам об этом лишний раз – вас часто замечали на работе под хмельком, вы часто спорите из-за пустяков, скандалите и лжете, стали менее интенсивно работать. В чем причины всего этого? Не станем докапываться. Эта командировка служит целью налаживания контактов между нашей партией и Сахалином; завершите вы её удачно – и будет вам прощение, реабилитация всех ваших грехов, нет – пеняйте на себя. Но всё же мне думается вы съездите удачно, ибо у вас, Александр Артемович, имеется подход к людям и вы умеете обрабатывать их в свою пользу, что является весьма немаловажным аргументом при подписке актов. А акты нам нужны... Итак, на вас лежит большая миссия наладить деловые отношения с организациями Сахалина – там неизведанный и, думаю, неисчерпаемый источник наших будущих работ. Давайте, ребята!»
Николаич дал еще кой-какие советы Маляренко и наказал ему вводить меня в курс событий. И затем, отпустив Александра Артемовича, выложил на стол десятку: «Возьми, Юг, рыбы красной; там полно её». «Какую?» — спросил я. «Горбушу там, или кету... В общем, дело твое», — услышал я долгожданный ответ.
Горбушу я пробовал, месяца четыре назад. Тогда еще Оксана не была моей женой, и она ездила на Сахалин вместе со своим начальником отряда (она работала в другом отряде) и Нилабиным по делам. Поездка была не весьма удачной, но рыбы они привезли. Красную. Ели ее вдосталь; конечно, узкий круг знакомых. Собрав заказы, бумаги, документы, я отправился домой с тем, чтобы вечером выехать в аэропорт и отправиться из Красноярска за три с половиной тысячи километров на восточную окраину СССР – остров Сахалин. Я был готов к этому...
Маляренко – тоже, но по-своему...
* * *
Вот именно, Маляренко пришел в аэропорт, готовый по-своему.
Уже издали я заметил его серое пальто с поднятым воротником. Артемыч шел деловой походской по коридору и ощупывал глазами встречных – наверное, искал меня. Я вышел из бокового прохода, тронул его за рукав.
И сразу, как только он заговорил, мне стало ясно, что он уже успел нагрузиться. Что мне оставалось делать? Остаться спокойным и не показывать вида. Но он сам ударился в разъяснения. «А, Тельнов! Здорово. Долго ждал?» Признаться честно, он прибыл в срок, как и договаривались. «А я, значит, еле из дома вырвался: гости у меня. Но всё! Летим». И вдруг заторопился: «Да ты не смотри на меня так; чего не бывает в жизни?» Он ухмыльнулся и осведомился как бы невзначай: «Регистрация была объявлена?»
Нет, её еще не объявляли. Трудность нашего положения заключалась в том, что согласно билетам мы должны вылететь только в ночь с 5-го на 6-е марта; но с обоюдного согласия решили попытать счастья на сутки раньше. Может, удастся!
По аэровокзалу раздалось: «объявляется регистрация на рейс 2883, по маршруту «Свердловск – Красноярск – Хабаровск. Регистрация у первой стойки». Так, попытаемся улететь до Хабаровска.
Пьяная физиономия Маляренко, который ещё пытался шутить в очереди, пристроилась около самой стойки. Мне было плохо видно его за головами других; но вдруг в очереди раздался шум, и обескураженного Артемыча вытолкали вон.
Я вскипел, вслух стараясь не показывать моего раздражения; отобрал билеты и командировочные у своего напарника и начал пристраиваться в голову очереди. В хвост очереди вставать было бесполезно.
Прошел целый час в томительном ожидании, непрерывной борьбе за лучшее положение у стойки, в тяжелой жаре среди потных людей. Наконец, рейсовые пассажиры зарегистрировались и дошла очередь до нас – зайцев, внерейсовых, безбилетников, по телеграммам. Перебивая всех громовым голосом, билетёр за стойкой объявила, что будет оформлять на рейс 2883 только по телеграммам.
Так мы с Артемычем остались за бортом этого самолета. «Не горюй, — посоветовал мне бледный Маляренко, из которого хмель, кажется, уже начал выходить, — попытаемся отправиться на утреннем рейсе, прямом».
Оставалось подумать, как убить нам оставшиеся пять часов до семи утра: вернуться по домам или переждать здесь? Артемыч предлагал ехать к нему домой. «Да, — подумал я, — как же! Тебя потом не поднимешь!» А ехать домой на такси, потом обратно – лишние деньги, нервы, дрянной сон, новое прощание. И мы остались. Нашли два свободных кресла и поместились вних.
Но Маляренко не сиделось. Повозившись, он снова подался куда-то; видно, на поиски новых приключений. Я погрузился в дрему (ведь шла ночь, когда нормальные люди должны спать). Но через часа полтора Маляренко разбудил меня; настроение его было явно повеселевшее. С чего бы это? А он совал мне под нос бутылку и, не стесняясь соседей – благо, что половина из них спали, – ласково бормотал мне: «Пей, Юг, это спирт, чистый спирт, не бойся». Спросонья, еще ничего не понявший, я механически ткнулся губами в горлышко бутылки; но когда мне в нос ударил резкий запах, явно не напоминающий спирт, а что-то лишь близкое к этому, я очнулся вконец и отстранил бутылку рукой. Жестко ответил: «Артемыч, в командировках не пью! И тебе не советую!» «Заложишь?» «Зачем, — пожал я в ответ плечами, — предупреждаю».
Сон прошел. Я удобнее вжался в кресло и поднял на Маляренко глаза. Мы встретились взглядами.
Артемыч загудел своим голосом, уже тихо и доверительно. «Юг, не обижайся! Зашел к техникам здесь (...хм, друзья, что ли, его?). Нет, я их не знаю, не подумай чего. Они и предложили мне бутылку спирта, и главное дешево, всего за шесть рублей». «Артемыч! — я перебил его. — А ты уверен, что это спирт, а не... денатурат? Понюхай-ка». Не знаю уж, или Маляренко прозрел, или пронюхался, но я оказался прав. Начав сокрушаться, он снова скрылся с моих глаз. Поспать мне не дал; заявился через полчаса с обиженным лицом и начал жаловаться: «Что, остановить меня не мог? Отобрал бы ее (...это бутылку спирта-то, да у кого?!)».
«Что случилось?» Я чуть не расхохотался, глядя на его готовую расплакаться физиономию. «Да вот, ставил в карман пальто, а она мимо, и о пол...» — и древняя горечь всех русских мужиков раздалась в его голосе. Я участливо посоветовал: «Артемыч, да ты сядь лучше, поспи немного. Оно и забудется».
Сквозь сон до меня пробились слова диктора: «Из Москвы прибыл рейс 17. Объявляется регистрация на рейс 17 по маршруту Красноярск – Чита – Южно-Сахалинск. Оформление билетов и багажа производится у стойки номер один». Я лихорадочно толкнул разоспавшегося коллегу в бок: «Пошли, Артёмыч, ещё один наш!»
С молчаливого согласия, ещё не забывший ночной толкотни, я доверился Маляренко. Да у него и язык легче подвешен, чем у меня – тоже козырь. Народу, что было странно, оказалось мало. Буквально через пять минут я увидел, что Александр Артемович протягивает регистраторше наши билеты и командировочные. Значит, удача! Летим на прямом.
В семь часов сорок минут самолет ИЛ-18 стартовал на Южно-Сахалинск с промежуточной посадкой в Чите.
Измученный долгим ожиданием, я заснул в откинутом кресле, рядом, поудобнее устраиваясь, ворочался Маляренко. Два часа полета до Читы прошли для меня незаметно, лишь иногда Артемыч беспардонно толкал меня в бок. И затем пояснял свои действия: «Конфеты несут. Видишь?» Но я видел еще и то, как он яростно запускал свою руку в груду конфет на подносе и объяснял недоумевающей проводнице, любезно ей улыбаясь: «Это на двоих нам. Мне и моему коллеге. В командировку на Сахалин летим». Блаженная улыбка растягивала его губы. Засыпаю, и снова: «Воду несут. Будешь пить?» Я не отказывался.
Самолет резко тряхнуло, и мы покатились по посадочной полосе. Объявили, что посадка в Чите будет продолжаться 45 минут, следите за объявлениями.
Голодные, мы сразу ринулись в буфет. Запивая пирожки кофе, я с удивлением заметил, что Артемыч хлопает себе по карманам пальто. Надо заметить, что его серо-черное пальто стояло на нем колом, а посему Маляренко походил в нем скорее на бандита (или жулика), чем на инженера. «Что ищешь, а, Артемыч? Или потерял что?» «Да вот, — не прерывая своего занятия, ответил он, — спирт затерялся куда-то». «Ты ж его ночью разбил». На его лицо набежала тень мучительного вспоминания. «А-а-а, тогда конечно», — и без лишних слов он пошел к буфету. Было ясно, что пошел за спиртным.
Я с интересом смотрел на то, что сейчас будет, так как заметил, что в буфете из спиртного ничего не было. Но Артемыч упрямо подмигивал буфетчице, сулил ей золотые горы за бутылку вина. Она в ответ лишь поставила перед ним маленький пакетик, дорожный набор – яйцо, кусок колбасы, два хлеба и... «О, счастье, — Маляренко лихорадочно полез за бумажником. — Сколько стоит?» «Два рубля». В пакетике помимо всего была маленькая бутылочка-сувенир коньяка на 50 грамм. Маленькая, приземистая, толстенькая и... такая привлекательная. Артемыч сгреб пакет и одним движением сунул его в карман. Не успел я оглянуться, как он убежал по лестнице наверх. И черт с ним! Я выругался про себя, неторопливо доел пирожки, покурил, осмотрел «Союзпечать».
Объявили посадку на наш рейс. Пассажиры потянулись к выходу на поле. Маляренко не было. Прошла минута, вторая, третья. Я в тревоге заметался, не смея представить себе всего того, что ожидает нас, если этот тип сейчас не явится.
Он, конечно, явился. «Вовремя», — буркнул я. А он вдруг заторопил меня, подхватив под руку. И по ходу начал выкладывать: «Зря не пошел со мной. Я в ресторанчик заскочил, выпил бутылочку пива. Эх, как это хорошо с похмелья. Впрочем, ты ж не пил вчера!»
Еще пять с половиной часов болтались мы в воздухе. Муторное это занятие – заставлять себя спать в самолете, особенно когда этого не хочешь. Но время как-то надо было убивать. Под ухом ревела турбина, гудели винты, в голове стоял шум. Обалделый, я наконец заснул и проспал буквально всё – и тайгу и горы внизу, и Татарский пролив, и сам поворот самолета над островом в направлении Южно-Сахалинска. Очнулся лишь тогда, когда объявили о посадке самолета в аэропорту города. Мы прибыли. По местному шел девятый час вечера.
Ехать в город не имело смысла. Получив багаж: я – портфель, Артемыч – чемодан, мы направились в гостиницу аэропорта. Места там были.
Уже перед сном Маляренко продолжал восторгаться: «Слушай, неужто мы на Сахалине? Даже не верится». «А ты поверь, — буркнул я; разговаривать в этот момент о чем-либо у меня не было никакого желания. — Вот взгляни в окно и убедись в правоте своих слов». Артемыч подошел к окну: гул самолетов, оголенные деревья, вдали здание аэропорта и магистраль, прямой стрелой уходящая в город, с обоих сторон обсаженная тополями. Сырой воздух врывался в форточку.
Утром шестого марта, то есть на следующий день, мы приступили непосредственно к делам. Автобус довёз нас до города, и мы сошли около аэроагентства. Чувствовалось, что это центр Южно-Сахалинска. По другую сторону от кассы агентства «возвышалась» пятиэтажная коробка гостиницы «Сахалин». Но свободных номеров там не оказалось. «Зайдите вечером. Может будут», – посоветовала нам администратор. «Во сколько же?» «Часов после четырех. У нас к тому времени многие уедут».
Мы вышли к площади. В центре её на гранитном постаменте возвышался памятник Ленину, лицом стоявший к зданию обкома, позади, в тумане, проглядывался старый железнодорожный вокзал. Рядом с ним гремела стройка – как впоследствии оказалось, строили новый вокзал. Почтамт, гостиницы, магазины. И лента проспекта имени Ленина снова уходила вдаль.
Артемыч бодро прошел мимо здания обкома и свернул направо. Искать интересующее нас управление нам пришлось недолго. Узнав, что мы из Красноярска, в кабинете директора собрались сам директор, главный инженер, главный геолог и главный маркшейдер. От такого обилия главных у меня даже зарябило в глазах.
Представились заново. Главный инженер, человек по натуре деятельный, сразу приступил к делу. «Привезли документацию?» Маляренко стрельнул в его сторону глазами: «А как же вы думали!» Завязалась оживленная беседа. Говорил в основном Артемыч, я больше молчал. «Зачем говорить, если у Маляренко лучше получается. А то могу сказать кое-что невпопад. Если, конечно, спросят...» Меня спросили. И сразу куда-то пропала робость, ответы мои были спокойные и гладкие. НЕ было даже волнения, хотя сейчас меня можно было сравнить с ягненком, недавно вступившим на самостоятельный путь и сейчас обороняющимся против матерых волков. Вообще-то так оно и было на самом деле – специалисты здесь были кадровые, каждый – знаток своего дела.
Первым защищал свой проект Маляренко. Разложил на столе чертежи и как по писаному начал говорить. В этот момент дверь кабинета отворилась и вошел высокий и статный мужчина, лет за тридцать, с татарскими чертами лица. Это был главный инженер объединения, последнему подчинялся завод. Артемыч отрекомендовался. «Так быстро сделали? Ну-ну, посмотрим. Начинайте». Вмешался директор завода: «Гаяз Усманович! Пока вы шли к нам, он уже рассказывать начал». Пришлось Маляренко объяснять всё сначала. И по мере объяснения лицо Гаяза Усмановича хмурилось. Наконец он не выдержал и быстро, но четко и раздельно заговорил: «У вас всё? Хотите правду? Сырой этот проект, очень. Недоработан». Не только для меня, но и для Артемыча это был удар, причем неожиданный. Как так? А Главный заходил быстро по кабинету: «Почему вы думаете, что время проведения – через десять лет?» «Но сланцы-то надо полностью отработать», — Маляренко еще не понимал самой сути дела. В растерянности был и я. «А вы знаете, что карьер почти в городской черте?» Артемыч открыл было рот ответить, но был снова задавлен. «Да нам его максимум года через два-три закроют, а вы – десять... Как так? Городские власти уже ограничивают взрывы. А если нет отбитой горной массы, то как нам работать?» Артемыч в упор взглянул на главного: «А вы сообщали нам это? Нет! А что же сейчас требуете?» Но Гаяза Усмановича сбить было нелегко: «Нет, нет и нет. Проект сырой. Как вы думаете, товарищи?» Присутствующие, поколебавшись, согласились с его доводами: «Да, проект сырой». «Но разрешите! — Артемыч снова, как утопающий, пытался ухватиться за свой оставленный без внимания вопрос. — Как же так? Вы нам ничего не сообщали по поводу этого, а теперь говорите такое...» «А что бы вы хотели услышать? Вы же сами понимаете, что мы не можем работать по этому проекту. Он недоработан и не отвечает современным условиям и положению, — главный постучал ногтем по часам и взглянул на меня. — Следующий».
Следующим, конечно, был я. Спокойно, чуть ли не равнодушно, я разложил с полдесятка больших синек (большие по размеру синьки-чертежи назывались у нас в партии «простынями») и приступил к «повествованию своей Одиссеи в ходе проектирования». Сам карьер был несложным, рекультивация его весьма простая, но вся сложность состояла в том, что этот песчаный карьер был прибрежным; Охотское море билось прямо у «ног» этого карьера по всей его длине.
Меня слушали внимательно, задавали вопросы. Я отвечал. По молчанию, установившемуся после окончания доклада, показалось, что проект будет одобрен. Так оно и было. Гаяз Усманович внимательно посмотрел на меня: «Что ж, вполне прилично. Но вот неясно одно...» Снова склонились над планами и чертежами. Затем нетерпеливо вмешался главный маркшейдер завода. И хоть он тоже указал некоторые промахи в проекте, моя душа ликовала: «Проект принят!» Гаяз Усманович оглядел всех и взял заключительное слово: «Товарищи, я считаю, что данные работы выполнены на вполне приличном уровне. Однако проект Маляренко, — он кивнул на хмурого Артемыча, — требует доделки». «Если не полной переделки», — подумал я. «А проект Тельнова считать принятым с устранением некоторых незначительных замечаний. Вот так, а теперь я вынужден уйти по делам, — главный взглянул на директора завода. — Остальное решать вам». И он стремительно ушёл.
Еще часа полтора мы составляли техзадания на проектирование новых объектов. В этом принимали активное участие главный инженер завода и главный маркшейдер. Я ждал, пока Артемыч заговорит о самом главном – подписке актов завершения работ. Но какое там говорить сейчас об этом – на успех я не надеялся и даже боялся об этом заговорить. Но с другой стороны опять же – неподписанные акты для нас крах!
Маляренко всё ж заговорил об этом. Порой он удивлял меня своей способностью оставаться стойким в тяжелейших условиях. А сейчас именно и была критическая обстановка.
«Работа наша сделана, я думаю», — начал он. Главный инженер завода, которому предназначались эти слова, поднял голову. «В общем-то, считаю, да. Опять же, недоработки...» — он многозначительно умолк. «Фи, — весело вмешался Артемыч, — это ж недолго исправить. Но только там, у себя, мы можем это сделать. Только акты бы желательно подписать». Заметив недоумевающий взгляд инженера, Маляренко пояснил: «Жить-то нам как-то ведь надо». Я думал, они сейчас сцепятся, но беседа их протекала весьма вежливо. «Приходите завтра, — улыбнулся под конец нам главный инженер, — тогда и решим».
Ошарашенные, но тем не менее не потерявшие надежды, мы вышли из управления завода. Артемыч сразу потянул меня в магазин. «Зачем?» — удивился я. «Если приехали, то должны посмотреть, какими продуктами здесь торгуют. А может и вино хорошее есть!» — и он первый шагнул в магазин. И сразу его ослепили своим блеском винные бутылки с этикетками «Анапа». «Берем?» — горячо прошептал он мне. Я взглянул на прилавок и удивился: вино было здесь дороже, чем на материке, а над водкой стояли цены – 3,92 руб; 4,42 руб. Этой дряни сорокоградусной вообще-то и в Красноярске навалом, а вот вина хорошего там не достанешь. А что если взять и привезти домой? И мы взяли по паре бутылок «Анапы». Но опять же цели при этом преследовали различные: Артемыч, сев на своего конька, уже представлял, как будет насыщаться этим божественным напитком. «Впрочем, — будто невзначай обронил он, — дрянь винишко, водка лучше. Но и вина требуется попробовать».
Мы зашли в «Сахалин». Как и обещала нам администраторша, места были. И народу почему-то было очень и очень мало. «Что так, — спросил её Маляренко, — не едут к вам люди?» «Почему вы так решили? Едут, и причем очень много. Вы просто счастливые, что в такой период попали». И выдала нам квитанцию на уплату. Определила она нас на пятый этаж, и волею судеб мы оказались не в одном номере, а... соседями, нам буквально предстояло спать через стенку. «Может, так и к лучшему», — порешил я и пошел в свой номер. «Заходи, — крикнул мне вдогонку Артемыч, — сейчас пробу снимем!»
Я открыл ключом дверь и шагнул в номер. Неширокая длинная комната, две кровати, две тумбочки, стол, два стула. Раковина. Ага, горячая и холодная вода. Я блаженно упал на кровать и вытянулся. Впечатлений за этот день было много. Хотя бы разница в четыре часа времени: здесь надо уже спать, а там у нас еще даже стыдно и ложиться; здесь встаешь, а там входишь только во вкус сна. А поэтому... я не выспался, даже голова болит. Но, тем не менее, когда шли по городу, я с интересом озирался по сторонам. Чаще шли среди снежного коридора, будто по туннелю, лишь открытого сверху; стены этого тоннеля достигали в высоту до полутора-двух метров. Вот это да! И так раз за разом – из одного туннеля – в другой. Лишь центральная площадь была очищена от снега.
В стенку раздался требовательный стук. «Беспокоится, — ухмыльнулся я. — Лучше бы отстал! Так нет же, пытается втянуть в выпивку. Правильно, пью я, но не в командировках». Поднявшись и потянувшись, я пошел к Маляренко в гости.
Номер был у него такой же, как и у меня. «А где сосед?» «Пропадает где-то, — Артемыч с аппетитом взглянул на «Анапу» и ловко вскрыл ее. — Садись, чего встал». И захохотал: «Будь как дома, но не забывай, что ты в гостях!» Он плеснул в стаканы вина, налив их до краёв. «Пей», — лихо приказал он и показал это на личном примере. Я выпил половину. В дверь постучались, и вошел какой-то забитый оборванный мужичишко, явно смахивающий на бича. «Сосед?» — спросил я Артемыча. «Не-е, — тот беспечно отмахнулся, — в коридоре только что познакомились». Это мне явно не понравилось. Но Маляренко уже разлил вино по стаканам. «Пьем. За знакомство!» — торжественно провозгласил он. Бич невнятно представился мне. Я передернулся от отвращения. А Артемычу хоть бы что! Выпив, он пристал с расспросами к своему неожиданному знакомому: «Ну, рассказывай, как тут Сахалин? Что люди делают? Живут? Ха-ха-ха...» Бич что-то мямлил ему заплетающимся языком. На столе появилась вторая «Анапа» и тут же исчезла в глотках «сдружившихся» Артемыча и этого незнакомца. Из этой бутылки мне досталось лишь полстакана – от остального я отказался. «Ну, тащи остальные!» «Что «остальные»?» — не понял я своего старшего. «Ну, твои бутылки». «А может, Артемыч, хватит?» — я уже не на шутку был обозлен. «Неси, чего там!» «Завтра, Артемыч, по трезвой лавочке!» Я подумал, что на кой черт я принесу их сейчас сюда – всё равно сожрут, без толку, без разбору. Да и если честно сознаться, я должен Маляренко всего лишь бутылку «Анапы», но уж ни в коем случае не две. И я остался сидеть, курить и наблюдать за ними. Вдвоем они допили бутылку перцовки, принесенную бичом. Может, остановить его надо было, уговорить? Хватит, надоело вразумлять: я не нянька, чтобы хватать его за руку, он – не ребенок.
Допили последние капли перцовки. Артемыча потянуло на подвиги. Вот тут-то его и надо было останавливать: я выгнал бича и предложил Маляренко лечь спать. «Трезвенник? — загудел он на меня. — Нет, ты просто прикидываешься им. Знаю я тебя. Слушай, а может тебе шпионить послали за мной?» Я вскипел: «Слушай, ты, Артемыч, не болтай ерунду. Давай спать ложись. И запомни, что фискалом я никогда не был. Но если ты будешь всё время пьянствовать, то я просто вынужден буду рассказать на работе про твои выступления!» «А я не пью в рабочее время!» — вскинулся Маляренко. «А кто утром потянул меня сегодня в столовую? Я думаю, зачем это? А он стаканчик вина опрокинул». «Так опохмелиться ж надо было!» «И чтобы после этого от тебя пахло, да? Что же люди тогда о нас подумают?» «Подумают, подумают, — пробурчал он. — Ты молод и крепок еще, тебе и опохмеляться не надо». «Зачем, если я не пил? А ты вот налакался. Какой же ты после этого старший?» «Бери тогда на себя всю ответственность, а я посмотрю». Больно ударил. Это я-то, что первый раз в командировке, и который еще мало знает «что к чему», должен возглавить наш маленький коллектив? «Не выйдет, — ответил я. — Артемыч, назвался груздем – полезай в кузов». Он весело, видно ободряя себя, засмеялся: «Ну вот, видишь. Пойдем сегодня в ресторан?» Я насторожился: «Это еще зачем?» «Покушать. Немного выпить. Музыку послушаем». «Пойдем, пойдем! — успокоил я его. — Ложись спать. Отоспишься и пойдем». «Точно, да?» — уже засыпая, пробормотал Маляренко. «Да», — ответил усмехнувшись я. Идти или не идти? А что бы не сходить, поесть хоть раз по-человечески. И я решился.
Вечером, приодевшись получше из своих скудных командировочных запасов одежды, я зашел к Маляренко в номер. Тот уже сидел как на иголках, готовый к немедленному старту. «Готов, Артемыч?» — улыбнулся я. Тот ухмыльнулся: «Всё, трезв как огурчик. Проспался». Мы спустились вниз и прямо из фойе гостиницы прошли в ресторан. «Океан», — прочитал я название ресторана на зеленоватой вывеске.
Джазовая музыка нас оглушила сразу. Дым над столиками, танцующие твист и шейк пары, вихляющие и прыгающие по принципу «кто во что горазд», надрывающийся оркестр с эстрады, перезвон бокалов и лязг вилок. Секундное замешательство прошло, и мы отправились выискивать места. Нам повезло – не сделав и двух шагов, мы заметили полупустой стол, за которым сидели двое пожилых, но еще крепких мужчин. Они о чем-то тихо беседовали между собой. «Свободно у вас? — прогудел в их адрес Артемыч. — А то, может, нас возьмете?» Хозяева стола согласно кивнули головами и продолжали как ни в чем не бывало вести прерванный разговор. «Оно и к лучшему, — подумал я. — Будем сами по себе!» — и присел на стул, удобно устроившись за столом. Маляренко последовал моему примеру. Ждать пришлось недолго – официантка подошла тут же. Артемыч, взглянув на меня, принялся заказывать: «два бефстроганова, два салата, пятьсот водки». До меня дошло, что он заказывает на двоих. Ну, как бы не так! Я резко оборвал «коллегу»: «Александр Артемович, не забывайтесь, я буду делать для себя заказ отдельно. Кстати, об этом я предупреждал вас ранее». Официантка сделала недоумевающее лицо, Маляренко нахмурился. «Ничего, — мелькнуло у меня, — съешь эту пилюлю. Начальник нашелся! Будет мне тут приказывать, что есть да что пить». И голосом, не предвещающим ничего доброго Артемычу и не терпящим никаких возражений, я заказал себе мясной салат, бефстроганов и... двести грамм сухого вина. Водки я не хотел, а сухое вино, по сведениям старожилов, было хорошее. Маляренко в свою очередь, метнув на меня взгляд, «мужественным» голосом заказал жаркое и триста грамм водки. «Скостил, значит. Ну, посмотрим!» — я ухмыльнулся и потянулся к пачке «Беломора». Папиросы здесь были высокого качества – фабрики Урицкого.
Минут через двадцать нас обслужили. Победно звякнули два небольших стеклянных графинчика, порадовав своим содержимым наши взоры. Молча мы приступили к ужину. Медленно цедил я вино, смакуя каждую его каплю, с интересом оглядывался по сторонам. Артемыч заметил, видно, это и с интересом спросил: «Любуешься? Прицениваешься, какую увести?» «Да нет, Артемыч, не угадал. Хочу потанцевать, вот и выбираю цель». «Ну и как успехи?» «А, — я махнул рукой, — вставать неохота, тащиться куда-то. Устал я, одним словом, сегодня». Маляренко, выдувший к тому времени уже полграфина, лукаво заблестел глазами. Мне это показалось подозрительным. «Артемыч!» «А-а?» — он вздрогнул. «Куда загляделся? Спросить тебя хочу – ты хоть отрезвел после своей сегодняшней выпивки? Или тебя еще качало, когда ты шел сюда?» Маляренко густо захохотал и вместо ответа отправил себе в рот очередную порцию водки.
Допили, доели. Артемыча здорово развезло, и он поднимался по лестницам, тяжело опираясь на меня. Лифт не работал, и по какой причине – совсем не ясно. Дежурная как-то, правда, говорила, что лифт предназначен специально для груза. А Маляренко что, сейчас не груз, что ли? Вот бы его сейчас за ноги, в кабину лифта – и наверх. Но тяжел этот «трезвенник». На каждой площадке из зеркал на нас глядели пьяная рожа Маляренко и моя несчастная физиономия. Восхождение на пятый этаж гостиницы длилось минут двадцать; Артемыч даже захотел с перекуром, однако пришлось лишить его этого удовольствия.
Мы зашли в его номер. Мелкими шагами он доплелся до койки, пал на нее и сразу же захрапел. «Артемыч, Артемыч, — я толкал его в плечо, — ты хоть разденься». Он бормотал в ответ что-то несвязное, соглашаясь со мной из вежливости. Намек в общем-то был ясен – отстаньте от меня до следующего утра. Сосед по его номеру был дома, и, наказав, чтобы он присмотрел за Маляренко, я ушел к себе. Надо тоже поспать.
На следующее утро вид моего старшого был неважный. Он тянул меня в столовую, жалуясь, что он голодный, что я его так скоро загоняю, что сейчас, мол, не блокада, и есть что покушать. Тяжело было со сна и мне – не сон был, а одно мучение: заснул поздно из-за этих «несчастных» часовых поясов, а встать уже пришлось в восемь утра по местному, тогда как в Красноярске всего лишь четыре утра (или лучше сказать ночи). Но, как говорится, со своими законами в чужое племя лучше не соваться. Значит придется принять сахалинский режим.
Над Маляренко пришлось сжалиться – уж такой он был смирненький и несчастный. Заставив его побриться, я посетовал на мятый костюм своего товарища: «Н-да, Артемыч, великолепно ты смотришься!» «А что, а что?» — засуетился тот обеспокоенно. «Да ничего. В смысле хорошего. Ладно, ближе к делу: помни, что завтра праздник женщин, то есть сегодня... что сегодня?» Артемыч не понял с его туманным взглядом и тяжелой головой. «Сегодня, — я поднял указательный палец, — у них укороченный рабочий день!» «Ах да! — Маляренко, до этого еще полуодетый и разболтанный, через минуту стоял уже готовый. — Идем. Но давай сначала всё ж в столовую, а?» Я согласился.
После столовой, где он жадно поел второго и выпил два стакана томатного сока, Артемыч стал веселее. «Теперь принимай командование на полную свою ответственность!» — пошутил я. Артемыч важно кивнул головой.
Задачи, которые в этот день стояли перед нами, у нас было две: подписать акты и зайти в один из трестов, из которого поступила заявка. Приступили к задаче номер один. Маляренко, расплескивая на ходу шутки и поздравления в честь наступающего праздника, вошел в производственный отдел управления завода первым, я за ним. Женщины были покорены, заулыбался и поднял голову даже главный инженер завода. Аристократическим жестом одарив женщин конфетами и баранками, которые Артемыч извлекал из кармана своего серого пальто, он подошел прямо к столу главного. Я, соответственно, за ним, прикрывая его тыл.
Переговоры велись вполголоса. «Пахнет?» — поинтересовался главный инженер. Артемыч скромно потупил взор: «Немножечко. Вчера чуть перебрал». Они зашептались дальше. На шепот начали оглядываться работающие, а для Маляренко хоть бы хны – понизил до таинственного голос и говорит дальше, словно он и инженер заговорщики. Этого дара природы (или воспитания) у Маляренко не отнимешь – здесь он силен, умеет обделывать и дела, и людей. И минут через десять разговора Артемыч уже осторожно придвигал акты к инженеру. Тот, как бы невзначай, отодвигал их обратно. Невозмутимо они «придвигались» снова. «Сделаете?» — вопросил главный. «Клянемся!» — бодро заявил Артемыч. «Ты мне не клянись, — рассмеялся инженер, — давно ведь уже из пионерского возраста». «А я в другом смысле пионер, — Маляренко для эффектности доказательства стукнул себя в грудь (и чуть не закашлялся, но вовремя выправился. — Из нашей фирмы мы (благосклонный кивок на меня) впервые здесь, приехали устанавливать контакты. До нас здесь были только маркшейдеры: одна – в августе, трое – в октябре, да наш начальник отряда Нилабин Андрей Николаевич». «Знаю. Заходил он к нам. Разведывал». «Вот-вот! Разведывал. А мы – уже «копаем». Артемыч как бы невзначай пододвинул акты. Главный искоса взглянул на них и повторил: «К апрелю сделаете?» «Сделаем», — Маляренко уже тянул руку за актами. Подпись, подпись... печати. «По одному у нас, остальные вам», — распорядился Артемыч, сложил все бумаги в папку и завязал тесемки. «Теперь до после-праздников! — Инженер протянул руку. — Зайдете, узнаете про тех-задания». Мы ответили ему крепкими рукопожатиями и вышли из управления.
Отсюда рукой подать до площади – пройти лишь несколько десятков метров по снежному открытому туннелю. А далее – по центральной улице вниз.
Пошатавшись по зданию, на фасаде которого было множество производственных вывесок, мы наконец нашли требуемую нам приемную. От управляющего трестом – к главному инженеру, от него – в проектно-сметное бюро. Там и укрепились. Часа два сидели там, говоря о делах. Подписали договоры на выполнение работ. «После праздника вы еще здесь будете?» — спросил начальник бюро. «Здесь, — Артемыч поерзал. — Надо бы съездить осмотреть местность». «Вот это я и хочу вам предложить. Чтобы вам была ясна обстановка – надо! Давайте договоримся так – в понедельник, то есть одиннадцатого числа, я подъезжаю... Вы в гостинице живете? «Сахалине»? Так вот, к девяти утра я подъезжаю к гостинице, вы меня поджидаете. Я на «газике». Согласны?» «А где место будущих работ? — поинтересовался я. — Покажите нам на карте». Начальник бюро подошел к стене, его палец остановился на кружочке Южно-Сахалинска и заскользил вверх. Я подошел поближе и прочитал: «Стародубское». Подумалось: «Этот поселок, видно, крепок, как старый дуб. От того и название». Всё было согласовано, оговорено, и вот в третьем часу дня мы оказались свободные.
«Артемыч, зайдем в магазины?» Маляренко ни слова не говоря потянулся в направлении вывески «Вино, табаки». «Э-э-э, не туда, — предостерегающе протянул я, — я тебя в другие магазины приглашаю – промтоварные. Вон их тут целый ряд – галантерея, трикотаж, ювелирный, а ты... за вином!» Сцепились в яростном споре мы тут же, прямо на середине неширокого прохода. Нас толкали, на нас оглядывались, ругали, одинокие мужики даже покрыли матом. Спор затянулся, но победа осталась за мной. А промтоварные магазины были на перерыве...
С горя мы зашли в столовую. Как потом оказалось – в диетическую. «Слушай, Юг, мы точно в столовую попали?» — недоумевал Артемыч. «Да, в то же здание вошли, куда в столовую утром ходили. Ясно, что это столовая, но почему-то другая...» «Вот в этом и суть». Нас пропустили в специальные воротца, и мы сели за стол. Любопытно – столов в маленьком зале столовой было мало. «Мамаша! — женщина, сидевшая рядом, подняла в нашу сторону голову. — Это что за столовая?» «Диетическая», — прозвучал короткий ответ. Мы одновременно с Артемычем присвистнули, за что нас чуть не выгнали обратно. Но вот официантка успокоилась, мы тоже. Сделали заказ, который был выполнен через две минуты. Всё это удовольствие – угольная рыба с гарниром, первое и третье, да на холодное грибы, – обошлось нам на рубль с четвертью каждому. Удивляться было нечему. «Сахалинская жизнь дороже материковой, — сыронизировал Артемыч. — Зато здесь все блага».
В этот вечер Маляренко был на удивление трезв. Мы заглянули в магазин, что напротив гостиницы для военнослужащих, прошли по обоим этажам и остановили свой выбор на консервах, закупив на каждую душу «завтрак туриста», сардины и еще какую-то плоскую банку. «Ешь, — потчевал меня уже в своем номере Артемыч, — крепче будешь!» Я усмехался и... ел свои консервы, которыми так старательно «кормил» меня Маляренко. Его сосед по номеру был тут же, лежал на кровати и хитро косился на нас. Приглашали и его к столу, но он отказался. А потом вдруг задал недвусмысленный вопрос: «Может, погреемся? Тем более завтра праздник. Женщины – они, брат...», — он не закончил своей мысли и сделал вид, что читает книгу. Мне был понятен его намек; сурово взглянув на Артемыча, я предупредил его: «Смотри, Артемыч! Ни грамма чтобы, а то дух выпущу завтра. Не забыл, что наметили на завтра?» «Не забыл, — загудел Маляренко, ухмыльнувшись. — Значит, едем? Не передумал?» «Нечего передумывать-то, — пожал я плечами, — город посмотрим, да и горбуши ведь мне надо закупить, раз ее здесь нет». Дело вот в чем – на завтра, то есть в праздник женщин (а что делать, раз жены далеко), мы наметили поездку в город Корсаков; поедем с утра. Попрощавшись с Маляренко и его соседом, я вышел из их номера.
Спать еще не хотелось, да и рано – шел всего лишь десятый час вечера, и я решился прогуляться по городу.
Красив вечерний Южно-Сахалинск, этот город, затерянный на краю огромного Советского Союза, на суровом острове Сахалине. Блещущие неоновыми вывесками магазины, сверкающие рекламы, тихий перекатывающий шум на улицах, шуршанье шин по снежному насту, над головой – сияющие лампы. В начале марта зима здесь еще не кончается, она еще кинется в нападение на город – завьюжит, заметет, ослепит людей и в диком разгуле пройдется поземкой по улицам города. Люди ходят здесь по улицам, как в открытых туннелях, прохожая часть отделена от проезжей высокими, до двух метров, валами. Когда серый сумрак скатывается на город, улицы заполняются людьми; их потоки катятся лавиной по обеим сторонам – с работы, в магазины, домой, в кино. Проходят гуляющие пары – старые и молодые, кто по делу, кто так, просто прогуляться. Разговоры чаще на русском, иногда проскальзывают на других. Русские китайцы, корейцы, потомки японцев и местных аборигенов. Светлые и темные лицом, узкие и распахнутые глаза. Целая гамма оттенков волос – каштановые, русые, черные, седые (это уже заработанный цвет), дымчато-пепельные (а это уже парик); часто встречаются рыжие, с красивым бронзовым оттенком, девушки. Город Южно-Сахалинск – деловой город, в кругу заводов и фабрик, со скоплениями управлений, трестов, объединений городского и областного значения.
Покалывал морозец, становилось прохладно. Ночной холод сковывал город; затихали улицы...
* * *
Наутро я уже стучался в номер Маляренко. В гостинице царило едва уловимое оживление. Особенно это чувствовалось в женщинах – в ярких пернатых халатах они проскальзывали по зеленым дорожкам коридора и скрывались в неизвестном направлении. Из многих номеров раздавался завлекающий женский смех. В общем, добавить нечего – женский день! Их праздник.
... Маляренко был уже на «взводе». Я хмуро осведомился: «Артемыч, где это ты уже успел?» А тот весело мне: «Юг, знаешь, ты вчера ушел, а сосед достает поллитровку и приглашает меня разделить с ним трапезу». «Ну и поэтому ты сегодня пьян!» «Да нет, ты послушай...» — он что-то бубнил мне, а я с тоской думал: «Боже, с кем меня послали!» Я – врожденный атеист, но тут и в чертей поверишь, особенно в Маляренко. Выяснилось, что они вчера выпили с соседом не одну бутылку, а две – водку и перцовку – это радушный хозяин припас, у него событие какое-то случилось; наутро Артемыч побежал куда-то на «черный рынок» или задворки магазина – точно не скажу – и достал «живую воду». «Для опохмела, — так объяснил это сам Маляренко, — а то тяжко так. Да и праздник ведь, вот и помянули женщин». Опохмела хватило на то, что Артемыч был снова пьян. «А жену, мать и дочку помянул, интересно?» — чуть не спросил я, но удержался. Всё ж, наверное, «помянул».
В двенадцатом часу мы с грехом пополам вышли из гостиницы. Маляренко чуть заметно качало – хмель здорово въелся в него. Я встал в кассу, а Маляренко наказал никуда не отлучаться. Очередь продвигалась быстро, и вскоре в моих руках были два билета на Корсаков. Отправление автобуса «Океан», совершающего рейс «Южно-Сахалинск – Корсаков», по расписанию значилось в первом часу дня.
Маляренко на месте не оказалось. Искать его не хотелось, и я закурил папиросу. Дым струйкой поплыл в морозном воздухе. На Сахалине – я имею в виду его южную часть – не бывает слишком низких температур, минимальная температура здесь составляет ориентировочно минус тридцать. Зато ветра и метели здесь отчаянные. Однако благодаря зданиям, хоть и малоэтажным, – Южно-Сахалинск, вообще-то, город «низкий», его потолок в основном не выше пяти этажей – в городе более спокойно. А что мне десять-пятнадцать градусов мороза при спокойной, почти безветренной погоде?! Мне, который «нюхал» и полста ниже нуля. Прикол, теплынь. Я докурил папиросу и оглянулся в поисках Артемыча – его не было видно. А над привокзальной площадью уже гремело: «Объявляется посадка на рейс номер сто пятнадцатый...» Это на наш. Люди потянулись к автобусу, а Маляренко всё не было. Я схватил «командировочный» портфель и ринулся на поиски.
Серое пальто Артемыча нигде видно не было, но вот что-то знакомое мелькнуло около мужского туалета. Я метнулся вдоль забора, которым обнесли территорию постройки нового вокзала (и который только-только начал строиться) и «накрыл» беглеца. Маляренко вытаращил на меня глаза. «Ага, удовлетворил уже свою «жажду», — подумал я и наклонился к Артемычу, чтобы схватить его за руку. На меня пахнуло кислым винным запахом. «Где?» — выпалил я. Вопрос был задан таким тоном, что требовал немедленного ответа. «Да вот тут, с товарищами...» «Такими же забулдыгами, как ты! — отрезал я. — Давай на автобус, посадка давно уж идет».
В автобусе Артемыч, к моему ужасу, запел. Я ткнул его в бок и прошипел на ухо: «Заткнись, Артемыч, а то выброшу из автобуса». Он не удивился, кажется, даже обрадовался. И вообще он был весел; как я понял, его душа и тело «вступало» в состояние, когда мир смотрится в розовом цвете без присущих ему трудностей и горестей жизни. Всю дорогу Маляренко беспрестанно объяснял; я даже удивился его познаниям в географии Сахалина. Впечатление, что будто Артемыч специально читал об этом перед командировкой. «Вот это, — Артемыч тыкал пальцем в окно, показывая на синеющие вдали горы, — Корсаковский хребет!» «Да ну ты, — «восхищался» я, — так-таки Корсаковский. Ладно, пусть будет так, посмотрим, что дальше». А дальше Артемыч заснул и пришлось будить его, ибо мы приехали в место своего назначения.
Впечатление – унылое. Серая, небольшая и замызганная площадь; снега нет, присутствует лишь грязь. Напротив – гастроном, около которого три каких-то типа делят между собой бутылку красного. Я не двинулся с места, ожидая увидеть результаты дележа, а Маляренко так даже потянуло туда, как железную крупинку к всесильному магниту. Я понял его состояние и круто взял: «Давай, Артемыч, за билетами». Мы зашли в небольшое зданьице, где помещалась касса, и, посовещавшись, решили купить билеты на автобус, отходящий в седьмом часу вечера.
Маляренко взял билеты и протянул их мне. И мы потащились вдоль длинного заборчика – к центру, так сказали нам. «Неужто весь такой Корсаков?» — уныние овладело мной. Так прошли около полутора километров безрадостного «городского» пейзажа, и когда я уже отчаялся увидеть настоящее лицо города, он открылся нам во всем великолепии: прямая улица наверх уводила взгляд налево; впереди виднелась центральная улица города. Массивный серый бетон банка, архитектура которого так характерна для зданий этого типа, а чуть наискосок – двухэтажное здание ресторана «Корсаков». «Зайдем? — предложил уже чуть протрезвевший Маляренко. — Поедим? А то я уже проголодался». Обедать мне не хотелось, но я согласился с ним, тем более вывеска гласила, что на первом этаже находится то ли закусочная, то ли столовая. Мы зашли внутрь, и я пошел в буфет. Артемыч насторожился: «Куда ты? Мы же в ресторан собрались». Я в ответ усмехнулся: «Во-первых, ты собирался, по-моему, только поесть. Так вот, пообедать можно и здесь». «Да брось ты, Юг. Давай по-человечески отдохнем». Я со вздохом вспомнил наш недавний «человечий отдых» в ресторане, когда его, Маляренко, пришлось чуть ли не на себе тащить наверх, в его номер, но... согласился. Предыдущее мое несогласие основывалось на моих небольших финансах, но не скажешь же этого Артемычу. Сразу пристанет со своей «добротой» (а хватит ли ему самому своих денег на остальные дни командировки?)
Мы разделись и поднялись на второй этаж. Народу было немного, и мы сели за крайний столик недалеко от выхода. Маляренко сразу же вошел во вкус: «Да будь я здесь, и не попробуй красную икру и шикарную рыбу – это буду не я! Будешь брать? Ну и зря. Жмешься в деньгах? Тоже зря. Что они, эти деньги?!» Подошедшей официантке он начал делать заказ на двоих. Пришлось вмешаться, чтобы остудить его «агрессивность»: «Артемыч, я тебя предупреждал, не ставь себя в глупое положение; я сам себе буду делать заказ». Официантка переминалась с ноги на ногу и терпеливо ждала. Артемыч смирился: «Два бутерброда с икрой, кеты... триста водки... салат...» «Что же, заказ его традиционный», — улыбнулся я и заказал себе второго, салат и двести грамм сухого. Последнего – это чтобы не быть белой вороной на фоне Маляренко.
Нам принесли. Артемыч налил себе водки и вопросительно остановил графинчик около моей рюмки: «Налить?» «Спасибо, Александр Артемович, — сухо отрезал я, — но что-то не хочется. Да у меня и есть что выпить». Он хмуро выпил водку, зловеще процедил: «Трезвенником прикидываешься?» Не отрываясь от эскалопа, я спокойно ответил: «Опять? Отстань, Артемыч, надоел ты мне со своими подозрениями». Он метнул в меня молнии и принялся уничтожать бутерброд с икрой. «Ишь ты, грамотный какой!» «Какой уж есть». Маляренко опрокинул себе в рот новую порцию водки и доверительно придвинулся ко мне: «Значит, ты не шпионишь за мной». «Я ж тебе сказал, Артемыч!» — меня затрясло. «Врешь!» — и мой старшой неожиданно со всего размаху громыхнул кулаком по столу. Звякнула посуда. «Вот и врешь, гад! — повторил Артемыч. — Знаю, так и мечтаешь подкузьмить меня – спихнуть и занять мой оклад! Да это ведь по тебе видно! У-у-у, змея... А я и не догадывался об этом. Какую гадюку пригрел у себя на груди, а? А ведь помню, обучал его, вводил в курс дела, объяснял что к чему. И вот тебе благодарность!»
Да, что верно, то верно – Александр Артемович Маляренко помог мне в свое время войти в ритм работы, понять суть и порядок проектных работ. Следует по заслугам оценить здесь его помощь – он никогда не отказывал в разъяснениях, пояснениях, вводных. Мне, прибывшему в Красноярск в октябре прошлого года с солидным, однако голым теоретическим багажом, не хватало еще сметки применить эти знания там, где они требовались сейчас. Помогал Артемыч. Одно не нравилось мне при этом – он начинал издалека, с подробностями, «разжевывая» всё так, как будто перед ним стоял школяр, а не инженер (пусть даже не вошедший еще в курс событий). Проскальзывало в нем иногда и некое пренебрежение к тем теоретикам, которые в сущности еще и не нюхали практической работы. Такое отношение больно задевало меня – в чем я виноват, если по окончанию института сразу попал в проектную изыскательскую организацию. Маляренко внушал мне на первых порах уважение своим опытом в работе, но когда я начал проверять его записку к проекту, с которым он (вместе со мной и моим проектом) должен был лететь на Сахалин – я пришел в ужас. Корявые, обрывочные предложения и незаконченные полузаброшенные фразы переплетались с изысканными витиеватыми выражениями, и все это создавало впечатление, что суть проекта изложена не чисто техническим языком, а каким-то жаргоном литературного. Что и было из технических выражений в его пояснительной записке, то это только названия оборудования, механизмов и некоторые горные термины – так это ведь и было необходимо и уж ни в коем случае не являлось достижением технического языка Маляренко. Помню, как сцепились в споре Невский и Артемыч... шума было. Невский, специалист технического языка, поднаторевший в этой области, так и не смог доказать свою правоту. И лишь Нилабин, наш начальник отряда, усмирил «дебошира», поставив ему ультиматум: «Александр Артемович, вы или исправляете так, как это требуется, или я не принимаю ваш проект!» Маляренко смирился...
«И вот тебе благодарность!» — Артемыч мутными глазами посмотрел на меня. Я сдержал свою злость и посоветовал ему закусить. «Думаешь, пьяный буду?» — пробормотал он. Взяв вилку, Маляренко словно нехотя начал копаться в содержимом тарелки. Так, молча, провели мы минут пять. Я медленно, глотками, пил сухое вино, так же неторопливо ел, чувствуя, что Артемыч скоро снова пойдет в атаку. Он не замедлил этого сделать, начав со своего «любимого»: «Юг, сознайся, шпионишь за мной?» «Нет, Артемыч». «Врешь». «То есть лжешь, хочешь сказать?» «Ишь, какой интеллигентный. Но пусть будет так». Я чуть не рассмеялся. По лицу его пробежала тень озлобления: «Скрываешь, значит?» «Артемыч, я тебе на этот вопрос уже ответил. Больше повторять не собираюсь. Вопросы есть еще?» Они, конечно, у него были. «Юг, расскажешь там всё, как было? И меня, конечно, в самом неприглядном свете опишешь?» «А что с тобой цацкаться? Но при одном условии я могу этого не делать. Если ты не будешь пить последние дни». «Вот как?» «Артемыч, это необходимо. Ты старший, имеешь опыт и это нужно для завершения нашей работы здесь. Так вот – не пей; и мы, сделав все дела, вернемся обратно и...» «... И ты расскажешь всё, как было. Так?» — Маляренко с грохотом вскочил, стул под ним чуть не упал. Мое лицо перекосилось гневом. А он уже выкрикнул мне: «Так, что ли, паскуда?! Филер!» «Дурак ты», — сквозь зубы процедил я. Мои глаза уловили, как его рука стремительно схватила со стола полную водки рюмку и...
И водка плеснулась мне в подбородок и левое плечо. Пиджак сразу стал в этом месте темным. Я механически отер мелкие капли водки с лица – кожу жгло – и взглянул на Маляренко. В глазах того затаился звериный страх. С соседних столов обернулись, десяток глаз упорно вцепился в нас; к нашему столу уже спешила встревоженная официантка. На раздумье было не больше секунды. Я начал приподниматься со стула. Злости, оскорбления в эту минуту я не чувствовал.
... Коротким ударом левой я мог бы сразу сбить это грузное тело на пол. Снизу, в подбородок и чуть вскользь. С оттяжкой. И был бы мой знаменитый апперкот, после которого лишь через несколько минут вселилась бы в Артемыча жизнь, покрыв бледным румянцем его щеки. В тринадцать лет я впервые взял перчатки; после окончания школы я был уже аттестован на второй разряд по боксу. Мой удар левой (я не прирожденный левша) помог стать мне уже в девятнадцать лет кандидатом в мастера спорта. Завоевал это право я на первенстве области. И после этого сразу же бросил бокс; врачи советовали мне не заниматься больше этим спортом – многократно рассеченные брови давали о себе знать некоторой потерей зрения. Но не это главное – жизнь студента вольна, «разнообразна» и поэтому на третьем курсе выбила меня из режима жесткого спорта. Но боксерские навыки были крепки еще во мне...
Я остался сидеть на месте.
Маляренко сбежал вниз и скрылся из глаз. А я сидел и думал: «Не связываться, только не связываться. На этом острове я для дела, а не для мести и развлечения. Спокойно, Юг!» Артемыч, уже одетый в пальто, вновь возник на моем «горизонте». Вызывающе выставив ногу, он требовательно спросил: «Отдай мне билет. Где он?» Я невидящими глазами взглянул на него: «У меня в пальто. Ты об этом прекрасно осведомлен. И я не собираюсь ради этого вставать и идти вниз». «Так, — разъярился он, — ну ладно, я тебе покажу тогда!» «Потом. Не позорься перед людьми. Советую тебе раздеться и продолжить обед». Но он не внял и сбежал по лестнице к выходу.
Не торопясь – а куда спешить-то? – я доел второе и допил вино. Подозвав официантку, я расплатился за себя и за Маляренко. Артемыч лишь наполовину съел то, что заказывал, но выпил – этого дара у него не отнять – зато всё. Окинув последним взглядом так негостеприимно встретивший меня зал ресторана, я спустился в фойе на первый этаж. Тлела еще надежда, что Артемыч меня будет ждать здесь. Его не было. Не было видно Маляренко и на улице. Поколебавшись минуту, я тронулся в путь – не отказывать же себе в удовольствии посмотреть город и морской порт.
Промтоварные магазины были закрыты в «честь» праздника, зато всё остальное – открыто. Я ходил по улицам города, смотрел, любопытствовал, окидывал привычным взглядом дома и улицы. Исходил и осмотрел многое, но порт пока не «трогал» – оставлял на потом. Город стоял на берегу залива, располагаясь – на мой взгляд – полудугой на небольших холмах и в их седловинах. И в конце одного такого спуска-улицы с холма, я наткнулся на небольшой двухэтажный деревянный магазинчик. Здесь продавалось то, что и требовалось мне. Продавщица, молодая кореянка, удивленно раскрыла глаза, услыхав мой заказ: «Почему так много?» «Помогаю вам план выполнять!» — отшутился я. Где-то на задворках магазина она взвесила мне на больших весах рыбу, и я ловко, как прирожденный рыбак, поскидывал большие рыбины горбуш в узкий мешочек, затем перетянул его веревкой и вместил этот двадцатикилограммовый тюк в своей объемистый портфель. Теперь предстояла нудная работа – отнести его обратно на автовокзал и засунуть в автоматическую камеру хранения, что я и сделал, воспользовавшись автобусом.
Теперь я был свободен. Отправившись по длинной набережной, где размещались доки, причалы и мастерские, я проник через щель в заборе на территорию порта и попал в район ремонтных работ. Было тихо, и в округе не было видно людей.
Впереди синел залив Анива. Солнце, отражаясь, ярко светило прямо в глаза. Я взглянул с высоты площадки, надеясь взглядом проникнуть туда вдаль, на юг, где отделенный проливом Лаперуза лежал остров Хоккайдо – преддверие Японии, страны Восходящего Солнца. Но глаза лишь резал ослепительный блеск моря, а горизонт вдали сливался по-прежнему с водой.
... Здесь, когда в 1945 году южная половина Сахалина стала вновь Советской, русской, начали эмигрировать в свою родную страну сахалинские японцы. И произошла такая история.
На пароход, уже загруженный доверху скарбом отъезжающих японцев и забитый до отказа ими самими, взошли последние в этом рейсе пассажиры. Это была многочисленная японская семья, состоящая из отца семейства, четверых детей, старшему из которых было не более пятнадцати лет, и матери, которая, однако, в этот момент отчаянно металась по пристани. Пропал последний сын, семилетний мальчик. С потерянным лицом мать бегала взад и вперед, выкрикивала имя сына и причитала: «Здесь же он был, здесь! Вот только отошла, а он и исчез. Куда? Вы не видели?» Матросы-японцы и советские пограничники хмуро отводили глаза в сторону. С парохода уже давали прощальные гудки и начинали убирать трап. А по лицу матери, потерявшей ребенка, текли слезы, и не было никаких сил шагнуть к трапу; муж и старший сын метнулись к ней с парохода и затащили упиравшуюся женщину на палубу. И сахалинский берег начал удаляться.
По приезду в Японию, семья обосновалась в городе Саппоро. Тяжело переживала мать потерю сына. Жизнь шла, женщина работала переводчицей (она знала пять языков), получая за свою работу мизерные деньги – двадцать пять тысяч йен, но мысль разыскать сына не покидала ее. Она запросила через советское посольство помощь в поисках сына и сообщила для этого все необходимые данные. В конце шестидесятых годов ей сообщили, что ее сын нашелся. И уже старая, седая женщина заплакала от радости. Завязалась переписка; сын сообщил, что скоро приедет по турпутевке в Японию. Было назначено место свидания. И вот они встретились: тридцатилетний широкоплечий мужчина и седая женщина на борту советского теплохода. За матерью стояли небольшой кучкой её дети, внуки, старый муж. Радость была написана на их лицах. И куда бы затем ни следовал советский теплоход, в ту же точку по суше мчалось дружное японское семейство. И снова, уже в другом порту или городе, слезы, радость, объятия матери.
Семилетним мальчишкой он затерялся на пристани, глядя испуганно из-за пустых бочек на суматоху, поднявшуюся на пристани. Он не понимал, что это происходит из-за него. А когда пароход отчалил, и мальчик увидел на борту своих родных, он забился в тяжелом плаче. Там, среди скоплений ненужного хлама, его и нашли советские пограничники. Добиться какого-либо определенного ответа они не смогли. Так мальчишка попал в детдом, где наконец вспомнил кое-что про себя. Его нарекли русским именем, и детство его протекало в детдоме; он принял русское подданство, окончил в Хабаровске институт и вернулся на Сахалин. Суровый остров стал для него родиной – здесь он родился и останется жить. Он женился, появился сын. Работал на комбинате, работу любил, жизнь была хорошая и вдруг... объявилась мать! Он добился путевки и поехал ее повидать.
Закончилось пребывание советских туристов в Японии. Теплоход уходил на Сахалин. Возвращался на нем на свою родину и тридцатилетний широкоплечий мужчина; он помахал последний раз провожающим его людям и задумчиво перевел взгляд на кипевшую за кормой воду. Вот так она и разлучает его с матерью; два острова, разделенные полоской воды – и два мира, два разных общества людей. А его родина сейчас – Советский Союз, именно ему он обязан своей работой, квартирой, безбедной жизнью и многими столь необходимыми жизни мелочами. У каждого своя судьба, судьба, разделенная проливом Лаперуза...
Я вышел с территории порта и на автобусе доехал до автовокзала. Над Южно-Сахалинском уже нависла серость вечера, когда я вернулся в гостиницу. Сосед по номеру, недавно поселившийся, спал; я осторожно поставил портфель с рыбой в угол и пошел проведать Маляренко. Совесть была неспокойна – на месте всё же Артемыч или нет?
Он был на «месте». Недаром беру я последнее слово в кавычки, для чего сейчас даю вам описание номера Артемыча. В пепле и залитый вином стол, несколько пустых бутылок на подоконнике и на полу, окурки и спички на ковре, везде разбросанная одежда; центральным планом в номере смотрелся полураздетый и полулежавший на кровати – видно, сил добраться до нее не хватило – сам герой. Лицо Маляренко в грязи и еще в чем-то, о чем не хочется даже писать. А в центре комнаты Артемыча, наверное, вырвало... Зловонный дух. Соседа нет. Я в раздумье постоял на пороге, затем шагнул вперед. Взял с подоконника личную папку Маляренко, зачем-то взвесил ее на руке и раскрыл. Коричневой кожей блеснуло портмоне. Взять оттуда долг Артемыча мне? «Не отдаст ведь потом. Не вытянешь. Или отрицать будет, или всё свалит на меня!» — я вытянул из бумажника шесть рублей и сунул их в свой карман. Затем так же осторожно положил его на место. Взглянул на толстую папку, где лежали все документы по командировке. «Забрать? Оставлять все равно нельзя». «И еще одно! — я вытянул из внутреннего кармана своего пиджака обратный билет Атремыча, который до этого хранил у себя, будучи уверенным в неблагонадежности своего напарника, и вложил его на видное место в портмоне Маляренко. — Теперь я полностью свободен от этой пьяной обузы! Хватит!» Для очистки совести я еще попытался пробудить Маляренко. Тщетно! Привести комнату в порядок? Извините, не я здесь свинячил. Захватив папку с документами, собранными в командировке, я круто повернулся и вышел вон.
На душе было муторно. Надоели все эти выступления и выкрутасы моего старшого. Не хотелось даже думать о нем. Я попытался почитать книгу, купленную вчера в магазине «Книги», что напротив универмага «Сахалин». Книга увлекла меня, и я читал ее до тех пор, пока поздно вечером не пришел мой сосед по номеру. Он лег спать, а я... по-прежнему читал книгу – не мог оторваться. Но ничего, завтра снова выходной, можно и отоспаться (а потом еще один – всего их три выпало в этом году под восьмое марта). Через час я бросил книгу на стол и пошел гасить свет. Пора и честь знать (то есть спать).
Утром меня обуяла мысль, весьма интересная. В погоне за квартальным планом начальство – это давно известно – не останавливается ни перед какими жертвами, зная, что за невыполнение их не погладят по головке. А если план выполнен – то, значит, триумф! Администрация выполнила свой долг, подчиненные (а у нас последние представлены в основном инженерно-техническими работниками) тоже довольны. И самое главное – впереди светит долгожданная премия, которая внесет явные и целесообразные поправки в наш бюджет (другими словами – поправит финансовые дела каждого из ИТР). Я усмехнулся, подумав: «Вот начальство и рвет! Что бы изменилось, если бы мы прилетели на Сахалин не пятого числа, а одиннадцатого марта, то есть сразу же после праздника и последующих за ним выходных? Большой потери, думаю, бы не было, да и нам в таком случае не пришлось бы сидеть здесь без дела, вдали от семьи и друзей в этот праздник. А то, что за эти дни идут суточные расходы, оплачиваемые по командировке, утешение небольшое!»
Артемыч был то ли заново пьян, то ли еще не успел очнуться от вчерашнего «погрома». Взглянув мутными глазами и не узнавая меня, он, дико всхрапнув, откинулся на стенку. Ударился и безвольно обмяк на кровати. Таким я его и оставил, и по-прежнему в такой же грязной обстановке номера.
Теперь я был представлен самому себе – как знаешь, так и проводи выходной. Впрочем, выбор был! Я сходил на базар, покрутился в лавках и небольших магазинчиках и, наконец, водоворотом народа был выброшен обратно. Прикурив, лениво двинулся вверх, по направлению к универмагу «Сахалин». Справа остались «Бани», магазин «Вино, табаки», КБО. «А не сходить ли в кино? — подумал я. — А что? Выход. Убью еще так время». Сказано – сделано. И я подался в кинотеатр «Комсомолец».
Выйдя после сеанса, я вновь предстал перед выбором – куда дальше? Было тепло, снег подтаивал. Распахнув свое тоненькое осеннее пальто и с удовольствием покуривая папиросу, я брел, ни о чем не задумываясь. Не всё ли равно куда? Идешь – иди. И забрел к городскому музею. Оторопев, я вцепился взглядом в это здание. Чисто японского стиля, оно стояло отгороженное металлической решеткой отдельно от других зданий. Загнутые верх углы крыши, зарешеченные виртуозной клеткой окна, чугунные драконы, вязь узоров. В бытность, когда Южно-Сахалинск был японским городом и по его улицам чеканили шаг самураи, здесь жил мэр города. «Хорошо жил», — думал я, шагая по гулким комнатам бывшей мэрии. Шаги гулко отдавались под высоким потолком. Народу в музее было много; наметанным взглядом я определил, что большинство экскурсантов составляют люди приезжие, основная масса которых – с материка. Внимание женщин привлекал стенд «Меха Сахалина». Столпившись около него, они, малознакомые до этого или же вообще незнакомые, враз находили общий язык и дружно восхищались мехами Сахалина. Более спокойные женщины задерживались около отдела «Рыбные консервы о. Сахалин». «М-да, — ухмыльнулся я, — не прочь здесь задержаться и я». Да и было на что посмотреть – три-четыре десятка банок с разноцветными и разноименными наклейками бросались в глаза издалека. Выбор был широк: от ставриды до горбуши, от скумбрии до лосося и корюшки. И еще десяток названий консервов, так широко известных в мире еды. Различные черепки, копья, ножи и своеобразная одежда демонстрировалась в отделе, посвященном айнам – аборигенам этого старинного форпоста России на Востоке. Издавна Сахалин прослыл каторжным местом, гнилым углом России-матушки. Все это хорошо было отражено на стендах и в экспонатах музея. Незадолго до первой русской революции на острове побывал писатель Антон Павлович Чехов. В его честь живет сейчас на Сахалине город Чехов; работает в Южно-Сахалинске драмтеатр имени А. П. Чехова. Несгибаем русский человек! В настоящее время разнолик Сахалин: потомки бывших каторжан, аборигены, «эмигранты» с материка, японцы, китайцы и корейцы. Могуч Сахалин!
Из музея я вышел уже под вечер. «Ого, как он незаметно подкрался! — морозный воздух ожег лицо. — Пора и домой». С блаженством я ввалился к себе в номер после «двадцатиминутной» прогулки и, раздевшись, упал на постель.
К Маляренко я в тот вечер не заглядывал. «Незачем. Что нового я увижу у него? Лишний раз назовет только шпионом или, в лучшем случае, филёром». Да и, признаться, особого желания видеть эту гнусную рожу у меня не было.
Артемыч напомнил о себе сам. Утром на следующий день, в восьмом часу, дверь моего номера содрогнулась от стука. Сосед поднял голову и взглянул на меня – в ответ я натянул одеяло на голову, делая вид, что сплю. Сосед помялся в недоумении, но следующий настойчиво-наглый стук поднял его на ноги. Он недоумевал, кто бы это мог стучать. Сам он, молодой парень, студент из Харабовска, возвращался на каникулы и здесь в Южно-Сахалинске он никого не знал, а дом его был в городе Оха (северная часть Сахалина), куда он и должен был вылететь сегодня вечером. Еще раз взглянув на меня, словно убеждаясь, что все же это не ко мне или же я не слышу этого наглого стука, он пошел открывать дверь. Ввалился Маляренко. И «пришлось проснуться».
Он сел ко мне на кровать и взглянул на меня жалобными коровьими глазами. «Что-то случилось, — подумал я, — если он приволокся в такую рань». И ехидно пошутил в адрес Артемыча: «Что, сегодня снова поедем в Корсаков? А то завтра ведь на работу!» Глаза Маляренко тотчас же вспыхнули зловещим огнем дикого зверя, руки его затряслись в безудержной пляске. Я понял, что надвигается гроза и уже в упор, без всяких предисловий, задал вопрос: «Что случилось, Артемыч?»
По его рассказу выходило так: он, этот ангел Александр Артемович, уже под утро выходя в коридор – направлялся в туалет по надобности, – случайно зацепил рукой стекло над умывальником в номере, и оно, рухнув в раковину, с грохотом разбилось; на шум прибежала дежурная по этажу, которая обвинив Маляренко в умышленном вышеназванном проступке, вызвала милицию; и вот эти дяди в милицейской форме забрали «ангела» с собой и оштрафовали на...
«Юг, надо срочно двадцать рублей. Займи, пожалуйста! Меня из милиции под честное слово выпустили, обещал им, что найду деньги и заплачу штраф». «И где же это ты обещал найти деньги?» — вопрос был прямой. «У тебя. Сказал, что мы здесь в командировке вдвоем». «Артемыч, и тебе не стыдно ронять мой авторитет, свой и приоритет нашей партии?» «Юг, об этом потом. Займи мне денег, двадцать рублей. А то меня ненадолго выпустили». Я усмехнулся: «Александр Артемович, и что тебя сейчас держит? Тебя же выпустили! Ну и беги». «Ага, выпустить-то выпустили, а чемодан с вещами в залог оставили. Они же тоже хитрые!» Я хмуро улыбнулся: «Значит, они тоже хитрые? То есть, ты хочешь сказать, что и ты хитрый? Ну-ну. Объясни-ка мне, товарищ Ходжа Насреддин, почему же это тебя именно на двадцать рублей оштрафовали. Что-то я не слышал о таком штрафе». «Пострадавший» замялся, стал сбивчиво объяснять: «Оштрафовали-то меня на тридцать, но десять я уже выплатил из своих. Осталось рублей пять, да еще мелочишка – это уж лучше не трогать, пойдут мне на карманные расходы». «Так, — голос мой прозвучал зловеще, — значит как приперло, так сразу ко мне, который по вашим словам, Александр Артемович, является филёром и шпионом, так, что ли? И не боишься, что могу рассказать на работе о всех твоих проделках, а?» Маляренко махнул рукой: «Лучше, конечно, не надо. Нежелательно. Но как сам знаешь Помоги мне, дай денег взаймы. А я уплачу штраф и перейду жить в другую гостиницу, чтобы не видеть эту коридорную. Но ты лучше не рассказывай, а?» Голос его был умоляющий, речь – сбивчивая, а мне от всего этого было противно: мой бюджет составлял лишь три червонца, и просьба Артемыча грозила мне жить впроголодь четыре дня, оставшиеся до конца командировки (в учет надо принять еще мелкие транспортные расходы и прочие затраты, которые в любой момент может неожиданно подсунуть изменчивая судьба). Я отказал и, отвернувшись от Маляренко, снова лег спать. Артемыч вышел: «Несчастный, — заскрипел я зубами, и мною овладела злость. — Запился до собачьего состояния, а потом ко мне... каяться и занимать деньги. Сволочь! Нет уж, пропадай, теперь и шагу не сделаю навстречу тебе».
А он постучался вновь, уже тихо и заискивающе, и опять вошел в номер. Да и иного выхода у него не оставалось. У меня – тоже: я встал, вытащил две красных бумажки из своего пиджака и вложил их в широкую потную ладонь Маляренко. Процедил: «Артемыч, вечером зайдешь ко мне. Договоримся относительно завтрашней поездки». Он согласно кивнул головой и пропал из виду. Еще не осмыслив до конца, что случилось что-то из ряда вон выходящее, я оделся, умылся и вышел из гостиницы прогуляться. Сходил в столовую, прошелся от скуки по магазинам, а в голове неотступно стучала мысль: «Маляренко дал маху. Теперь черт знает что будет! Никакого опыта по командировкам у меня не имеется, а на Артемыча надежда теперь маленькая. Придется, даже надо, взять дальнейшее руководство в свои руки; необходимо как можно лучше справиться с заданием и постараться завершить все, или около этого, дела по командировке. Подлец, Артемыч! Впереди еще три ответственных дня, а он загулял...» Как видите, мысли мои были тоже сбивчивые, как сбивчивы были недавние объяснения Маляренко. «Хитрец! Валит всё на коридорную, будто она – гвоздь всех его «мучений». Ну, если разбил ты нечаянно это стеклышко, зачем лаяться тогда с коридорной, тем более за твоей спиной весь в грязи и слякоти номер. Поговорил бы с ней, спокойно уговорил, что вот, мол, уберу, на крайний случай – сунул бы за услугу уборки и молчания деньги, рублей пять-десять. И дешевле, тихо и спокойно. А от них пока никто не отказывается...»
Я ждал Артемыча с нетерпением, отгоняя все ненужные и дикие мысли от себя. Даже с прогулки вернулся пораньше – надоело в одиночестве. Но Маляренко в тот вечер не появился...
* * *
Маляренко не появился и на следующее утро. Долго сидел я и ждал его, пока окончательно не убедился, что остался в этот день один. И тогда неторопливо поднялся и пошел на выход. Время истекло и сейчас к гостинице должен подъехать «газик» с представителями от треста – начальником проектно-сметного бюро и главным инженером треста, после чего мы выедем в поселок Стародубское для рекогносцировки на местности будущего объекта проектирования.
Я вышел из гостиницы ровно в восемь ноль-ноль и заметил на противоположной стороне прижатый к краю дороги «газик». А навстречу мне уже спешил начальник ПСБ. Мы пожали друг другу руки, а затем пришлось ответить на соответствующий вопрос – почему отсутствует Маляренко. «Болеет», — коротко ответил я. «Может, зайти и проведать?» «Не стоит, — пришлось лгать дальше. — Да и когда он отлежится, для него найдутся дела в объединении». «В каком? Где это?» «Здесь же. Другая организация, для которой мы так же выполняем заказ».
Впереди крутилась позёмка, снежная пыль заметала дорогу, но «газик» бодро бежал вперед, лавируя и подпрыгивая на снежных ухабах. «Прямо туда едем?» — наклонившись к главному инженеру, спросил я его. Он повернулся ко мне: «Через Долинск поедем – там у нас ПМК стоит. Так что по ходу дела необходимо туда заглянуть – прошерстить кое-кого. Но это недолго». Главный прикурил сигарету и дым широкой струйкой распластался в кабине. Глядя на него, закурили и мы с начальником ПСБ. Шофер, молодой парень, молча и искоса взглянул на инженера. Тот, видно, понял его и захохотал: «Что, Саша, не нравится? Но ничего. Читали, кстати, в газете, что подледную ловлю рыбы запретили. Пишут, что это связано с ранней ломкой берегового припая. А кто не слушается – с того штраф; все дороги перекрыты и патрули дежурят». «Да это связано, наверное, с недавним случаем, — поддержал разговор начальник ПСБ. — Льдина с рыбаками откололась и ушла в море. Еле их вертолетом оттуда сняли». «И всё ж хороша рыбка. Помню, на Волге ловил, — главный хитро прищурился и взглянул на меня. — Одно удовольствие! Сам я оттуда родом». Я улыбнулся: «Похоже – лицо у вас темноватое, сами вы сухощавые. А откуда там?» «Из Маркса». «Там рядом город Энгельс. Так?» — и я перечислил еще несколько названий поселков и городов той местности. Мои собеседники заинтересовались: «Откуда знаешь? В армии там служил? Когда?» Как мог, так я и оборонялся от их назойливого любопытства – не мог же я им сказать, что знаю те места по географической карте да по рассказам. «Ладно, — главный притушил сигарету, — не хочешь рассказать – не надо. Смотри вперед – Долинск виднеется». Я вгляделся в снежную пелену и увидел ряд труб, заводы, жилые массивы города. «Бумкомбинат здесь большой», — заметил начальник ПСБ. «Н-да», — задумчиво подтвердил его слова инженер, явно при этом думая о чем-то постороннем.
Въехали в город, и «газик» двинулся по какому-то хитрому маршруту. Ехали, ехали, перевалили через мост, потом снова ехали и вот оказались около какого-то двухэтажного желто-зеленого здания. «Наше ПМК, — объявил главный, вылезая из «газика» и разминаясь на ходу. — Остановка».
В ПМК, точнее в его управлении, мне пришлось проторчать часа два. Главный орал на прорабов, мастеров, в ответ они ему тыкали наряды, жаловались на отсутствие необходимых чертежей, на недостаток техники. И наконец всё кончилось: главный откинулся на стул, закурил неизменную сигарету и сделал долгожданное заключение: «Всё». Обращаясь уже непосредственно к нам, спросил: «Неплохо бы пообедать, а? Согласны?» Время было и вправду обеденное, но есть мне почему-то не хотелось, однако в знак солидарности я согласился с ними. «Тогда вперед!» — скомандовал инженер. «Газик» снова запетлял по улицам города и остановился. «Ресторан «Взморье», — прочитал я огромную вывеску.
Мы заказали по салату, второму и по паре бутылок пива на человека. Пиво пили только мы трое; шофер не пил и завистливыми глазами иногда посматривал на бутылки с яркими этикетками, где над бочкой красовалась надпись «Славянское». Что ж – истинному славянину «Славянское» не повредит. Я «уничтожал» и салат, и второе, запивая холодным пивом. За столом завязался разговор, инициатором которого стал, как обыкновенно, главный инженер. Обращаясь ко мне, он спросил: «Как сейчас командировки? И на поездах, и на самолетах?» Я ответил: «Как хочешь, так и езжай, всё оплатят. В общем-то, люди командировочные уважают больше самолетом – быстрее, да и лучше во многих отношениях. А что вы так спросили?» «Сравниваю. Сейчас мне за сорок уже, вот и вспоминаю, как раньше в командировки ездили. Тогда мне пришлось здорово помотаться по белу свету. И разрешали ездить в командировки только на поездах». Я изумился: «А к примеру с материка на Сахалин? Что, тоже поездом?» «Вот этого не знаю, в то время не был здесь. Но факт остается фактом: едешь на поезде день – идет командировка, идут суточные, едешь два – накручиваются, голубчики – это я про суточные, едешь дальше – и они за тобой хвостом тянутся. Потеха!» Все расхохотались.
Расплачиваться мне не дали. Не глядя, накидали на стол рублевок и поднялись. И снова «газик» и режущие глаза снега дороги и окрестностей.
В поселке долго оформляли пропуска – на территории керамзитового завода работали заключенные, а нам требовалось осмотреть именно эту территорию и прилегающую к ней площадь месторождения. Потом «газик» повез нас к проходной. Военных по пути встречалось много. Мы не доехали буквально немного, как пришлось остановиться – происходила пересменка на заводе.
По ту и по другую сторону перехода стояли с автоматами наперевес солдаты. В полушубках и валенках, они настороженно смотрели на черную колонну, и руки их крепко сжимали оружие. Не доходя до лагерных ворот десятка метров, колонна заключенных остановилась, от нее отделился первый ряд из четырех человек и шагнул вперед. Прапорщик быстрыми профессиональными движениями обшарил и обыскал их. Пока всё это происходило, эти четверо стояли молча и не шевелясь, с заложенными руками назад. Но вот прапорщик махнул рукой: четверка сменилась последующим рядом. Снова обыск, а стоявший метрах в пяти от офицера солдат с автоматом наперевес не спускал с заключенных черного зловещего зрачка оружия. В колонне людей, одинаково одетых в черные фуфайки и черные с опущенными ушами ушанки было много молодежи, в задних рядах безмолвно стояли уже пожилые люди, и замыкал всё это печальное зрелище хромой старик на костылях, без шапки и с развевающимися по ветру седыми волосами. Серая высокая стена, опутанная сверху колючей проволокой, поглотила колонну; далее люди, осужденные за правонарушения, рассеются по баракам, где их ждет безрадостное существование. Лагерные ворота со скрипом замкнулись, будто предупреждая, что нельзя становиться на этот опасный и скользкий путь, в дальнейшем не приносящий никакой радости...
Полчаса стояли мы на пронизывающем ветру, дожидаясь пока нас пропустят в зону. Каково особенно было мне в своем осеннем пальто. Нас пропустили на территорию завода, и мы снова увидели черную колонну – эта уже шла на завод.
Начальник ПСБ показал мне постройки будущего цеха завода, указал что, где и как; забравшись по галерее на верхнюю площадку, он ткнул вдаль пальцем и стал объяснять, что карьерное поле будет вон там... За территорией завода, обнесенной проволокой и утыканной сторожевыми вышками, виднелось поле, поросшее кустарником и кое-где молодым лесом. «Вот оно и есть, — подумал я, взглядом прицениваясь к местности. — Учтем и зарубим в памяти!»
Возвращались в Южно-Сахалинск мы поздно. Шофер «газика» довез каждого из нас до дому, меня высадил около гостиницы последним. Усталость сковывала мои ноги, тело продрогло и озябло. «В городе, как ни крути, всё же теплей. Сколько времени сейчас? Ого, уже десятый час вечера. Впрочем, немудрено: после осмотра территории мы заезжали еще к председателю поссовета, оформили у него необходимую справку, поговорили с ним. А потом снова эта дорога назад. Ох, и есть охота! Но где? Разве что в ресторане? Только это и остается». Я зашел к себе в номер, переоделся. Мой сосед улетел в свою Оху еще вчера вечером, и ночью подселили ко мне какого-то подполковника – тот говорил, что улетит вечером. Вещей нет – значит, улетел и вправду. Везет мне на соседей – все улетают, а я остаюсь. Но ничего, через пару деньков и я улечу, кончится моя командировка. Я огляделся, сел, спокойно покурил и пошел в «Океан» поужинать, благо что идти недалеко – на первый этаж гостиницы.
Маляренко в этот вечер снова не зашел ко мне. Меня охватило беспокойство. «Заявить в розыск? Впрочем, подождем, может, отыщется...»
Последующие два дня я крутился как белка в колесе, побывав за это время в объединении, тресте и управлении завода. Где уточнял данные, где их собирал, где брал необходимые справки и документы. Папка моя разбухла от бумаг. Я беспрестанно мерил шагами из одного заведения в другое, и вот поставлена последняя точка над «и» – заверено командировочное удостоверение, в кармане лежит авиабилет, в руках портфель с рыбой и сетка, где по иронии судьбы лежали документы, собранные в командировке (это вместо того, чтобы им спокойно лежать в портфеле-то).
Была еще надежда, затаенная мысль, что Маляренко всё же покажет свои «светлые» очи передо мной. Вдруг он закомпостировал свой билет с открытой датой на сегодняшнее число? Почему именно на сегодняшнее? Да потому, что сегодня надо обязательно вылететь обратно, вылететь рейсом номер восемнадцать, который уходит поздно вечером и прибывает в Красноярск ночью; а утром, отоспавшись, мы должны где-то около полудня появиться на работе – наша командировка закончена, и продолжалась она ровно столько, сколько это было оговорено в приказе и отмечено в командировочном удостоверении. В противном случае, то есть когда впереди предстоят еще дела, надо давать телеграмму на продление командировки и отмечать причину задержки. Но у нас-то ведь все дела закончены, тем более в срок, так что к чему тянуть? Где же Артемыч в таком случае? Где?
Пошла регистрация на мой рейс, около кассы и стойки столпились, галдя, желающие улететь по данному маршруту. Маляренко не было. Пропал, как в воду канул. А на поиски его два предыдущих дня у меня не было времени – возвращался поздно из-за дел, да потом пока поешь, то да сё. И вот... Ну где же он может быть?
Посадка в самолет. Я еще крутил головой, тщась в последней надежде... потом был семичасовой беспосадочный перелет, и самолет приземлился в четвертом часу местного времени в аэропорту города Красноярска. Почти с самого начала полета я заснул; сквозь сковывающую дрему я еще слышал голос стюардессы, объявляющей, что посадка будет только в Красноярске (а как же с Читой? Ведь самолет садился в аэропорту этого города, когда летел из Красноярска в Южно-Сахалинск) и что полет выполняется на такой-то высоте... с такой-то скоростью. А потом заснул. Проснулся лишь перед самой посадкой.
Сойдя с автобуса, который довез нас до выхода с летного поля, я оглянулся на самолет, который доставил меня домой: «Ну, давай! Тебе дальше, в Москву на Домодедово, а я уже на месте». И вот уже круговорот: такси, пешком и я... дома, где меня так давно ждут.
* * *
За пятнадцать минут до начала обеда я, побритый, при галстуке и прочем параде появился на работе. Как и было отмечено раньше, я прибыл из командировки точно в срок – четырнадцатого марта, пробыв таким образом в командировке около десяти дней. На меня сразу набросились с вопросами и расспросами. Еле устоял.
Когда шум приутих, я спросил Нилабина, начальника нашего отряда: «Андрей Николаевич, а Маляренко еще не появлялся на работе?» «Нет, а что? — лицо Нилабина потемнело. — Случилось что-нибудь?» Мы отошли в уголок и стали около дверей лаборатории. «Пропал он, — мой голос звучал тихо, — вот уже как четыре дня... последний раз я его видел утром десятого числа». «Так-так, — Нилабин задумчиво кивнул. — Дела-а-а!» С улицы его окликали, звали идти в столовую. «Андрей Николаевич, — предложил я, чувствуя его колебания, — идите обедать сначала, а потом разберемся. Дела делами, а желудок тоже требует свое. Там более какой-то час нас не устроит». Нилабин обрадованно кивнул головой и выскочил на улицу; в последний момент я заметил, что на лице его остался отпечаток тревоги, который явно сохранится на весь обеденный перерыв.
Минут за десять до начала работы большинство уже вернулось с обеда. Пришлось своим коллегам по отряду сказать, что Маляренко пропал, а то уж больно они интересовались, почему я прибыл один. Но видно и не очень сильно любили в отряде Александра Артемовича, если были слышны ехидные и неодобрительные реплики в его адрес. И стало понятно, что симпатией больше пользуюсь я, чем «пострадавший» Маляренко. Впрочем, так оно было и раньше.
«Где ж ты его, беднягу, оставил?» «Съел, наверное, с голодухи. Или Артемыч весь винными парами изошел? Пил он? Да-а. Этот может. От галлюцинаций сейчас бегает где-нибудь по острову». «Юг, да ты его, наверное, с самолета в Татарский пролив сбросил, а?! Ха-ха-ха!» «Такого сбросишь! А если и сбросишь, то ведь всё равно не должен утонуть: спирт-то легче воды». Меня окружили, просили рассказать подробности. Но я больше отмалчивался и отвечал скупо и рассеянно. Зачем пока говорить всем? Начальство разберется, а от него я не собираюсь скрывать ничего – Маляренко полностью и окончательно показал свою сущность, гнилость в жизненных устоях. И теперь пощады ему не будет.
Послеобеденная работа началась. Люди считали, писали, чертили, рассчитывали, а мы с Нилабиным говорили о Маляренко. Коротко, в скупых и сдержанных выражениях я рассказал Андрею Николаевичу о «делах минувших», о том, как вероломно и нагло был брошен Александром Артемовичем на произвол судьбы. «А все документы, говоришь, у тебя?» — спросил Нилабин. «Да. Пришлось в критический момент изъять у него все материалы и документы, и тем самым лишить его старшинства». «Правильно сделал. Для пользы дела! — Андрей Николаевич пожевал губами. — Всё верно, Юг, так и надо. В общем, как ни крути, а ты – молодец!»
Вида я не показал, но все же был польщен. Отличиться я хотел – и вот представилась возможность. Многие, конечно, могут подумать, что к этой «славе» я шагаю по трупам своих товарищей и коллег, но вспомните мои мучения в командировке с Артемычем – и вам станет ясно, что Маляренко давно был труп (в отношении работы) и поэтому через него оставалось только перешагнуть. По стечению обстоятельств это сделал я, Юг Тельнов.
«А теперь показывай, что привез», — Нилабин шагнул в общий кабинет отряда. Эти слова вернули меня на землю; я усмехнулся про себя: «Что привез?! Правильно, привез я, и никак не раскаиваюсь в том, что когда-то забрал у Артемыча в номере папку с документами. Это всё верно. Но ведь есть и его, Маляренко, большая заслуга в том, что акты о выполнении проектных работ были подписаны. Ведь именно благодаря его дипломатическому умению они лежат сейчас в этой папке». Прав ли я? Чувства были двойственные. И теперь в этот трудный момент мне необходим был лидер (или кумир, другими словами), который бы убедил меня в окончательной правоте моих поступков и повел меня за собой. Им стал Нилабин.
Мы сели за его стол: он на своем месте начальника отряда, я – напротив него. Приступили к рассортировке документов. Геологический отчет перекочевал сразу в шкаф – потребуется для проектирования нового объекта, справки легли в папку с надписью «исходящие». А в коротком последующем разговоре была решена участь о проектировании того объекта, ради которого я был в тресте и в поездке с начальником ПСБ и главным инженером треста. «Ты сейчас свободен, — говорил Андрей Николаевич по этому поводу, — тот проект ты кончил, вот тебе и карты в руки». «Но Николаич, — перебил я его, — мне еще старый требуется подправить». «Сколько на это уйдет? Дня три-четыре хватит?» «Хватит». «Значит, числа двадцать первого кончишь? Сегодня у нас четырнадцатое, четверг. Ну, сегодня пока туда-сюда, завтра тоже дела найдутся. А на следующей неделе и исправишь. Идет? Уложишься?» «Уложусь, — кивнул я головой. — Но ведь этот новый проект, Николаич, сложный. Справлюсь ли я с ним?» «Справишься, я уверен в тебе. Тем более всё равно тебе надо за них браться. А тут этот проект как раз и вовремя: контакты с Сахалином для нашей партии ты наладил, тебя там знают, местность ты смотрел, почти все необходимые данные имеются и ты с ними знаком (остальные потребуешь у них по ходу дела). Так что действуй. И будешь у нас главным специалистом по Сахалину». Я промолчал, не зная, радоваться этому или нет.
Начальник отряда сидел вместе со своими подчиненными в одном кабинете, так было удобнее и для него, и для всех – к Нилабину беспрерывно подходили с вопросами, уточнениями, за консультацией. А дело свое он знал. Так вот, пока мы говорили шепотом, никто не обращал на нас внимания – каждый был занят своим делом. Но когда Андрей Николаевич произнес слово «Сахалин» тоном выше, чего ранее не наблюдалось в нашем разговоре, то на нас взглянули с любопытством. Это и понятно – есть в человеке жажда к новому, к дальним странствованиям. А тут – три с половиной тысячи километров, да еще остров!
Я улыбнулся и хотел было уж вытащить из отощавшей папки последние несколько листочков, воплощавших одну из основных целей нашей командировки с Артемычем – акты, но Нилабин опередил меня. Осторожно взяв их в руки, он неожиданно предложил: «Пойдем, Югас Борисович, покурим». И прозвучало в его голосе такое, что заставило меня беспрекословно подчиниться его просьбе. Закурив папиросы, мы вышли в коридор.
Нилабин представлял собой широкоплечего человека среднего роста. Чуть заикается, но движения уверенные, голос требовательный и мужественный. В общем, этот человек знал, что он хочет и что ему надо. Холодный рассудок, горячее сердце, знания – вот его основные черты. Волосы ежиком открывают его высокий лоб, в глаза бросается спокойное лицо. Тактик и стратег в вопросах столкновения и обращения с начальством, виртуоз в «дворцовых» делах. Хитрый как старый мудрый лис, но льстецом его не назовешь – когда надо, он будет упорно и настойчиво, без скандалов, гнуть свое. Возраст в самом расцвете творческих сил – три с половиной десятка лет.
«Акты подписаны все?» «Все, полностью. И по тому и по другому объекту». «Хорошо. Вот они, у меня в руках. Юг, когда появится Маляренко, говори, что ты их не видел. Понял?» «Но этим мы его в гроб сведем!» «Ты его жалеешь?» «Нет». «Он человек конченый, речь пойдет о его увольнении. А я должен еще заботиться о выполнении нашим отрядом квартального плана. Уловил?» «Николаевич, если можно, то чуть подробнее». «Да, тебя необходимо ввести в курс событий».
Потом Нилабин ушел и отсутствовал довольно долго. Вернулся не скоро и довольный. Тельнов весь извелся от дурости, бездеятельности и бестолкового ожидания. И когда Нилабин пошёл на крыльцо перекурить, Тельнов как ошпаренный выскочил за ним – народ в кабинете понимающе и насмешливо сопроводил его на выход взглядами. «Был у начальника партии Казакова, — сообщил Нилабин в ответ на заинтересованный вопрос Тельнова, — доложил ему, что Маляренко отсутствует. И еще в общих чертах рассказал о его поведении. Так что он в курсе. А то Артемыч наш тут всё гоголем ходил, то ли числился в любимчиках начальника партии, то ли был его протеже – и понять-то трудно. Но ничего, злее будет Казаков на Александра Артемовича». И Нилабин весело рассмеялся.
— Андрей Николаевич, а может надо Казакову пару рыбешек выделить? Которых я привез.
— Что, есть такая возможность? Можешь?
— Каждая рыбешка по килограмму примерно, предложим пару рыбешек.
— Лады. Так что подойдешь к нему, мол, так и так. Двигай, Юг.
Я завернул рыбу в бумагу и двинулся в кабинет Казакова.
Так и так, не взял он ее. Поблагодарил за заботу, но отказался. Выйдя от него, я грустно усмехнулся: «Что ж, он – начальство, ему виднее, и «взятки» брать с подчиненных негоже». Смех одолел меня. «Забыл, что он вообще, совсем и ничего не пьет, а я ему стал вешать рекламу на рыбу – вот, мол, как она под пиво-то пойдет! Одна благодать. И зачем? Горбуша, по-моему, в рекламе не нуждается. Не хочет – не надо, и навяливать ему не стоило бы. Да тем более он не пьет, соленое не ест, сердцем болеет. Конечно, после такой бурной биографии, каковой обладает Казаков (а какой? Домыслов и догадок было в партии много, правды ж толком никто не знал об этом человеке-начальнике), лучше совсем бросить пить, а то уж не вернешься на прежнюю колею». Я вздохнул и пошел в помещение своего отряда. И по-прежнему продолжал ругать Казакова: «Ох, Виталий Дмитриевич, каков ты фрукт!» И ведь была ж доля истины в том. Вот хотя бы взять такую странность у Казакова – на лацкане его всегда отутюженного строгого костюма постоянно красовался ромбовидный синий значок выпускника-технаря института, так называемый в просторечье «поплавок» ВУЗа. Не путайте с зелеными значками – те вообще «далеки» и идут по классу «гуманитарий». Кроме начальника партии Казакова никто практически и не носил свои «ромбики» – а перед кем хвастаться-то? Если хотите, то можно и помягче сказать – перед кем блистать? А он носил. Говорят, институт Казаков закончил недавно (впрочем, как и начальником партии стал не так давно), на заочном, и дался он ему в моральном и материальном плане, бывшему «полевику», очень тяжело... Но это – в глазах других – не оправдывало его демонстрацию своей «регалии». Хотя говорят, что если человек заслужил наглядное поощрение – значки и медали, то ему незачем стесняться их. Может и так. Но у Казакова было не совсем блестящее прошлое на бывшем поприще... Но да зачем везде и всюду искать крамолу! А вот Нилабин нравился Тельнову. Как начнут они травить байки и вспоминать с начальником другого отряда партии про «свою» Колыму – заслушивались все, бросали потихоньку работу и открыв рот (особенно молодые спецы) слушали и внимали своим командирам, которые рассказывали «на публику», но смачно и интересно. «Бывало, закусить нечем. Выскакиваешь на двор и с грядочки – зеленый лучок! Вкуснотища». И после таких слов и сравнений аж слюнки текли, и так хотелось попробовать зеленого сочного лучка с грядки на далекой и холодной Колыме. Но вот что их, этих начальников отрядов, тогда еще молодых, туда заносило – так и оставалось непонятным.
День заканчивался. Набежали до Тельнова его заказчики рыбы и просто страждущие, для чего пришлось обосноваться в лаборатории, где имелись весы. И пошло-поехало дело. Клиенты попадались разные – дотошные до вида и качества рыбин, въедливые и мелочные при расчетах и просто довольные, которые молча брали «свое» и без пререканий и обсуждения платили. А ведь Тельнов, когда вылетал из Южно-Сахалинска с багажом выше установленных 20 килограммов, доплачивал тариф... так что сейчас на реализации горбуши он барышей не обрел, сводя еле-еле расходные концы; грело душу одно – и для молодежной вечеринки хватит рыбной сахалинской закуски. В лабораторию на шум внезапно наведался Казаков – он принюхался, оценивающе глянул на красную рыбу; ничего не сказал, не прокомментировал, молча вышел прочь так же внезапно, как и появился. После его ухода гвалт в лаборатории возобновился, толчея пошла дальше; благодарный Тельнов за оказанную «помощь» выделил одну рыбину и работникам лаборатории – бесплатно.
А на память Тельнову почему-то пришло, как он метался и ждал Маляренко в аэропорту в день своего отлета. Вот тогда он и увидел двух тихо и мило беседующих женщин, одной из которых явно была японка. Он подсел поближе, и вот тогда он услышал ту историю про потерявшегося японского мальчика из 1945 года и про его мать из Саппоро... И она, эта удивительная история, врезалась в его мятущуюся память.
На следующий день в партии только и было разговоров про историю с Маляренко, которая встала на «колеса» и покатилась, набирая скорость. Всем было интересно и любопытно – что же случилось в далеком Сахалине? Слухам и кривотолкам не было конца и края. Все сотрудники, особенно из других отрядов, допытывались подробностей. Тельнов больше отмалчивался, помня наказ Нилабина, или же говорил скупо. А слухи уже расходились: «Говорят, что Маляренко полез к тебе драться, и ты ему по морде дал. Правильно. Он был пьяным, вот и полез!» Тельнов разозлился: «Да кто говорит-то это? Говорят, говорят...» В ответ мямлили: «Говорят». «Не говорят, а сплетничают!» — в сердцах бросил Тельнов и пошел в кабинет своего отряда составлять авансовый отчет.
* * *
Маляренко появился на работе через пять дней после моего приезда. Настороженный и готовый к отпору. Заболел, мол, поэтому так долго добирался; вот справка из сахалинской больницы; от Читы добирался поездом; меня бросили и подставили... акты были подписаны... (Про деньги – откуда ж они у него появились для перелета и проезда домой? – ни слова!) На первом разборе полетов Тельнов имел бледный и печальный вид, Маляренко был взъерошен и напоминал затравленного бойцовского петуха. На второй разбор полетов, который происходил уже у начальника партии Казакова, Тельнова просто не пригласили: «Теперь уже без тебя», — просто и доступно объяснил Нилабин и ушел на «сборище тузов» с сахалинской повесткой-разбором. И бились они там долго – не менее двух часов. А через день – весьма оперативно – был издан приказ по итогам работы сахалинской командировки и вывешен на обозрение. В приказе коротко и без обиняков подводились в основном итоги поездки: одного уволить за невыполнение плана работ, второго – за выполнение намеченной программы назначить старшим инженером (с соответствующим окладом). Кто есть кто, думаю, понятно. Рассчитали Артемыча в партии так же быстро, будто заметая следы и освобождаясь от ненужного балласта – в тот же день. Охая и ахая, Маляренко зашел в кабинет отряда и начал демонстративно рыться в своем бывшем столе, умышленно громко рассказывая, что и как: вот эта линейка его, и авторучка тоже – сам покупал. Окружающие спецы с интересом смотрели за маневрами Маляренко; хищно смежив веки, за ним внимательно наблюдал со своего места Нилабин. Но вскоре, видно, ему надоело это представление, и он коротко приказал Маляренко: «Александр Артемович, отдайте свой долг Тельнову. Ну, сколько вы там у него назанимали на Сахалине... помните?» Маляренко долго рылся в кармане, мял что-то в руках, потом бросил перед Тельновым несколько радужных бумажек.
Ну, вот и его последний аккорд: «Подавись».
И Маляренко исчез с нашего горизонта. Позже говорили (или же на самом деле видели), что он работает где-то под Красноярском в Березовском карьере мастером, такой же суматошный и заполошный. Не грех тут вспомнить и последний наказ Артемыча в адрес того же Тельнова: «По трупам идешь. Не так начинаешь...» Не с того начал?
Дорассказать вам про Сахалин? А вы, видно, уже надеялись, что всё уже закончено. Но нет, еще пару незаметных минуток и событий для всех нас.
Летом ко мне в гости собрался друг с Урала. Но из-за наших несогласованностей получилось так, что друг прилетел в Красноярск, а я не знал, как улететь с Сахалина домой на встречу с дорогим другом. И пока мой друг изучал местные и окружающие красноярские достопримечательности – сам город с его известной тюрьмой Белый Лебедь, знаменитые Красноярские Столбы, с приложением горы Токмак и реки Маны, я в это время думал: как в разгар лета, где желающие улететь на материк обилечены на неделю-две вперед, мне убраться с Сахалина, вырваться отсюда в свой родной Красноярск. Работа закончена, весь вопрос теперь в том, как скоро удастся вылететь. А в одном знакомом управлении меня как-то неожиданно спросили: «А Маляренко у вас работает? Есть такой у вас? Так это ваш кадр? Да нет, ничего. Да по весне назанимал у нас в управлении, чуть ли не по всем отделам... Денег назанимал. Что уж у него тогда случилось – обокрали, потерял, лечился в больнице – не помню точно сейчас. В общем, назанимал денег и клятвенно обещал вернуть. Вот народ и интересуется – долги он думает отдавать?» ...Вот уж чего не знаю...
В тот раз меня выручил сосед по номеру в гостинице. А кто же нас «спасает» иной раз, как не соседи?! Он – из железнодорожников (в форменном мундире; в НИИ такие могут быть?), прилетел сюда в командировку по вопросам железнодорожного транспорта острова (красиво рассказывает: про начинающийся БАМ, о привязке ж/д острова к материку; да посудите сами – обычная ж/д колея 1,5 метра, а на Сахалине – пережиток от Японии – метровая). Так вот, только благодаря этому ж/д «тузу» я улетел в Красноярск на неделю раньше и с большой сумкой копченой рыбы корюшка. Надо иметь хорошие знакомства...
А вот по осени там же на Сахалине моими соседями по номеру тоже оказались весьма любопытные и интересные люди. Один из них – закончивший автодорожный институт в Омске и прилетевший в Южно-Сахалинск работать (и что его сюда понесло?); зимой, когда я был снова на Сахалине, мы с ним встречались, созвонившись, и очень даже неплохо посидели. И что, спрашивается, в этот городишко Южно-Сахалинск с населением всего 92 тысячи человек тянет? А вторым моим соседом по гостиничному номеру стал обычный студент, который учился в Хабаровске – я ему подарил десятка полтора значков, а он мне сделал на левом предплечье крестообразную татуировку в виде двух слов, одно из которых есть «Сахалин».
По осени к нам в партию прибыло новое молодое пополнение специалистов, как помнится – из Перми, Свердловска и других мест; одного из них потом укусит энцефалитный клещ, и это удовольствие ему будет дороговато стоить – ближняя красноярская тайга известна не только своей красотой, нравом и резко-континентальным климатом...
А вообще-то – ну что сказать про Сахалин? Я говорил и встречался там со старожилами (жалуются, что срезали «коэффициент»), искателями приключений («на севере, на севере смотри, и по берегу»), с местными браконьерами на рыбе, коренными айнами и обрусевшими корейцами – разный люд попадался на том краю света... Вот таков был для меня Сахалин-74.
Ну, что сказать про Сахалин?
На острове прекрасная погода!
Это я, побывавший там в течение года в разные сезоны, могу подтвердить.
Больше на Сахалине мне побывать не удалось.
Разве что где-то еще...
Ледяная быль Ермака
Высокий и сутулый, но скорее высокий из-за своей богатырской стати, он смотрел сверху вниз на барахтающегося пацана, крепко зажатого двумя дюжими казаками.
— Беглый, что ль? Аль шпион строгановский? А может, государев ведун... так государь пока плохо ли хорошо не знает о нас...
Ермак грозно зыркнул из своей бороды, порешил:
— Оставьте парнишку. Вроде как молод еще пакости делать, — и обратился к задержанному: — Беглый? Шпион? Недотепа? Пришлый? Всяк вылепится... Так кто ты, чадо нестаршое?
Сирота.
Но откель? Сбежать откуда – нелепо и недостижимо...
Что? Бежал аж с Центрального Лаптя... непостижимо, да быть того не могёт.
— Так кто ты? — Атаман зыркнул глазами на своих, и два увесистых пинка враз достались высокому и худощавому пареньку, одетому в самую распоследнюю рвань.
— И не ври!
— И не вру, — сплюнул кровавой слюной паренек. — Ушел. Сирота я счас. Мои загибли, в Белых Горах, что под Тулой.
— Не очень знамо, но верится... Но тогда как же ты здеся-то теперь, «три» лаптя от Тулы отмахамши, оказался?
Казаки, видя атаманью ухмылку, довольно загоготали: «Свиреп, «казачок», да и скор на ноги! Эт же надо, так далече урыть...»
Прихмурился недовольно Ермак – не до того щас! – кинул скупо: «Покормите этого выкормыша... авось удачу принесет».
Ермак уже знал заранее, глядя на того пацаненка – принесет удачу. И хоть суеверие не так сильно клинило его грешную душу – но ведь и не грешно заиметь талисман, этакую глупо-мал родную душу.
Он рано остался сиротой. Стал позднее казаком, что означало «лихой человек». В детстве брел со своим учителем через Поволжье, пришел на Урал. Вернулся на Волгу, воевал и снова оказался на Урале у Строгановых уже как Ермак. Откуда так и почему обозвали?
— Полковник, а полковник, очнитесь!
— Меньше пинать надо было, господа чекисты.
— Ах да, господин полковник! Мы, товарищи из Екатеринбургского ЧК, приносим вам глубокие извинения... Так отвечать будешь, сволочь, почему ты отошел от общей линии отступления твоего Колчака и почему-то оказался под Пермью?
— Может быть и ответил бы, да язык не шевелится... А про Николая Васильевича вы так зря!
— Это тебе Колчак белый брат, а для нас – та еще сволочь, что побила кучу народа под Карабашем, в Кыштыме, Челябинске... вот тебя и прихватили здесь, у пермяков, и доставили до нас в Екатеринбург разобраться... Слишком ты странная птичка, чтоб тебя пристрелить зараз и освободить от гнёт земных. Отвечай: где, что и как? Цель? Задание? Колчак что тебе поведал, катясь дальше на восток?
* * *
(«Я не могу позволить себе вольностей и ошибок...» — Ермак).
— Ну, ты... — сапог больно ударил в бок юного пацанишки. — Беглый? Ай таких я в своей стае не уважаю... дружу с законом и государем нашим!
Бледный с недокормежки, но крепкий парнишка бесстрашно встал пред грозные очи атамана.
Серчал Ермак Тимофеевич – не до плачущего дела шла разверть:
— Так ты кто? Беглый? Сирота? Бесприють? Али шпион ромодановский? Халупень боярская!.. Да вроде мелковат на сии ухищрения, скотина младая. Так ты чего?
— Изволь, батюшка, беглый я...
— Пацан? Беглый??? Отродясь не слыхал! Как звать-ведать? Чьей стороны?
— Ярма Тимофея, я – убёгший от центра росси, а звать меня...
— Бушь ты наречен, сиротинушка, мной «Чей-ты». Есть у тебя матушка с батькой? А нетути, так и будь моим сиротой «Чем-мой»! Годится?.. Али врешь про свое сиротство?
Кто ты, сирота? Тульская, рязанская аль другая тех крутых, долгих, далеких и крученых лет... Ермаку было это равнодушно, как и его собственная судьба... Ужить бы ажбы!
Но пацанишка тот, беглый сирота из централов русских аж до краев Большого Камня необъятных, в душу запал Ермаку свет Тимофеевичу, человеку то ж не весьма простой судьбы (это ж «потом» – славили Ермака. И то нескоро).
Как ты вообще, пацанишка, сирота и на самом деле, попал в эту далекую и нахально-русскую стаю? Чей был «укус», что ты остался без мамани, да и батяню где-то обронил? И поплелась судьба твоя горемычная...
— Ты со мной не шути, хлопчик.
— Так кто ж с вами пошутит, Ермак Тимофеевич!
Ермак, хмурый и статный, великовозрастный и красо-бородат, хмыкнул:
— А ну и кто?
Тень набежала на лицо Ермака, угрюм стал. Может, только и таким под стать удержать ватагу? Этакая штрафная дружина царя Русского, разбавленная кадрами Строганова-Уральского...
Ермак пнул напоследок пацана, рыкнул куда-то в сторону: «Ко мне его, в мой чёлн! Что разинули рты? По местам! Щиты по местам...»
... И поплыли они, западным солнцем палимы, куда-то на восток, в гости к татар-кучуму, которого уже «не трогали» добрую сотню лет... Не считая Иоанна IV Грозного с его Казанью в 1580-м.
«Там русский дух! Там Русью пахнет», — возвестил Ермак, оглядывая свою рать. Кто «его» знает, может, на самом деле те знаменитые строчки были сказаны впервые не нашим знаменитым поэтом, а первыми славными русскими землепроходцами.
— Что рты разинули? Гогочете, как эти самые... — прихмурился атаман, будто что наведалось до его памяти.
«Ну, вы, тягловые люди – за дело! А боевым казакам – за щиты к челнам и стругам... Остальным людишкам – для начала особо не высовываться, без излишней потребности не шнырять взад-вперед! Глядите... Не ровён час! Кашеварам – вовремя кормить мою рать и прочих; им – пай погуще за их опасность нужную...
... Никогда не суйтесь в монастырь со своими дурным словом и действом! Всегда уважайте закон Рассеи на впредь территориях и иж за ними! Аминь...
Много многоточий... Хватает и при русской грамоте дефисов и прочерков, междометий... И межусобиц, междубитий россов!
... Вроде давно и долго, с 862 года встали, а ан до сих пор не могут встать и становиться на ноги; хотя был Чингиз и Батый, поляки смутные, Наполеон непобедимый... и иже с ними. Много, многие на Русь разевали... со времен славного нашего Князя Ярославского (что, забыли о дважды непобежденном Александре Невском – ведь их прах лежал у его ног: шведов и тевтонцев).
Но это всё потом, какое дело Ермаку, Ярмо от Причины, до вас до всех?
... Когда после 17-го докатился до этих мест «красный и правильный туман», все было в Правиле! И иначе быть не должно, не требовалось и не заложено.
... И многие хотели, хотели бы и норовисто встать под длань Русскую... Вот только не так быстро все пишется и не так быстро «многовековая» сказка рассказывается...
Крепостное право на крестьян ушло давно уже в историю как минимум с полвека (...минимум – слово-то какое, Др. Рим, сколь ему веков, но все равно минимум, min, «наименьший» на русский вариант). Так вот, когда докатилась красная революционная война до тех нейтральных зон – немало то ж воды утекло. Почему-то и раньше и потом все возлюбили «горбатого» – домогаться до Урала... Чем уж он так люб? Входил ли Урал с окрестностями в состав России времен до Петра и Екатерины II – ну, явно нет?! Припоздал, но уже знаменит стал своим богатством. Но это ведь всё потом – восемнадцатый век.
Так и хочется плюнуть на всё и начать историю сначала. Так и начнем, с той же огромной пост-фактум екатерининской губернии Тобольской, мощью и территорией возобладавшей над «пол-Европой»!
Да, после вихрей враждебных 17-го года, божья благодать так и не пришла в древне-графские развалины Данилы. Да он и не спрашивал – почему; служу Отечеству и Царю, коему он когда-то давал клятву младым кадетом.
Тогда он, один из последних представителей своего дворянского рода, полковник царской армии, при орденах и регалиях, находившийся в отпуске на излечении, воскликнул: «Да не за вас ли я «ходил» в Маньчжурии и Пинских лесах?» И почему он не стал предводителем местного дворянства – самому богу неизвестно; видно, больше воевал, чем находился в своем родовом поместье.
Он, многовековой князь, по имени Данил (а звали крестьяне, барышни и купцы его по-свойски – Даниил; для других он был Дан – импозантно, полусветское-полурусское...), ростом 192 см, гвардейские усы, грудь в орденах, весь в дворянстве, богат и странен: не давал своим сибирским люто-угрюмым мужикам разоряться... за то его и радели.
Восемнадцатый год убил в лихости своей его жену и двоих его дочерей, когда он вернулся с Керенского фронта к себе в далекое Уралье.
И ранее, и потом – всё и все кидались и кидалось под эгиду и сень Урала... В 16 веке – Урал есть Большой Камень, потом идет под Демидова и Петра Великого как Каменный Пояс, и только уже потом как Урал. Екатерина II после Пугачевского бунта указом упразднила реку Яик, назвав его высочайшим указом как «река Урал». Что, вам сего еще не хватает? Так продолжим под так не спетые и несуществующие песни про Ермака, сына Тимофея... Ведь поют и воют песни о Разин-Степановском утесе на Волге... А где же «утес» богатыря сибирского Ермака?
Неуж только в граде Тобольске, ставшем при Петре I и Екатерине II губернией и действом, впоследствии прославившемся только убиенным царем Николаем II...
Сильна и грозна Русь! Даже уже прошедших лет и столетий.
Отметелила судьба своего последнего дворянина из его последних родных краев. Его предки, Данила-Даниила-Дана, всегда лепились коль не к Москве великой, так к Уралу седому...
К Каменному Поясу шли все, кому не лень было и не грешно, кто хотел жить правильно и безбедно... Все хотели стать его «побратимами».
К Великому и Седому старались и лепились все: Оренбуржье, обозванное как Южное Зауралье и так знатное своей последующей историей казачества (...да, говорят у великовозрастного Данилы были предками оренбургский казак и бывшая выпускница Смольного... да в жизни не поверю!). Туда же шли и имели право Полярный Урал, Приполярный Урал, Средний Урал, Южный Урал. В 1943 году была организована область Курганская, отторгнутая вроде как «сельхоз» от «тяж-индустрии» Челябы – Юга Урала – и признанная в Западно-Сибирской зоне не как горная и минеральная, скорее как «колосись для фронта и тыла» (со сталинского 43-го года) в своих низменно-зеленых болотах Западно-Сибирской (большой и огромной, Великой) Низменности... Далее идет и бурое от тайги Восточно-Сибирское царство.
К Уралу, Древнему Камню, лепилось все Горбатое, Уральское и Лесистое – края нехоженые, дикие, промозгло-таежные и мало изведанные. Но вот они: с запада Пермь и народ ихний «пермяки-соленые уши», а еще туда же Вятка с их потом «Киров», здесь же зыряне, странная кудлато-мудрая «нация»; на северах Среднего Урала – лютоборцы, молокане, единоверцы, старообрядцы (никониане вымерли?).
Но ведь многое потом...
А названия-то какие, наших древних сибирских сторон и стран: Мангазея, Мещера, Югра...
Когда огромная, хорошо организованная по центрам и хрупкая на окраинах Великая Империя Российская начала трещать по швам (мы «их» много знаем, да: Римская империя, Александра Македонского, Царство Батыя-Чингиза, Железного Хромца – Тимура, Наполеона, и... «?») – вот тогда полковник Данило (приметы: огромный рост, большие усы, лоялен к советской власти) пропал из вида всей бело-красной бытовавшей тогда по «ширшему» Уралу власти. Был Данил, пропал и его клин. И когда даже на восток оттекал знаменитый Колчак с его знаменитым Каппелем (ох, сколько успела бед натворить колчаковская контрразведка на Урале; севернее Урала – ей кто-то помешал...), но и тогда здорово интересовавшаяся Данилом российская ЧК не смогла его вычислить и понять цели его пребывания на его непонятном маршруте. Почему именно на рыжий север хантов и оленей? Остальных «бело» там уже всех перестреляли, либо они померзли, или же на «путь далекий» редкий пехотный капитан колчаковской армии забредал сюда. И след Данилы затих где-то на Югре или, быть может, где-то чуть поближе, в «сотнях» верст чуть южнее...
Ну да – уходящий пусть уходит, тоже мне, последний Чекус! И без него сдюжим... тем более в его разоренной уральской усадьбе кой-какие старинные рукописи обнаружил наш рьяный сотрудник ЧК. Не важно, что «лоялен» был Данил и «потакал» серому люду... а почему? Кто он таков, выходец чуть ли не из графьёв образца много веков назад! Что ни говори, все равно враг трудового народа!
— Ты чье? Старичье? — больно и болезненно поддели его под бок. И дружно, гуртом, как минимум в две-три глотки захохотали под берегами неизведанных рек.
Парень смолчал; не стоит ссориться с бой-казаками; были б обидчики из разряда смердов, из коих по-настоящему сам он и есть – уж тогда бы сейчас этим гадам вонючим и вооруженным, от которых несет кожей и потом, несдобровать. «А пока побреду к кашеварам, не велик мой ранг в дружине атамана».
Ох, далека еще от Ермака молодая Россия Петра; времена смуты еще не наступили... Да и Русь счас страшно мутит от внутренних передряг... Уж хочет иль не хочет Ермак, ярмо господне, ярмо государственное – но уж иди! Взялся за гуж – не говори, что не дюж!
Издалека наш путь. И долог. И пацан еще молод и слабо «обут» в доспехи по ненадобности. «Пусть варит, но врага зрит и готовится», — буркнул для своего приемыша Ермак. Дум много, за плечами – погибель лет и дум... был он или же стал Ермак Тимофеевич человеком «угрюм, немногословен»... И ни-ни – из своего прошлого! Да и зачем? Крутые и лихие нелегкие судьбы для всех у нас (это ранее говорили гладиаторы, выходя на арену цирка-колизея своему цезарю на высокой трибуне: «Идущие на смерть приветствуют своего повелителя!), так?
А сейчас как? Через полторы тысячи лет?..
— А это? А энтот чей паек? Чей кус? — бодро верещал весело-неугомонный приемыш, как говаривали – САМОГО – крутые и не ведающие голода и страха казаки Ермака.
Девки-поварихи пацанишку возлюбили; да и сам он любил при своих маломальских доспехах покрасоваться... Затискают его до красноты, а Ермак знай себе ухмыляется да отгребает с морды густую чернь бородатую.
Что их связывало: последнего представителя блестящего княжеского рода полковника, участника Японской и I Мировой (и потом еще гражданской) Чепуса с его странной фамилией и не менее понятной его северо-белогвардейской эпопеей, когда он чуть ли не один остался живым из последних его двухсот пятидесяти солдат, загнанных под минус за сорок на открытый и хрупкий лед затона где-то на севере России. Что он там забыл, полковник Чепус? Сейчас сотрудник ЧК внимательно и зачем-то читал тетради из «графских развалин», смотрел в лицо князя, видел парнишку из желтых давних страниц «вековых» дальности Чекуса... И не мог понять: а почему нельзя было полковника сразу шлепнуть. Но приказ был «брать живым», доставить за «тридевять земель» без увечий.
А далее... Это как: «Был Чекус, стал Чепус?» Не беда, и с этим разберемся, не такое поразгребали у беляков...
... Ермак хохотнул: «Во пацанчик! И полкопейки не берет. Кругом прикид сиротинушкой. Ну, так берем его охламьё в прикид?»
Старшой Федот лишь головой кивнул в ответ – с царями не спорят... А чем тому быть – Ермак...
Да положится на Бога наша воля!
... Ну и положимся!
Загоготала и пошла вольница Рассеи «с центра и до небес» в татаро-сиб неприкасаемый...
Не до шуток стало!
Да и время пришло!
... Шел Ермак, а за ним тяжелой поступью Государство вновь зарождающееся... Русь, будучи молодая Россия!
Ермак дернул бровью: «Уважь, мой Федот, пацана». «А он – ни-ни?» «Уважь, говорю, Федот... говор у него мой... не врет, пацанишка Чекус... А так и озадачь бойцов и плотогонов – что есть у нас безродный, всеми нами родный «гонца» из Черно-былья свет-паренек... Не из Тулы?»
Федот в ответ хищно смыкнул.
Гон обещал быть долгий. И Ермак не сдюжил, шмякнул однажды своего Федота...
«Говорил же тебе, паря, не трожь пацана. Говорил? Ну и получай по мордасам и сусалам». Федот успевал только от длани длинной увертываться – не дай бог схлопотать по горячке от атамана: злой и неуступчивый, когда дела касаются божьего и российского!
Что-то еще?
Поседел Ермак, видно много знал;
Лют стал и злобив, видно – невпопад
Много знает и узнал...
Может, не в коня корм злополучный?
Эй, вы, на третьем струге! Щиты и внимание! Оберег. Чуете?
... Откуда и от кого мог знать юный пацанишка: от Федота или Ермака о своей кличке Чей-кус; от своих больших собратьев? Ну приблудился, ну и ладно, двум смертям не бывать, унесла нелегкая от родных благовестов... Ну! Но не сдох же ведь сиротинушкой, ан люди прибрали...
Странные какие-то, и на заказ...
Пришли и забрали именно его; сунули в «стаю».
... Вот я и мыкаюсь, пацан горемычный, сирота безмосковная, сиротинушка... Подгребли, подпихнули, подобрали для краев далеких... Аль я и не затем там? Но вот он я пред грозным оглядом Ермака, его сподручных и ведущих плотогонов...
Что он гнал, Ермак Тимофеевич, в ту далекую зыбь российскую... да и достиг ли он ее?
Кинем взгляд, однако же, на именно его: кто он, тот Ермак Тимофеевич?
Тимофей – понятно и ясно, и вроде как ему имя второе по отцу... Так ли?
Но Ермак... нету такого славянского имени, корни которого уходят даже именно в греческую нашу юдоль. Но вот... «Ермак» ближе к славянскому «ясак», «ярмо», «ярмачный».
Подневольный, данью обложенный... Ермолай?
Ермак – истинно не русское. Вот почему-то любят говорить – Ермак, Ермак... с большой буквы. Но и то правильно.
Я – Ермак, и есть у меня отчество: все ли меня знают как Ермак Тимофеевич... Или как знают и обзывают – Покоритель Сибири.
Кого я покорил? Укротил Кучума? Всё равно бы он сдох перед Орлом – росс... Поздно или рано. А может, я – Ермак, гонец был впереди идущей нарождающейся Российской Империи? Скольких она сожрала, утроба-Росс, а и сколько кинутся ей в объятья потом, лишь бы обрести толкового хозяина-покровителя.
Так Ермак – покоритель? Или завоеватель, как нам потом будет казаться – «той, мелкомасштабной Сибири»... (Ведь впереди и на века: Крым, Сибирь, Дальний Восток, Камчатка, Сахалин, о-хо-хо!).
Кому какое дело до нас до всех! До нас, смертных, нищих и странствующих, в «бегах»? Да и Ермак не всё тягло привечал – обговор со Строганом заимел в свое время, водил их тягло с Камы до Москвы. А русский царь ценил сие...
Вот таков Ермак. Не прост. Не из лохани вылез... восстал. Ходил у Строгановых на «стрёме» – от Камы до Москвы, «ублажал» крутого Ивана Грозного, что сумел затоптать Великую Казань.
А если Казань пала, сдохла, почему бы не попереть... На то он и Иван Грозный, и не четверть с братиной – типа как потом Иван IV; чернь и густота все еття... едино!
Но да им-то, всем росс-казакам, какое дело было до всего того? Ну, плыли; ну, рубились смахача. Ну потравили хмырь чужеземную, порубили их, постреляли... Но ведь и они, те чмо болотное, достали нас!
Стрелы «татарские» били в защитный заслон ермаковских стругов.
Ермак не хохотал, не смеялся и даже не усмехался, как при начале похода, – он улыбался мимикой глаз:
— Вот мы пошли, Подкидыш. Идем. А хочешь я назову в века твое имя? Созвать сюда всех живущих поселенцев. Все? Как ваша река обзывается? Правильно! Как я назвал – так оно и будет. А нарекаю ее, речку, — Чеусова; иль если вам удобнее – Чаусово!
— Ты доволен, пацан? — Ермак легонько пихнул Чеуса, Чауса, приемыша своего... будущего: Чек, Сова, Чейкус, Ус, Чикус, Чепус, Кус, Чей, Чекан.
... Да мало ли их будет, имён, почти за четыреста будущих лет? Десять тысяч Кучума навалились на Ермака. Вот такую сечь Ермак при своей прозорливости ожидать не мог... Не смог, не успел.
Казаки роптали, путь их был долог, неспокоен и неосмыслен для них. Проще – нетути пути. Но Ермак пер на рога и небеса. Симеоныч его порадел, тот казак, что ходил с ним при Строгановых.
Ермак начисто разгромил хань Кучумовскую на Иртыше. Сильно помогли Ермаку его пищали – огневой бой.
Кучум ушел вглубь, в свою старицу – Кышлак. Оба поняли – бою не конец, конец не близок.
Вы зря думаете, что Екатеринбургское ЧК шлепало губами после колчаковского следователя Соколова. Колчак, северный исследователь и ныне нетерпимый враг, ушел – проблемы остались.
Враг хитер и коварен. Так думал знаменитый вождь русских якобинцев, поляк Железный Феликс, сын Эдмунда. «Красной революции – нужны...» царские деньги.
— Так скажите, полковник... э-э-э – Чепус? Чекан?
— И так и то правильно.
— Вы – офицер царской армии?
— Полковник генерального штаба, господа чекисты.
— Высокого, однако, полета птица...
— Да уж! Как-нибудь... Предки мои веками служили Царю и Отечеству...
— А вы преуспели, господин полковник, на службе... Не-не, не думаю, что только из-за вашего высокородия, древнейшей родословной...
(Екатеринбург после отхода сил Колчака; следственный особый изолятор ЧК)
— Но не очень понятно: каковы ж были взаимные интересы адмирала Колчака, омского сибирского правителя, и экс-офицера Генштаба?
— Интересы просты. Российские.
— А вы, полковник, знали Александра Васильевича Колчака? Лично?
... Знаете ли вы лично Адмирала Колчака и почему вы ушли от него в полосе Урала куда-то в глухую Пермщину при общем отходе войск Колчака на восток?..
А, полковник?
Видите ли, товарищи следователи... Виноват, гхм! Меня не устраивает и я не понимаю Большого Плавания в сибирской тайге... Я понятно выразился?
Даже очень, го-га-гы! И всё ж, полковник, крупно добавляю – Генштаба, вы резко и непонятно сбились с курса «Колчаковской флотилии»... Кто, что и как? Вы собираетесь нам ответить? Вам разве не интересна также судьба вашей семьи?
Непрост! Ох, непрост был Ермолай Тимофеевич Токмак, какову кличку «токмак» дали ему вольные казаки, некогда ходившие под его упряжью в лихие набеги. Вот так и сложилось, да? Ермак Тимофеевич... Но есть гора Токмак (Такмак) под Красным Яром в Сибири – так это что, куда и зачем... Впрочем, много вольницы в этом мире.
Мы не археологи и не летописцы Древней Руси, даже той, недалекой полутысячной назад...
Ермака будут терзать, изучать, резать по частям... БСЭ – Большая Советская Энциклопедия 1972 г.; БРЭ – Большая Российская Энциклопедия 2007 г.
Непонятно и когда народился на свет бедный маленький Ермачишка – что-то около 1540-го года. И отмеряно ему было и стало... лет! Крутых и могучих!
— Вот еще вам и интересно, — хмыкнул Ермак, — где я родился, да еще и крестился. А будто ты, Федот, не знаешь? Ты, прошедший со мной... э-э-э.
Помолчали, Ермак и его ближний сподвижник Федот. Федот скорее смахивал на самого лучшего и преданного друга Ермака, чем на одного из его немногих есаулов-атаманов; может, что знал «о-ране» и ведал «до-толе». Тут же сидел Симеоныч, круто наливаясь пойлом; Симеоныч был ставленником от Строгановых при Ермаке; однако Симеоныч человеком был свойским и винцом не брезговал, но оружием даже в пьяном виде владел мастерски.
Рядом сидели кучно походные атаманы Ермака Иван Кольцо, Иван Гроза, Никита Пан, Матвей Мещеряк, Яков Михайлов. Где-то чуть подале обитал «до того и доселе» неизвестный и лихой казак Иван Глухой.
Казачья верхушка Ермака думу несла. Как быть дальше?
Под ногами атаманов крутился юный пацан и уже неплохой боец, любимчик Ермака Чикус.
Ермаку было уже давно плевать со своей высокой колокольни. На всех и на всё. И на крутых братьев Строгановых, «царей Прикамья», и на самого Иоанна Грозного... Он, Ермак, так далеко забредший в своих атаманских вольницах и при своих больших невольных грехах, давно уже не был хозяином самому себе. За ним – скрадывались, и тенями крыли его прошлое, и явно не давали шанса на будущее. Ну и что? Человека ведь что гонит вперед? Не бесстрашие... невольный страх или быть в покаянии.
Прежде чем быть у Строгановых и потом двинуться в немыслимо-непонятно-непотребный поход вглубь темной Сибири – каким же это надо быть сволочью и святым...
Ермак был и останется... Им...
Издалека быль ермаковская потянется. А вдруг Ермак – тот самый Аленин из вотчин Строгановых на реке Чусовая? Но тогда кто до него, Ермака, грабил на Волге (и т.д.)? Ну, а вдруг он родом из-под Тотьмы или из села Борок, что на Северной Двине?
Ермак аж хрюкнул от разговора своих атаманов. Скривился.
— Заскучал, атаман? — Кольцо печально смотрел на своего Тимофеича.
— Да так, Иван, погрезилось. Пить-то, ма-будь, хватит? Впереди не широгон.
Святая и Долгая Русь никогда не будет бесталанной. Так повелела история, наши древние и прекрасные предки – скифы, сарматы, древляне. Так мы и есть...
Первопроходцы, ходоки, переселенцы, иноки, монастырская и боевая рать – ведь ими, исполать, жила и крепла держава от Балтики и до Синего Буй-Окияна.
Вот и Ермак (сдуру?) туда попал. Понимал ли он? Понял? Осознал ли всё же то величие, что сотворил Державе Русской?
То ли еще будет.
«Страх-то какой», — вздрагивал приемыш Ермака в ожесточенных схватках казаков с татарами Кучума. Стрелы били в бортовые щиты казацких стругов, но им в ответ рявкал по берегу огненный бой казаков.
А казаки Ермака были тебе не «куча башляй»... Верили еще в своего крутого вожака, безропотно принимая его приказы.
Так откуда родился этот исторический бедлам – поход Ермака в Сибирь? Кто ЭТО родил и сделал? Нам, Русь – XVI – нужно? Вспомним: Русь тогда была под жесткой рукой Ивана IV... Не забыли Иоанна Грозного?
Понятно, что на одной чаше весов самодур и круто-мнительный наш Иван IV, а на второй, маленькой чашке болтается... кто бы вы думали? Да, Ермак. Не перетягивает. Как при перетягивании каната. Тогда кинули туда свои силы братья Строгановы.
Братья Строгановы – им честь и хвала. Не забывая чести русской и свои интересы, купцы и промышленники братья Строгановы в 1558-м получили первую жалованную грамоту на «Камские изобильные места». В 1574-м – на земли за Уралом по рекам Тура, Тобол, и также получили разрешение строить крепости на Оби и Иртыше. Вот это Русь, Иван IV и Строгановы! Ермак будет попозже, и он годится, как уже знакомый продвиженец братьев Строгановых на неуемные аппетиты «своя и Руси».
Ермак появился у Строгановых в 1577 году...
В детстве Данила Чекан перелистывал древние рукописи своего рода. Интересно и здорово! Что заново переписано на новые бумаги, а где и старый хрусткий документ, к коим особо Данила и не допускали. Но всегда твердили ему: «Ты... такой-то, издревле... предков знай...»
Он из всего этого детского бреда уяснил лишь одно: всё прекрасно и всё прошло, но вот одна тайна с заковыкой осталась...
Какая?
Да нет, Данил, ты знатен и богат, родословен и корень твой идет от... Откуда, спрашиваешь?
— Отвечаю, сын мой. От XVI века, в те пред-смутные времена 1612-го. Да, тогда мы получили для своего богатства титулы дворянские... очень высокие.
— А раньше как было у нас? — спросил «папа́» неосторожный Данил. За что и получил гулкую затрещину и пожелание «читать надо больше».
«А военные много читают? Им же некогда», — вновь неосторожно поинтересовался у своего «папа́» Данил.
«Болван!» — ответ был краток и дерзок. — Офицеры всегда были элитной Россией... и тебе ли, сосунку, рассуждать об этом?! Вольнодум. Марш в кадеты!» И читай поболее нашу родовую библиотеку... (Где-то здесь, в записях нашего первого «пра»-Чекана, и есть «богатый ключ» к отгадке...)
«... Как вроде давно это было», — вздрогнул полковник в сырой камере Екатеринбургского ЧК.
Ермак вломился в ту Сибирь то ли в 1579, то ли 1581 г. (из БСЭ). Но уже и все равно – пусть даже торопят нас эти даты – он уже шел...
Кто ж его, Ермака, так поторопил, этакую туру – шахматную фигуру (у арабов в шахматах – тура, башня, у славян – ладья)? В любом случае Ермак на выше не тянул, не дозволяли правила игры и его ранг шахматного игрока.
Но... а... Ермаку было чем похвастаться, было что вспомнить!
Ермака в одно время звали Поволским, ибо возглавлял он отряд волжских казаков. Рослый, широколицый – он внушал своим и чужим панический страх своей согбенностью и бородой. Черноволос. Крут. Чужого мнения не имеет. Плечист. Этакий... уже готовый к бою! Что решил – других мнений не терпел.
Как он попал к братьям Строгановым? Великие и заметные люди всегда нужны, требуются и необходимы; тем более Поволский умел держать своих соратников по делу в узде. И в 1577 году Строгановы «пригласили» Ермака с его отрядом для охраны своих владений от нападений сибирского Хана Кучума (БСЭ). Дубль II, БРЭ: и в начале 1580-х Строгановы, знавшие Ермака (по его, что ли, «прежним делам» - неясно), пригласили его отряд для обороны городков Пермского края от набегов татар и вогул.
Ну вот уже ближе к истине... Пермский край, эти «непобедимые» вогулы, ужас наводящие на русских своими цветными божествами и древними урочищами... в пещерах, в камнях, в лесу...
Небезгрешен был Поволский с его ватагой. Казачий отряд Ермака Тимофеевича долго действовал против татар в Поволжье. В 1580 и 81 гг. отбивал табуны лошадей у ногайцев на Волге. Занимался грабежом царских судов, иноземных послов и купеческих караванов.
БРЭ – 2007 г.
Опосля чего в 1577-м (БСЭ-72 г.) стал у Строгановых «сторожем и охранником».
В 1580-м (БРЭ-2007 г.) стал у Строгановых оборонщиком городков Пермского края... который опять же богат лесом, приключениями, пещерами.
Братья Строгановы для охраны обозов держали отряд в 500 человек, возглавляемый Ермаком.
Все же когда ушел Ермак в Сибирь? Когда был у Строгановых? Что и где он делал тогда, в его свободное от «славы и подвигов великих» время?
Не было во времена кадета Данилы всяких там БСЭ и БРЭ, тем более рано им было быть во времена капитана Даниила Чекана... Но он, листая родовые документы и свитки, начинал понимать, что их далекий предок Чекус и знаменитый Ермак в чем-то взаимосвязаны...
Ведь вроде всё просто. Должна быть видимая или неосознанная незримая связь: родственники, партнеры, однополчане... Это то, что очень и плотно связующее двоих, пусть даже где-то «далеко». Но! – верно. Родственники – нет, обормотства и допустимости ровно в пол-устава; партнеры – гм... Однополчане – с натяжкой, но годится, и – а если они «до-партнеры»... Это что ж?
... Значит, малой Чикус знал тайну Ермака? И, быть может, даже «зафиксировал» ее в своих: картах, мемуарах, тайниках, схемах, рукописях, библиотеке und so weiter! Немецкий язык Данила знал в совершенстве.
... Черт знает что! Donnerwetter (черт побери), дословно – плохая погода и ветер.
Мы плоховато знаем политическую жизнь того, давно ушедшего в небытие XVI российского века. До того ли нам, суетным, всё в трудах и заботах, при хлебе насущном...
Так какая же заумь сказала забыть о предках?!
— Я вот щас восстану из своих могил, да как вам тресну, — громыхнул Ермак.
— Не-не, не надо, не требуется... Да и без тебя тошно!
«Н-да, — чекист продрал сонные глаза. — И пригрезится ж такое... дурное! Тут о революции думаешь, а пытаются пролезть к нам всякие буржуазные выродки типа Ермаков.
(Тому чекисту Родина-Россия давно бы сказала: «Большое спасибо, будь вот у нас Ермаков побольше, а вот вас от-ермаковщины дабы вообще не было...» Но не сказала! Не успела...)
Сам ли Ермак...
Братья ли Строгановы...
А может сам Иоанн-царь...
Но вроде идею похода в Сибирь «предложил» сам Ермак. Братьям Строгановым. И те ее «горячо» поддержали. Знал ли наш могучий «Четвертый» (Иван Грозный) о будущем покорении Сибири? Конечно, потом эту долгожданную весть от разбитой ермаковской рати царю донесли... обязательно!.. скорее его – порадовали; и так долгожданно порадовали скорее Строгановы... а как же – возвеличим Русь! Царь остался доволен, весьма; вознаградил всех ратоборцев, может и казаков с Ермаком не забыл?.. Забот-то у царя много!
Ну, тогда, значит, и в поход пора собираться Ермаку. Час настал. Строгановы подмогли. Крах Кучуму шел.
— Ух ты! Ах ты, — шумел младой Чепус. — Во как бьют.
— Прикрой башку. Вниз, — осипел злобно Федот и треснул подзатыльника парню. — Мне за тебя атаман голову свернет, если не сберегу.
— А ты как же, дядька?
— Ложись, придурок! Стрелки отобьются... мы им не подмога.
— А куда ж ты сам, дядя Федот?
— Ух-х, ну обормот ты наш... Дай бог отбиться, Ермаку тебя сразу «заложу», а от себя дам пару затрещин...
— Но они же, татары... дядя Федот! Я же так хорошо стреляю из лука и умею пищали перезаряжать. Скажите, я побегу казакам помогать...
— Стоять. Молчать. Лежать! — Федот багровел. Татарская стрела слямзила в сторону от его шлема.
Чепус прыгнул на Федота и завалил его на дно. Матерый казак зашебуршал под мальчишеским телом, зло заругался: «... всякие тут...». Над ними пропели две стрелы.
— Федот! — рычал Ермак. — Да куда уж твои береговые ушкуйники смотрели! Прокутили такую мразь... оплевали наш караван стрелами как щенков...
— Виноват, Ермола!
Вскинулся Ермак, повел взглядом тяжелым вокруг – не слышал ли кто? А и да слышал если вдруг кто – должны смолчать.
— Хорошо, Фе-е-едот... знаю тебя, ходил ты со мной от Камских до Волжских, друг ты мне, но ныне-то я ж Ермак.
Чтобы вломиться в Сибирь, чтобы ее завоевать, чтобы покорить Кучума:
Ермаку: дано – казачья дружина при численности в 540 человек; плюс 300 военнопленных литовцев и немцев от Строганова; были с ним жинки и вольнопоселенцы, кои захотели идти в поход на худых условиях...
... вот такие вот дела...
В конце августа – начале сентября 1582 года вверх по рекам Чусовая и Серебрянка (Пермщина) отряд Ермака ушел в поход. Отряд волоком преодолел Урал, прошел по рекам Баранча и Тагил (Ср. Урал), а затем вниз по Туре и Тоболу.
«И где ж здесь река и местность Чеусово? — спрашивал себя офицер Чекан. — Я заблудил? Иль они чуть приблуднули... И все-таки – что такое исходный пункт для похода «именно Пермский край»?.. Или тот же пункт окончательного пути ватажника Ермака?..»
Отряд Ермака разгромил «врага» в урочище Бабасан и у Караульного Яра, овладел улусами мурз Карачи и Атика. Октябрь 1582 года (конец месяца) стал страшным месяцем для Кучума... В трехдневном сражении 23-25 октября на берегу Иртыша на мысе Подчуваш Ермак разбил главные силы племянника Кучума – Махаммеда-Кули.
Но тогда русские казаки были настороже... всё сработало! Береговая и речная разведка, сигнальная служба, аварийные службы на челнах, «контрразведчики» Ермака тоже поотличались – повязали десятка два виновных и невиноватых.
— Суди, Ермак.
— А что, такая куча лазутчиков?
— Да они так и шастают по обоим берегам. Кучум хорошо платит им, видно...
— А кормит как? Если они «за так» готовы души отдать Богу... Разберись, Симеон... у половины морды далеко не бойцовские, да и слишком хитромудрых рож тоже не вижу. В чем-то, в чем-то... откуда знавает Кучум о нашем приближении... маршруте нашего движения. Ты спишь, Симеоныч... Ты на кого, гад, робишь: на нас, на татар или на хозяина???
Ведь как бывает в природе? Два разных человека садят в один и тот же грунт одно или другое... и получается по-разному. Нет, здесь причина не в разнорядье и разнополье, и мало дело в тех удобрениях... Всё надо для природы-матушки! Вот только...
Да, нет полива, внимания, точновременной посадки по лунному календарю... всё правильно?
Если ты не вложил душу в это... любое другое дело... значит, ты – не русский, и душа твоя поганая, исполать от тяжкого XII века...
Русским – поганый закон не указан.
Чикус понял – не надо вечно болтаться и под стрелами татар и под внимательным взором Ермака. Не мешай, без тебя «Будь» проблемы; не забывай, щенок, кто пригладит?
Так и «катился» приблудный Чекус. «Что он без дела ходит? — сказал как-то Ермак. — Под ногами шарахается, плыть мешает, прослыл попрошайкой у кошт-варов. К делу его, к делу! Симеоныч, хнырь Строгановский, хоть и при памяти мы с тобой обои – сделай из Чикуса... отблагодарю!»
— Да как скажешь, Ермак. Убивца мне готовишь... я-то у Строгановых человек подневольный. Чую, да и замена ТЕБЕ из него... не будет – мелковат, маловат, чудо.
— Нам с тобой, Симеоныч, – вдруг «потянет»? На Строгановых и ИОНа у-сунем, вдруг...
... Ну вот и ладно. Сделай, Симеоныч, бойца.
Ох как казак Симеоныч бил юного, страшно было! Колол боевым, бил плашмя наотмашь, познакомил «в-друж» с российским чеканом – смесь чего-то гремучего от россов: секира, кистень и копье... сдохнуть проще...
Не любил Ермак, когда его выкормыш и любимец шарахался без дела и слонялся пред глазами. Не щадил... а в глазах его стоял тухлый огонь.
Не прост, ох не прост был энтот самый покоритель Сибири.
... Да и кто говорит, что всё так просто; не верьте, плюньте в глаза.
... Откуда столько злости, удачи, удальства и бес-башенства к своей личной персоне? Да и хозяин ли он был сам себе, Ермак, ПОТОМ, не захотев и не вспоминая других... и себя – из станицы качалинской, что на Дону; впрочем...???
Крут был Иван (И-О-А-Н... россы – «потомки» Византии и Греции, да? Да!). Но... гнал свое, по Руси обездоленной, укрупняющей, еще тупо-боярской, вечно-мнимый и вечно-воитель...
что сына убить;
что непокорную Казань брать;
что седьмую жену взять...
всё едино!
«Чем и сильна – присоединением. К НАМ всех друже и недруже» (откровения Иоанна Святого; не путайте с у-«ГРОЗОЙ»).
Иван IV Грозный (на то он и грозный), при всей пока его малогрозности, успел... успевал кукишем грозить...
Хотя бы на Восток! Про Запад Ивана IV Грозного вы знаете и без того...
Ермак вписался в... XVI век России. Не был забыт, не был «обут», потом привечён посмертно... да и грехи его...
Это только кажется, через века, что всё-то так и просто. Пришел, увидел, победил. Грязный, мудрый и тяжелый был тот век наш с противной, западной стороны от Руси. Всё-то там было, не нам чета...
У-помним, христиане!
В году 1453-ем Византийская империя (а и наши, русско-греко-корни, то есть – «утеряны») прекратила свое существование, став далее Османской империей. Но это – давно; а что при Ермаке в 1580-м?
... Всё уже «чуть позади» – Колумб, Магеллан... Но в 1588 году англичанами побеждена «непобедимая армада» испанцев в проливе Ла-Манш... В 1600 году был сожжен Джордано Бруно. Вот, значит, как! Ермаку, однако, наше благодарное потомство поставит монументальный и неплохой памятник-стелу в сам-граде Тобольске, и виден он «был и должон издаля», – как и есть на самом деле!
Трудно ли жить и быть волком-одиночкой в этой наше-ныне идущей жизни? Да как сказать. Всё зависит от самого человека. От – Самого. Один человек нарасхват и одинок, другой – всем нужен, но опять же одинок. А если и сторонится других, своих ли чужих, уже заранее не доверяя и не ища дружбы... страшно! Ну и что? Ну и кто они, «волки-одиночки», по своей долго-ли-короткой, ярко-рыскающей жизни?
Остатки Кучума откочевали после разгрома в степь, и 26 октября 1582-го отряд Ермака занял столицу Сибирского ханства – Кашлык...
Что в 17 км от Тобольска.
Удача, судьба – слова русские, означают пункт и точки жизни, линию удачи. Никто не попрет из русских супротив, ибо они знают значимость этих слов. Однако у русских упрямец – первопроходец, старатель и изыскатель, знают и еще одно понятие: «Прорвемся!»
И именно – я, и никто другой.
Если не Я – то кто... другой???
Прорвемся, погрузимся, восстанем твердыней там, где нас ожидали, и там, где мы будем, есть и должны БЫТЬ.
В начале 1582-го Ермак вновь разбил Маметкула, ставленника Кучума, взял его в плен на реке Вагай... И начал приводить к присяге местных на верность царю Ивану IV Васильевичу Грозному.
И отправил в Москву пленного Маметкула. То был знак высшего пошиба тогдашней Руси – и Иван Грозный уже целенаправленно впёр свой взгляд и анти-ресы российской земли исполать вглубь: «А не пора ли, да и узримо, приблизить те земли дальние до благостной Руси?»
Пора.
Хрен с редькой вам... Кучум может и не знал в своей глухомани северо-сибирской такого «овоща», но был и не менее крут казачьей вольницы и разносброда Ермака. Кучум бился и воевал, ратовал за те же «жизнь и волю», что когда-то отбил у других.
— Что, попало Кулям! — ухмылялись казаки. Вместе с ними смеялся и поумневший подрастающий пацанишка родом то ли с Белых Гор (– и на Каму!) или же бегун от ярма Строгановых.
Довольны казаки славного атамана Ермака: сыты, в день кашевары готовят на плотах и стругах, на ночь глядя притыкаются к берегу для ночного отдыха; пищальный бой и береговые разъезды разведчиков охраной верной несут покой рати ермацкой... всякие там мелкие и глупые стычки – не в щит (не в счет).
Ермаку неймется, да и казаки в бой рвутся. Уверены в своем бое, непобедимости и непогрешимости. Свят, свят! И вера наша с нами, христианами, понесем ее местным чумам, кыш-лакам, татарам, долганам, вогулам и иже с ними...
И присягал Ермак местное население на верность царю Ивану IV Васильевичу Грозному, царю Всея Руси... взимал дань (ясак) в пользу русского государя, за что было ответно помощью всегда в поганых случаях, защита от поганых татар и ворогов российских, мирная маета.
Идиллий было мало. Для Ермака. У Руси той поры и у Ивана IV хватало забот – ...полон рот непокорных и бестолковых даже в своих землях. Хоть и мнителен был Грозный, но Русь сколачивал крепко и надежно... хотя и Русь при нем была страшно разорена его извечными походами и страстями; но да когда Русь была едина и не твердолоба...
[Вот только после ЕГО СМЕРТИ, великого и грозного ИВАНА, «вдруг» вступила на Русь Великая Смута, долгая и беспрецедентная для Руси – ...вплоть до далекого 1613-го...]
Страшно; непонятно... горечь берет!
Ни Царь и ни Герой, слава Богу, не дожили до своего извращения...
В 1583 году, во время похода по Иртышу и Оби до Назимского городка, Ермак со дружиной подчинил обширную территорию, обложил ясаком.
... То ли Токмак, ти ли Ермак? – имя греческое, «ждущий» или же «уважающий бога»... Ах да, это же к «Тимофей-имени» относится.
То есть – к отцу Ермолая Тимофеевича Токмак... к отцу Ермака???
— Скажите, полковник, Вас же должна заботить судьба вашей семьи? — голос чекиста был сух, без эмоций и раздражения.
И откуда таких только взяли? Из бывшего сыскного отдела Империи из пламенных и интеллигентных революционеров-народовольцев.
— Что вы хочете этим сказать? — голос царского полковника-генштабиста не дрогнул... не то он еще видел... видел то, что и другим не снилось; невольная и пакостная измена, бездарность и безвольность «граждан в сюртуках» 17-го при юр-пни-дегустации.
[Да, «мы», великородные дворяне древнего рода Чепус-Чекан всякого навидались... знакомы-с были со многими, знавался и в Питере во времена Первой Европейской войны – «Потом ее обозвали I Мировой Войной»... Так вот, знавал многих, нечасто видясь, по штату и роду работу не лежало; но «знавал» и Александра Васильевича, он мне понравился и я ему почему-то вдруг подарил золотой портсигар моего далекого предка... толком и не знаю его историю, этого портсигара – тяжелый, много золота, с непонятными филигранными вензелями и инициалами, в мелких фигурных нашлепках, так странно отдающих стародавностью и велико-непобедимым русским духом...]
[Пройдет чуть «немного» времени и «расстрельный» Колчак бросит под ноги чекистов где-то под Иркутском (на Байкале?) золотой портсигар: «Пользуйтесь, для будущей нашей России. Свою я потерял».]
{То, что в квадратных скобках, об этом никто не знает.}
Но тот ли «это» Был? У Большого Адмирала... как говорится? У большого корабля большое плавание... «сувениров» под подарок и отвагу много.
Откуда знать и ведать тогда было блестящему офицеру генштаба, бренчащему медалями и орденами (но, однако, – Российской Империи), что ЕГО, ИХ и НАШИ «гнусные» потомки возрешатся поставить наконец-то памятник северному исследователю А. В. Колчаку, атаману Каледину на Дону, Большой Крест для Романовых и будут умно говорить о Каппеле и бароне Унгерне.
... Что? Свято чтят ушедших и отмахиваются от своих (Сахарова, Солженицына, Рубцова, Высоцкого... кого еще там рубили под горячую руку в последней четверти XX века...)
— Я очень плохо осведомлен про судьбу своей семьи. И своих имений. Известно, что мое Белогорье разрушено, а Уральское вроде как при памяти...
— Да. О судьбе Вашего Белогорья вы осведомлены очень даже неплохо...
— Да, там погибли в вашем огне, развязанной вами гражданской войне, мои дорогие женщины – жена и две дочери.
— Не мы ЕЁ ВАМ навязали... И, кстати, Вы же бились на стороне тех... что потом снесло всё и тысячи ненароком. Дорогая цена?
— Не я ее навязал...
— Но кому-то надо расхлебывать.
[Екатеринбургское ЧК.]
— Скажите, вы понимаете, что Россию надо спасать... Золотой запас России ограблен... Если мы, молодая Советская Россия, не найдем выхода, мы будем вынуждены изъять в обращение ГОС-ХРАН. Вы нам в ЧЁМ-ТО поможете...?
А в чём?
— Где-то есть ваши родословные богатства... которые, скажем, находятся «под спудом». И вы их нам даёте, молодой Советской Республике... так? Да? Или же помогаете нам найти их. О чем очень просят наш Феликс и Ильич.
Вы понимаете – о чем я говорю? Я – вам – что-то – говорю, а вы в трансе, да?
Транс? Чей? Когда, как и где...
— Вы были здорово обморожены, контужены, при... полковник! Очнитесь.
Дворянин наконец очухался, недремлющий чекист был на посту... пол был залит кровью, разбавленной водой.
— Соколов сказал, что после Екатеринбургского ЧК на Урале, да и в России, всё бледнеет...
— А вы что, были представлены Николашке... — поправился круто, — Николаю II?
— Он, возможно, и не знал лично про меня... но про Генштаб свой ведал и разведку свою уважал.
— О, так вы получается из Колчаковской контрразведки, которая уничтожала везде десятки пролетариев, несогласных и подпольщиков...
— Я к этому отношения не имел.
— Правильно. Полковник Чекан при штабе Колчака имел отдельный статус... неприкасаемых. И даже сам Верховный с Вами обращался только на Вы...
— Что поделаешь, старые знакомые.
— Отнюдь.
Отнюдь – что? Почему Колчака и СовРеспублику здорово интересовала судьба и маршрут последнего похода... заворачивающегося почему-то именно в Пермский Край, таёжный, ледяной, негостеприимный.
— Скажите мне, господин следователь...
— Гражданин следователь! — поправил аккуратный чекист. — мы для Вас, Чекан, давно уже не товарищи, да и друзьями почему-то не становимся.
— Скажите, где мои сыновья... которые были еще живы при мне?
— Вопрос разумный. Но стоит ли на него отвечать, если ВЫ не хотите ДАТЬ главного ответа –
зачем ВЫ на Пермщине...
Там полег в глуши
и стуже ни в чем не
повинный ВАШ батальон
отборных царских вояк...
[Про ваших сыновей мы посылали запрос. Вы, господин Чекан, может... и, видно, плохо следили за их воспитанием, коль оказались все они странными и разными... Быть может, вы не успевали за своими вольнолюбивыми чадами... а что жена и мать – сыновья всё равно сильнее и круче матери, на том и стоит человеческий род.]
Квадратные скобки – они и есть квадратные... – никто не знает, чужой не ведает:
— Где-то, быть может, в это время или потом скакал белоказак в Оренбуржье, дутовец скорее всего, из-за известия, что его любимая жёнка сделала ему первенца – а его уже ждала на закраине засада ЧОНа...
— Где-то гулял и недогулял в степях России малой придурок и анархист, оторвавшийся от батьки и мамки, да вечная память революционной молодости!
— Ну а третьему?! Как на развилке; и конь сдох, и жена пропащая, и богатства нема... зато всё есть – и химера красная, и мечта необъятная в несусветное.
Я не знаю, слышит ли ПОЛКОВНИК Чекус (или Чекан) через годы гражданской и застенки ЧК:
У вас только один сын,
чудом оставшийся в живых
ДЛЯ «ПОТОМ»...
ЕГО – куда «совать»? Убить как «двадцатипятитысячника» в будущих колхозах? Заставить погибнуть на гиблом фронте 44-го под Ленинградом?
... И зачем и почему маленький Чей-кус тогда оказался в стане Ермака? Чтобы стать «едино-непобедимым потом в веках» коммунистом-большевиком...?!
Ермаку было не «сладко». Ждать и догонять – удел не для слабых. И хоть знали Ермака по его прежним ватагам и подвигам, но ведь время – вещь несоизмеримая...
Страшна, паскудная блудо;
Неправило... кто – оно?
До подвига и греха доводящее?!
Ермолай не был из «чердачных», да и атаманы его, бывшие чуть вздыбатыми, понимали: назад броду нет, погибших заранее и ранее мир наш христианский не..
Так как они жили?
Без покаяния... оно им нужно было?
Да разве все они не верили в Христа?
Верили. И крест, нательный, имели.
Что, Ермак, басурманов бить идем? Идем. А ранее-то – кого бил?
Сломалось что-то в твердом Ермаке.
Гулял и брал ясак как во сне, при-дуру, за-зря. Но страшно не становилось – сильна была разбой-закалка, а ей-то всё дозволено... Эх, где мои ступари и чеканы, где мои битые челны среди иноверцев – ВСЁ МОЕ!
Ну что, Ермак... ты разве ж не понял, что от себя-то никак не уйдешь! От судьбы не уйдешь, не закосишь... вот оно...
И Ермак двинулся по Иртышу. Тяжко было раздумье Ермака – погиб его отважный атаман Иван Кольцо, с его отрядом – был бит Карачем.
Кучум – он и есть Кучум.
Ермак – он и есть Ермак.
Однако Кучум всё ещё сохранял значительные военные силы.
Однако Ермак, казак рубленый и человек неподножный, отправил казаков с отпиской о завоевании Сибирского ханства.
Шансы: один – по нулям.
Так царь наградил ерма-кольцев за Сибирь? И подарил Ермаку два панциря, что потом его «утопили»...
Утонуть в холодных сибирских водах можно запросто даже при обычной кольчужной рубашке... Если ранен, при крови; и добит... А добивали всех подряд, ТОГДА, в тот далекий и жуткий день для Ермака – всех и подряд, когда они «нарвались» на 6-е августа 1585 года, что будет чуть позже... Враг хитер и коварен! Огонь...
Пищали не спасли казаков Ермака. Пахло чем-то и здесь-то явно нехорошим. Симеон вражий, Строганов блуд, он подкузьмил??? Но Симеон, защищаясь при нападении погиб одним из первых... того же не может голова квадратно-пустая, ... как у тех, Строгановых на Каме, у-ками, о-ками...!
Страшно! Сотни человек...
Что порублено... зарублено... ну ин и на него...
Был мудр Ермак. Не нам чета. И не стояла тогда бы его голова... стела под Тобольском – большим небоскребом Кучумской татарвы... Русь на нюх плохо переваривала татарское азу, чухню и дрр... Плохо ли – но стоим, после монгол и татар...
— Слышь, ты, недокормыш, батька взывает...
«Недокормыш» встал, крепкий и плечистый парень, хмыкнул. Пошел... Давно он уже перестал быть у Ермака мальчишкой на побегушках, который верещал со щенячьим восторгом что-то глупое типа «Чей кус?»... владение старинным русским оружием типа чекан само по себе уже что-то говорит о человеке – еще не муже, но уже далеко не мальчике.
Карфаген должен быть разрушен. Вряд ли, однако, знавали эту древнеримскую мудрость на Руси шестнадцатого века. Где-то и когда-то Пунические войны в Северной Африке – и где-то и зачем-то татарские войны в Северной Евро-Азии.
Но все равно – Кашлык должен быть разрушен...
Погиб в неравной схватке атаман Иван Кольцо, сподвижник Ермака в его тяжелых нелегких походах. Вместе со своей ватагой. Но вот почему, говорим мы, он ушел из жизни от подлых рук тупых сибирских татар... – может и последние тоже жалуются на русское вероломство...?! В войне нет праведников и правильных слов – доказано давно первыми и последующими цивилизациями мира, будь то Рим, Египет, Урарту или даже Скифия... Но – горе победителю и смерть побежденным!
«Кукушка, кукушка, сколько мне прожить лет?» — так может спросить только уверенный и упрямый русич. Ермаку, к примеру, она накуковала сорок пять долгих лет; впрочем, атаман слава богу, не знал сего, не ведал про своё 6-е августа 1585-го... кукушка-то – птица пустая, подбрасывающая свои яйца в чужие гнёзда, однако при всём при этом кукушка – птичка святая на Руси, ан гляньте на какое-то старорусское поселение Кукуево, или на эту же птичку в старых механических часах с окошечком (заметьте, там не ворона каркает, не соловей «коленца» ломит, не жаворонок заливается, да и дятел тупой не отстукивает вроде как по стволу). А такую несуществующую науку как «ждать и догонять» мог придумать только и обязательно мудрый русский, да? А непревзойденное «мордой об стол», этакая ипостась передачи молодым опыта и знаний... – знаете, довольно толковая правильность. Вот только по жизни у русских всегда почему-то «тройка» (удовл.) по философии; ну да это издержки всякие там разные (какие – догадайся сам...).
... Ну вот и ладно – святое дело казачьего атамана Ермака и святое дело золотопогонного полковника Чекана катилось под развязку (конец – делу венец?)...
А и хрен с ним! Вот так выразились бы россы на все удары судьбы. Э-э, а вдруг «хрен» – это нечто византийско-греческое или индейское? Э-э, не так прост русский, чтобы за свои долгие века понять истину и сказать, врубить каменные слова типа «хрен редьки не слаще». Вы, их великовозрастные потомки, знаете ли чем кормились наши предки по тем временам – каши, овощи, разносолы, рыба, мясо, медовухи... до картошки и алюминиевых ложек тогда еще ой как было далёко.
... И Ермак, побивший Кучума и увёдший его подневольных жителей «под длань Российскую – с присягой и ясаком (а как же иначе?!)», порешил отослать наконец вестюшку Государю о «прибавлении семейства русского»...
«Пора, ох как пора, — думу думал горькую Ермак на краю Земли Русской. — Зря я что ли попинался об твердь земную...»
«Да и грешил... много! На кого, зачем и почему я оставлю «СВОЁ»? Ох ты, ты хрень собачья, гадалка волжская из булгар... мягко стелила, да удачлив, мол, буду, да счастлив и богат, да тебе... пожалел, с-сулил «копье» богатое, а она и-ан рада, давай дальше верещать!..»
«Судьба у тебя, мол, удачная...»
А что такое – «удачная»? Ответьте, геть!, мне мои ушедшие в тот неведомый мир мои казаки и братовы... С коими мы заложили богатства несметные, от грабежа и удали волжско-камской, ногаев пощипали, далеко и жестко ходили... Мало кто выжил... остальных глупых пришлось успокоить навеки – глаза шибко оказались разнузданными и норов неспокоён, мором золотым побиты...
Дык, кого ж услать в Московию, под грозные очи Иоанна? Ведь не воспримет сурового казака... О подаяти и подарках – соболях и прочем для царя, ясаке тоже – позаботимся. Но ведь не стоит забыть и «СВОИХ», братовьёв Строгановых, которые своё не упустят, пусть даже идет Ермаковское посольство к государю... – но ведь мимо «них»..., а кто ж пропустит пусть даже государственных, но ермаковских лиходеев чрез свои владения... Каждый жить хочет, и живет как может.
Ермак дышал тяжело, плох был, пробила простуда.
— Слушай ты, отрок мой Чибис или как тебя там...
— Чикус дали имя. Вы сами, Ермак Тимофеевич.
— Имечко какое-то странное.
— Сами нарекли.
Угрюм-Ермак хмыкнул в свою густую россошь на лице, потом ещё раз хмыкнул, процедил:
— Да ну, сам тебя и обозвал? А ты уже и привык к новым пач-порту, да?! Ну хитёр-бобёр.
И они оба, Ермак и рядом находящийся его приближенный, загоготали, хрипло и надрывно.
Парень не обиделся.
— Что зенки вылупил? Смотришь на меня с Семёном как на придурков? Иль волю взял?
Чикус пожал невольно плечами. Однако дрожь пробрала под хмурым взглядом атамана; он поежился и даже обхватил плечи руками... впрочем, быть может, это был предрассветный туман.
— Пойдёшь, друг мой... знаю, что мал, но зато и смышлён – гонцом во главе моей миссии до государева ведома. Докладать бум надо – Сибирь у ног, чуть обуздаем ею... и владей, государь! Прорвешься через Каменный Пояс, Волгу, чрез дворников Кремля – падёшь ниц и скажешь ЕМУ: Сибирь с Ермаком у Ваших ног, государь!
— Путь долгий, мой маленький и мудрый старичок. Сопровождать моё – ТВОЁ – посольство пойдет Семен, мой лучший брательник и артельщик... да ты поди так и не понял, кто таков он – Семен Семенович мой, если короче и по-древне – то Симеон. Что, Семен, ноздри зачесались, да? Чикус: если у меня судьба интересная, то у нашего Семена она вообще странная... – чуешь, он всё свои ноздри ощупывает; да еще не вырвали тебе их, Симеоныч, не успели, долго мудря...
— Спасибо, Ермолай!
— Не сметь!..
— Спасибо, Ермак, твоими могутами...
— Вот так уже лучше. Даю вам боевой струг, при полной памяти и наборе; гребцов – татар и чурок плененных; пороховой запас, харчи – выгребайте до Москвы-матушки.
— Погребем.
— Надо чтоб Слово моё дошло до Государя, и стало Делом.
— Гребём, Ермак! — И Ермак всех выгнал.
— А по пути «загребёте», когда пойдете Туда, – только без любопытных – к пермякам... полюбоваться одной ледяной пещерой. План и наказ дам. Верю. Едино ничто мне не остается. Аа??? Завезете Стругацким, Строганам, на реку Кама дары мои – соболей, оружье... должон я им, крепко обязан... дабы порадовались они... да вдруг и своего пороха для наших пищальников подкинут. Я человек не брезгливый; да и они должны понять, что в проигрыше не останутся. Так что у них большой интерес: сдать вас дальше на эстафету до Москвы. Вот только ход в мою «Ледяную» – тут брякать языком не треба. Уловил, Федот? Ты у меня един, кто еще знает тайну Ледяной Пещеры. И вот еще будет этот гусь-недомерок Чейкус...
Сопровождал «посольство» Ермака в Москву, шедшее под «Государево Имя», не Семен, Строганов сыч, а Федот – верный от Камских до Волжских болотин Ермаку лучший друг... последним «козырём» рискнул великий сибирский атаман.
И... проиграл?
... Ермаковское «великое сибирское» посольство шло и плыло из Сибирей чрез Камень-Пояс до Пермь-Строганов... и вдруг-де стоянку бо-ольшую и лихую сделали близ Перми, да и налетели на них тогда лихие пермские небожители.
— Пришли? — зачем-то шёпотом спросил Чекун Федота.
— Почти. Своих казаков посольских ставлю на постой, временный, пусть караулят ермаковские соболиные дары для Строгановых, старшого я призначил – надежный малый... Ну а мы – от Перми до Кунгура, до его ледяных пещер, ну-с-сотню старинных вёрст.
... Смотри, Федор с Чекуном – не «приржавели», не обледенели ли «дары божьи от Ермака» в одной из знаменитых тех ледяных пещер... Ермак повелел проверить... для отходняка ли их САМИХ, грешно остающих тогда в жизни, или –
«Заберете часть. Годится для долгого пути с Камья до Московии... горя в пути знать не будете, лишь не забывайте чеканом и кистенем помахивать в дороге, — напутствовал Ермак своих гонцов. — Верю тебе, Федот...» – а тебе, Чепус, верил Ермак, что «такое» вверил?!
... Дело даже не в мыслях, в действе; идущий опережает дело?
Вот так и делались знаменитая потом – нынче и ранее Российская Империя, сожравшая и слившая в себя десятки народов, наций и национальностей, этносов и малых народностей, возродившись от Камчатки, Сахалина, Аляски и Калифорнии до Польши, Карпат, Крыма и Приднестровья, от Фин-Карелии до Иран-Пустыни... Велика Россия! Но отступать НАМ некуда...
... Ну что? Казаки Федота где-то встали на постой, довольные славно... как псы пред кормушкой, караульте дары персейские (ну уж кто-кто, а казаки знали персов, не единожды их усугубив на караванах).
А в сторону ушли разъезд казаков с Федотом и Чепусом в сторону Кунгура!
«Тпру», — тихо-молча отфыфурился малый казакий. А двое ушли куда у-в-темь...
Темнота – друг тайны? Ну, может, не всегда... когда возвращаешься и знаешь, что и где искать – да, тогда темнота твой дерьмовый и лучший друг.
Но вообще-то, когда ты делаешь серую пакость непобедимую, тебе не помогут ни свет ни заря.
... Извините меня, – разбой-казаки знают...
* * *
Страшно стало Чепусу-Чекану! Когда перед тобой не обязательны русские придурочные сундуки, но когда пред тобой – ...
... ... ... ...
— Видишь? — вдруг прошипел над ухом Чепуса голос верного ермаковца Федота. — Нам хватит этого? И стоит ли идти куда-то, судьбу испытывая, до Москвы? Может...
Страшно стало изгою русскому, казачку Чеп-Чекану...
— А ты что думал, хренов казачок, прилюбыш Ермака... – владеть сим будешь...
— Оно мне, Федот, и не нужно, нетреба...
— Все мы так думаем, оп-пока...
— Так это ж не я «заработал»!
— Все так думают... Ну и получай! Ты последний, кто знает тайны кунгурских ледяных пещер... А Ермаку...
— Что с батькой Ермаком?
— А ты не понял, его приёмыш... Батьке жить не долго... доконает его «хань», пальцы даю на отруб...
... Ну что, гаденыш, приемыш сучий и неведомый, Ермака знаю – а ты кто, не должен ты владеть НАШИМ, не имеешь права...
Они сошлись где-то средь льда Кунгур, старшой и младшой, завершая дело Ермака, его «Ледяную Быль»...
А если честно, то всегда холодом несет от судьбы многих наших российских – да не забудьте братьев Лаптевых, Челюскина, Хабарова, Атласова, Беринга, да?..
... Да не волнуйтесь вы, прошел «посольский» Ермака через Хребёт, не застряв и в Каме, одарив «последних» серебром соболиным... а заодно и златом натурным... вот только откель оно, мало его чтило (опадало) в тех местах, но было оно не весьма скромно – «для Строгановах!»
И посольство Ермака с Богом и при Прицепе пошло «куда надо». Строгановы благословили, Русь должна принять.
Дошел до Иоанна призыв с Сибири, нашел он на него время и глас... но велика Рос-с-с-и-я... пока тянется да достанется...
Пал посол ермаковский пред Великим Государём; остекленевший (и не знающий «быть или не быть»); ждал отрок «Чепас» (так прошел по канцелярии Царя) милость божью российскую, дары пушные и златые преподав Государю нашему Росси, в чем и одобрен был...
И ВОЗВЕЛИЧАВ.
Помощь пошла Ермаку указом царя. Вот только... правильна ли была и своевременна?
Ну и почему бы и нет?
У Великой Руси что, не хватает забот об «окраинах»? А края империативы всегда есть...
Отряд в 300 человек под началом князя С. Д. Болховского «пришёл» на помощь, дабы поставить Сибирь на по-колени... В помощь Ермаку? Чьё тогда казачество мучилось голодом и не-величием порохового запаса... Велико ли страдание (старание) нашего Великого Гос-сударя?!!
Ну-явно: «дошёл» Ермак?
... Вся царская рать, присланная подмочь, вымерла от голода в том самом Кашлыке.
...Всё-то мы знаем, о многом понимаем, стараемся не забывать.
Но профи у нас будут – те же Ермаки и Кучумы. А гляньте-ка, у них и имена историко-музыкальные:
Ермак и Кучум!
Одно из них потом необязательно будет для жизни. Горе – побежденным, зачем нам Кучум... а с Ермаком что делать?
Так вы кто? Потомки Сибири.
С той полуголодной легендой – а Ермаковщина на самом деле чуть голодовала, – для них, казаков Ермака, в ту пору весть пришла вдруг, что господарь изошел для них припасом, огненным боем, сукном, оружием, медовой, ... – в общем, всем тем, чем чёрт приспособит для военного только человека... И никак не иначе; звонкой монеты и серебряных царских «ефимок» не последовало.
А какого... кто ждет... Чудес... на Севере?
А стоит ли ждать. Чудес на Севере. Кто не был там – тот пусть и ожидает. Север чудес не любит, для дурных и экскурсантов; он, вообще-то, сам поможет курс и маршрут вам проложить...
Север – страна. Особо – если ты для него не знаком. Вот и гуляй, чучело, направо и налево, а Иван-русский напрямую – там фарт, судьба, удача, там хрень и спокойно умереть не дадут... Там всё...
Но мне туда не надо?
Голодной рати Ермака уже не было куда сунуться, как куда-нибудь к югу, на юг, откуда чалили восточно-хитрые купцы в эту «степь»...
... Где-то там умирали ратники князя Болховского, в чужом далеком и разрушенном им не нужном Кашлыке...
... Привезли Ермаку не панцири золоченные и не шубу с царского плеча, и не кубок позолоченный...
Вы поняли? – дурь никогда не стояла над Русью... другое – да, быть может...
Ему, дальнему Ермо, отдали, пасынку, – припасом и сукном. Лучше бы порохом и людишками...
Всё-то вы правильно говорите... и правильно! Любо вас слушать, но вот только стоит нашему «россиянину» где-то чухнуться...
Судьба и смерть Ермака нам известны. Мы – сыты. Как и что – знаем историю. Уж-ну-уж, в чем-то мы здесь не промахнемся; не лоханёмся, по-иному... а жаль вас, ученых последышей, историков и мнительно истеричных.
Вы же кто? Ба-а... вы суть земная... и чья же?
Ермак двинулся по Иртышу. И попал в ночное нападение. В ночь на 6 августа 1585 года опять же тот Кучум напал на отряд Ермака и... уничтожил его (!). То случилось на притоке Иртыша р. Вагай. Не спасли и утопили его царские «панцири»? И так ли это было для вечно-стороженных казаков – нежданно? И куда там раненому Ермаку (легенда) переплыть Вагай...
Так всё ж утонул – наш, мой, ваш – Ермак на притоке Иртыша...
Утонул.
Не воскресить героя! Своего и такого; Югра, вогулы и долганы (ханты и манси) потом, быть может, всё ж склонились «за ним»...
(Мы видели ханты и манси наших времен – ну и?..)
Ну вот и всё! Остатки дружины Ермака под командой М. Мещеряка отступили из Кашлыка. Часть отряда Ермака осталась зимовать в Обском городке... Потом его отряд в 90 человек с Иваном Глухим через Урал ушёл на Пермь.
... Хочу сказать, на прощанье, напоследок, дайте слово: что бы делала Русь без великого и безымянного свого Ивана...
* * *
— Здравствуйте.
«Здорово, коль не были!»
— Как почивали, Данило Чекан?
— Прекрасно, господа чекисты.
«Сидишь передо мной, дворянчик... ведь все равно расколю, где твои подпольные чудеса и богатства».
«Ты что-то хотел, чекистный холуй? Расстрелять?»
«Да хоть с-щач...»
«Ан не получается, кусок дерьма! Ведь государству, даже такому, нужны золото и бриллианты... золотой запас России, который про-с-спали, и который вы...»
А вам-то, полковник, что до того? Имеете шанс?
Полковник затих сразу, не горячась.
— Слушайте, — задушевно повел беседу следователь, — если вам – 50, а вы мне то ж, да и на свободу вас...
— Понял вас! — и полковник Данила Чекан врубился в чека-казуистику.
... Зря вы так, полковник... Вы ж не просто бело-герой и царства-идол, вы – «золотой»... Так где сокровища на Среднем Урале?
Где? А вот вам... Не понятно, но здорово! Двести пятьдесят человек – это здорово, собранные под эгидой и зовом бумаги «секретно и важно» – это он тоже здорово... двести пятьдесят «отборных» рыл из казаков, офицеров, кадетов, дутовых, калединых, каппелей – это же сила несдаваемая, и явно непобедимая...
А между Пермью и Кунгуром, зачем-то, есть где-то чуть на юго-восток какие-то древне-ледовые кунгурские пещеры... Ну, ледяные они и ладно, вовек их не видать, красиво и глупо, кому нужны...
Туда шел полковник Чекан.
И здесь почему-то его ждала засада ЧК и ЧОНа.
Все друг друга ждали, «по тем смутным временам...», очень ждали и желали встречи.
Приказ по ЧК и ЧОНу: «Офицеров брать живыми; обратить внимания на полковника, который может быть «иным» – его взять и обязательно живым...
Взять.
Живым.
Доставить в Екатеринбург.
«Задание особой важности. ЧК.
... повторяем – полковника взять живым...»
Да откуда же знал и ведал полковник Данил Чекан про свою сволочную известность высшим карателям, когда его двести пятьдесят...
Бой длился настоящих четыре часа. И обложили батальон Чекана – настоящий полк красноармейцев. Чекан уже успел рехнуться мыслей... Ну-те, на-те...
Кого он отобрал с «согласия А. В. Колчака» в свой спец-батальон для святого дела... Те были бойцы закалены. Кто предал? Знал?.. Но золота без звона не бывает...
Бойцов, тех закаленных под «Георгий» и при Добр-Армии у Каледина, тупых и идейных «дубов», молодых – всё это было стёрто после умной четырехчасовой атаки силами красных! Всё насмарку, всё коту под хвост! Чекан видел «свою Россию» в деле, еще в ту свою Большую Войну: «болота», «прорыв», и было уже понятно...
... А вы знаете... я засмотрелся, в пылу боя... и даже не туда. Поверни морду на три с лишним сотни лет назад! Да на Восток! Вот то от правильно... по-русски!
И не успели охнуть «георгиевские кресты» и унтера из отборного... (тех, кого забирал «для святого дела» полковник Чекан – для совершенно секретного дела).
Извините меня, я – человек военный, не с паркета и не втихаря... знаю многих по окопной 15-го. Брусилова знаю, сильно уважаю – человек! Он на вас ВСЕХ... круто получилось, бог на его стороне...
Слушай, Ермак наш любимый... Недотёпа сибирский. Жизнь взаймы – штука тяжкая; не менее тяжело ожидать боем Кучума и играть с ним в догонялки. Ты это смог, Ермолай Тимофеевич Токмак. «Мы» тебе подскажем немного из курса истории (а её ведь слагают не только отдельные люди, пишущую историю потом, а и люди, живущие ранее). Как русские в XIII веке остановили татар, чем спасли Европу; как сербы в XIV веке остановили турок и спасли Европу... остальное – ВСЁ потом!
Вот и сказке конец. Кто слушал – молодец. Холодной водой и ледяным прошлым закончился Ермак.
Досказать надо, однако. Судьбы Ермака, «малого» его царского посла и Полковника Чекана, – а были они почти ж едины, разны по времени, но крутые, и даже чуть вдаль немного удачливы... было там всё! Кланяемся им почтимо...
На том и стоим.
И стоять у-будем.
Во второй половине XX-го века одного из потомков Чекана неплохо поносило по тогдашнему и великому СССР – дитё Великой Российской Империи. Полковник Чекан, как оказалось, был богом и памятью забытым для своего потомка – и всё же неизвестным и славным прадедом... И даже вероятно знающим Великую Тайну Возрождения их рода – из мрази в князи... И даже более... наверное!
По преданиям имения полковника Чекана числились в Чаусово Зауралья, в Белогорье Черноземья... И вот этого, ЕГО современного потомка, кого «носило» на Урале, в Сибири, в Зауралье, Тобольске и т.д. – наконец, «вынесло» на истор-родину.
Есть такой город – опора и край Державы. И имел «виды» на судьбу «губернского»... – но да видно не судьба... так и остался вместо 700-тысячного облцентра обычным городом – но не местного масштаба... всё ж это – КМА (Криворожская магнитная аномалия). Одним словом – железо, руды, металлургия. Карьеры, заводы, промышленность и производство.
И дернул черт меня податься в горный институт...
Город ждал и требовал горняков и металлургов со всего Союза, был ненасытен в своей «утробе» – горно-обогатительные комбинаты, электро-металлургический комбинат, предприятия по их «обслуге» – все и всё требовало сразу спецов-профи... И город рос, как на дрожжах, превратившись в шестидесятые годы в монстра, утопив в своих недрах новостроек тишь и благодать некогда уездного малого городишка, так знатного на Руси своей историей, реками и малыми делами.
Славный городишко под названием Старый Оскол (не путайте с Новым Осколом, что значит позже) должен гордиться своей историей...
... куда я и прибыл, как представитель Ермака и Чекана...
А зачем?
Все коренные местные жители Старого Оскола любят «до ненависти» любых пришельцев от СССР...
Ну вот и ладно – я такой же, пришелец. Не успев заехать и чуть познакомившись со своей попутчицей в автобусе, я уже узнал (она – с Урала, со Свердловска... любезно – не как в Москве... а как любезно в Ленинграде! Не путайте потом Питер... – как там сейчас – не знаю, дай бог не обломиться! А ведь бывал и видал ту Москву и Ленинград... Но да ладно...)
— Вы что, будете жить в Старом Осколе?
— Буду.
— И вы не местный...
— Вроде как нет...
— Вы знаете эн-тот народ...
— Не знаю... знать не хочу... и наплевать я хотел... – я приехал помимо их желания и буду здесь жить.
— Удачи вам! — и я очень хотел именно этого услышать от своей землячки с-от-Среднего Урала...
Хитер и мудр град Старый Оскол, в черном-благодатном Черноземье.
Городишко древний и хилый, незаметный, от 1593-го... Чуете?
... И если «прыгнем – в Россию», то он один из сорока городов Российской Военной Славы XX!
А всё ж уютный город-град-городишко: речки неплохие, земля и божья благодать...
Живи – не хочу!
Я плохо понимаю Старый Оскол...
Но!..
Но послушаем, что нам шепчет история. По Древнему моему Старому Осколу.
В 1571 году там прошел огненный «пал» во избежание набега крымчан Давлет-Гирея на Москву.
Потом рубили леса и рощи в XVIII веке. В остатнем еще бегает всякое зверье... остался силён класс птиц. И – не забудьте сюда: ястребы, вороны, грачи, соловьи, ласточки, чайки, и в воде живность есть!
В Староосколье есть всё: рудное и нерудное...
В документах 1570 года за два с лишним десятилетия до основания крепости Оскол появляется термин «оскольские казаки». Царские книги показывают нам город-крепость Оскол с 1593 и 1596 года. В 1601 году Оскол уже был в 6 тысяч человек. Далее идет тяжкая история борьбы сторож-Оскола с татарскими набегами. В 1628 году город сгорел. Татары еще давили.
Оскол был тесно связан с казаками Дона; оскольчане участвовали совместно с ними во взятии Азова.
В 50-е годы г. Оскол стал Старым Осколом (XVII век). От Степана Разина город Бог сохранил.
К концу XVII века Ст. Оскол «ужо» не военная крепость; скорее – ямкое (почтовое).
... Позвольте «отступ от времени». Каков уж он есть. Знайте: из Курской губернии выделилась в свое время Белгородская область (Белгород – Белые горы, меловые), как в свое время – в 1943 году из состава Челябинской области выделили (отделив) Курганскую область – шла Великая Война и незачем было Южному Уралу – «опорный край державы; танкоград; металл и недра» – отвлекаться на будущую сельхоз Целину (с 1954 года).
Почему параллель Центра России и Урала? Так ведь и то ясно – один из сейчас живущих потомков дворянства, родовитого со времен Неустоявшейся России, из рода-племени Чикус – отвечает ВАМ! Да, я родился и жил на Урале, странствовал по Сибири... но переехал жить всё же в Центр (ныне Центрально-черноземный регион) и осел в городе Старый Оскол, откуда и возможно был родом маленький бродяга, мой дальний пращур, сирота-беглец, названный в последующем «чей-кус».
Много и хорошо пробродяжничал я по СССР. И судьба занесла меня в Тобольск, где стоит стела для Ермака и был предпоследний приют царского дома Романовых. Тобольский Кремль теперь им друг и волк... и скажите, все ли мы знаем, что Ермак есть Ермолай Токмак на самом деле?! А ведь и под Красноярском есть гора Токмак (скажите, вам встречались такие слова «ухайдокались», «ластик», «вихотка», «шайка» (да не бандитская), «цыпки»...). См. словарь В. Даля!
— Здравствуй, Ермолай Токмак! В моём лице кланяются тебе и твоей суровой судьбе твои потомки... уж какие они ни есть – не хуже и не лучше твоих соратников.
Молчала в ответ сурово тобольская стела Ермака. Молчал и вековой Ермак.
— Уже мне понятно: что не хохол, а уралец – упрямый; хохлы – хитрые, костромские – люди заблудшие или же наоборот вышедшие из глухомани; опять же: поморские – надежен люд, курские – могут и соловьем залиться... побойся и их, – так говаривал один из последних ныне живущих Чикус. Судьба его одно время долго таскала вокруг да около знатного Тобольска, пока он наконец не впёрся в стелу Ермака. На том и стояли – люди Чикус, фамилиёй странные. Бывшие и есть сибиряки, и с Урала, а родом с далекой центрально-лапотной Руси.
— Ну, здравствуй, это я!
... Старый уже стал, последний из благословенного дворянского рода Чикус; его, однако, младший брат обитает в Сибири, старшой доживает ныне на родном Урале... а я вот здесь, на Центральной России, так безвременно рано затих и угас... а за стеною так громко, так отчетливо слышно, будто в бой подымают последних солдат...
Чикусы – воины, прошли все войны – все подряд; знамо и мне, что во все российские войны XX-го – и они там были! Гребли, карали, били всех – англичан, японцев, немцев, австрияков и других – сталкиваясь с ними не раз на полях сражений в разные годы.
... Я вот глажу свои вислоусые усы, на хохлацкий манер (и откуда такая «прибудь» у уральца?) – и всё же не могу отгадать Ермака: ну, ладно – Ермолай, центральная Лапоть, быть может даже казачья, но почему Токмак?
... Я уже говорил – под Красноярском есть гора Токмак... или еще где и что? А причем здесь мы?
... Я залез на ту гору, под Красноярском – на гору Токмак (потом, когда фото-красочные картины вошли в моду, старший братан привёз мне ЕЁ!).
Тогда я еле спустился (еле-еле душа в теле) с горы Токмак, «не сорвался» и висел на волоске – конечно, это не Пик Высоты на Кавказе... Но ведь и я не верхолаз совместно со скалолазом и альпинистом, и даже – не особо моряк.
Просто геолог, бродяга, историк и «und so weiter!» («и так далее», как нас учили в нашем СГИ!)
Но опять же! Ближе к делу! Ближе к телу... народному.
Или инородному?
...Ермак – вторгся? Победил?
Потомки его торжествовали,
Царь приветил героев...
... «Старый Оскол» в составе русских полков воевал в 1677 году против турецко-татарской армии. В конце XVII века участвовал в осаде крепости Очаков и бился с горечью под Азовом.
... Всё далее и круче берет история и уходит от Ермака... и ин – дальше сами... с Богом!
Но всё ж – поможем вам, грядущим! Всего до революции звания Почетного гражданина города Старый Оскол удостоилось шесть горожан. Из военного Ст. Оскол становится промышленно-гражданским, в 1910 году число жителей составляло 8930 человек, в 1913 вместе со слободскими – 26500 жителей (всего!).
Откуда и зачем Чикус – Чикусы порвали свое чужое время...
Так что ж там далее, в Осколе? Любимчик Петра I Меньшиков имел в Оскольском крае обширные земляные наделы – плодородный шикарный чернозём. Во время Северной войны оскольские жители были «работными» на строительных работах в Петербурге, Москве, Воронеже, Кронштадте и др. Жители – русские и украинцы. Умеренный климат. Земледелие, скотоводство, огородничество, пчеловодство. К концу XVIII века росли слободы: Панская, Рыльская, Новоселовская, Холостая, пригородные – Казацкая, Гумны, Стрелецкая, Пушкарская, Ламская, Ездоцкая, Троицкая. В 1780 году утвержден герб города: дань Курску-губернскому и себе – ружьё и соха. В 1784 году, при Екатерине Великой утвержден план города Старый Оскол... в 1795 году возводится новое каменное здание тюрьмы. В начале XIX века работают здесь салотопенные, крупорушенные, пивные заводы.
Старооскольцы вновь приняли участие в боевых действиях – против Наполеоновской Франции.
Во второй половине XIX века на Ст. Оскол обрушились пожары, холера, недород.
Крупных волнений в уезде после отмены крепостного права в 1861 году – не отмечено.
Но опять же, тогда, активизировалась местная перерабатывающая промышленность – кожевенная, маслобойная, канатно-прядильная, кирпичная, местно-сырьевая...
Весть о февральской революции в Петрограде и свержении самодержавия была получена в Старом Осколе 3 марта 1917 года. Осенью 1917 года население Старого Оскола, по данным Курской губчека, увеличилась на 10 тысяч человек из-за притока буржуазных элементов с севера страны.
Подходил вал Гражданской войны. В апреле 1918 года начал формироваться первый партизанский отряд. Вновь Старый Оскол становится приграничным городом. 21 сентября 1919 года Старый Оскол был с боями оставлен частями Красной Армии. Победа под Касторной и дальнейшее наступление Красной Армии в ноябре 1919 года внесли коренной перелом в ход военных действий и стали прологом освобождения Старооскольского края.
В 1920-м создаются новые ячейки комсомола.
В 20-е годы велись с успехом изыскания КМА – Курской магнитной аномалии.
Грядет черед Центрально-Черноземной области, куда войдет Старооскольский округ.
Затем грянула Великая Война для всех жителей Староосколья. 24 октября 41-го наши войска оставили Белгород, в ноябре Курск
С 3 июля 1942 по 5 февраля 1943 года территория города Ст. Оскол и район находились в зоне оккупации.
После тяжкой войны Старый Оскол становится металлургическим центром.
...Вспомним кое-что из летописи старого-престарого Оскола: в 1606 году убит оскольскими и служивыми людьми воевода Бутурлин... в 1635-37-38 гг. правили новые Бутурлины... в 1666-1667 гг. Кирилл Петрович Чаплыгин... в 1754-58 гг. воевода Чаадаев и многие многие другие!
Сколько же и когда жило в Ст. Осколе?!
Есть данные:
1601 год – 6308 жителей.
1710 год – 11611 жителей.
1797 год – 10242 жителей.
1861 год – 17566 жителей.
1913 год – 26500 жителей.
1926 год – 29190 жителей.
1948 год – 10639 жителей.
1963 год – 31000 жителей.
1966 год – 47000 жителей.
1975 год – 71000 жителей.
1979 год – 117000 жителей.
1982 год – 137000 жителей.
1989 год – 178000 жителей.
Ко мне есть вопросы от Комитета Гос-Безопасности СССР? От Ермаковских потомков Великой Российской Империи их нет. Ибо если не я – то кто? Прорвемся; погрузимся...
... Неужели я не пойму своего золото-полковника и его хитромудрую библиотеку зауральского имения... Да быть того не может...
Ермака я сильно уважаю.
Откачка
Вообще-то «откачка» при инженерной геологии имеет огромное и всеобъемлющее значение. Огромный труд и напряжение эта откачка. Вот, хотел начать с «нуля», получилось от середины.
Бурим. Скважины. Глубокие. По створам и сетке для того, чтобы иметь общую гидрокартину (гидро в переводе – «вода», наша H2O, куда и упирается презренная жизнь человека и его водные изыскания).
Рвем дальше. Насколько мы «испоганим Земли природу»... Бурим, делаем так «гордо называемые» изыскания в местах порой труднодоступных, плохих и тяжких. Там, куда лайка лапу свою не совала!
Мы с буровым заданием, плохо ли, хорошо, по графику своему – «по северному» – справились. Впереди грозной тучей висела «откачка» - пуп земли работы нашей. Начальник партии серел от злобы (ни за что! – ходили на цырлах и мерзли по морозам ни за что, да и водку зазря не успевали жрать); ведущий геолог партии, здоровенно-рыжий, чуть ли не заикается (а ему отсюда – прямая карьера в «ту – или не в ту – степь»); на верхах, чуть ли не в Москве, при... этом самом... ждут подтверждения мудрой политики партии и правительства (делом и цифрами). Как тут не вздрогнешь!..
Откачка эта запала в самый центр будущего гиганта, покруче БАМа. А с тем и аминь... покатились божьи дары в снабжении, усилился и спрос. Вокруг работали и другие экспедиции: Московская, Тобольская, Томская, Челябинская, но уперлось на данный этап в нас – КИИГЭ...
Но да не в первый раз! Съев божью тушенку, крикнул орлам: «Не боись! Деньги будут! Пахать надо трижды! А ну все спать, хватит кости грызть и чеснок жрать... не наигрались еще в карты в двенадцать ночи (их прибытие – под 23:00)... р-р-р».
Сидят в закутке этой северной мазы, огромной по площади, срубленной поселенцами из лиственницы в 20-х годах, и высотой – голову обобьешь, но зато тепло при доме будет, – двое: начальник партии и его ведущий геолог... друг друга стоят: рыжий и рослый молодь-геолог (сюда поставлял своих спецов Пермский Университет) и не менее рослый, полуседой не при своих годах начпартии.
— Всё? Обрешили?
Время идет, второй час ночи. В пять утра вставать начальнику партии и делать страшный подъем страшно невыспавшихся буровиков. В дело идет все: включение резкое света, «метательные» сапоги и мат, интеллигентное брюзжание геологов, разъяснение международной обстановки, пинки и рёв геологического «стада». Все средства хороши!.. – когда на Севере где-то под Ханты-Мансийском будет потом плыть день, или вдруг в иное время поплывет на небе незабываемое «северное лохматое и искрящее кривое полотенце-разноцветье»!
Геологу тоже надо рано вставать. Сворачиваемся. Водку за день прошедший пить «не бум», некогда уже, а за день грядущий – и тем более некогда!
Спим, дремаем, изворачиваемся два часа!
Пошла откачка!
Надо беспрерывную двухсуточную откачку из скважины. Это при всё усиливающемся минусе: утром, накануне сражения, уже стояло за тридцать... Это семечки: для одноразового хождения; тьфу для охотника в его заимке; и бояться не стоит при избе в северном поселке и не ходя звериными тропами.
Но у нас...
Начальник партии выбирал матерых, ведущий одобрил – ему же стоять там! Пробились заранее сквозь непогоды – приволокли на скважину старенький и надежный компрессор ДК-9 (а и других-то нет!), завезли солярку в бочке-ёмкости (а она вдруг не попрёт зимой, соляра летняя, не справится, паскуда?).
Зачали! Ведущий каждый час отмечает уровень грунтовых вод в скважине-отсосе, рисует компрессионную свою хитрую гиперболу-воронку... Всё идет на ять! Он там воюет, в дебрях под минус сорок, а начальник партии «домом» управляется.
И снова пить некогда! Даже свои фронтовые сто грамм. Прибывающие со скважин буровые и их бригады с чернотой северного Севера, здоровающиеся и пухлые от мороза, успевшие запастись H2O 40° Менделеев (откуда у них? И когда? Сам-то не успеваю в поселковом древнем магазине... А они, оказывается, все «ходы» с утра и под ночь знают).
Переругиваются, смеются, жарят картошку, вламываются в мой «закуток», побив под низкой притолокой свои упрямые лбы: «Шеф, знаешь, сколько мы сегодня?!»
Водки выпили? Или метров пробурили? Знаю! И знаю, почему живы остались и здравствуете до сего часа... вам бы там сдохнуть на морозе с похмелья или от новой водки, но вот я вам всем не дал – а кому чай, кому зуботычину, приближенным своим – и по чарке, из их же запасов. Посему вечером и тянутся до меня: я им щедрой рукой выставляю свои трофеи (и когда сумели укупить?); куда ж их, ими кровно заработанное и завоеванное, сожрут... Ну, они мне – картошку жареную, с пылу и с жару (такую только на севере оценишь), я им – их же водку... все довольны, зубами клацают, смеются, докладывают: «Чиф! А мы...» И льется водка, шумных дураков здесь не понимают, тем более шеф у них – молчун. Всем наливают, от души, кому надо и не надо, уже не оценивая грань рубля «брежневского», но зная заранее, что Чиф их будет поутрене, так же снова лют как Зверь.
Начальник партии поднял втихую водителя («недреманного» – нет у того дремы и графика... и нажраться даже некогда!) вездехода, и они тихо укатили на «откачку». Ибо душа не будет спокойна, пока идет откачка. Впрочем, конечно, там сидел его ведущий! И это было его, начпартии, успокаивающим козырем: Сергей там, значит должно быть все в ажуре, для того его и учили и за то он деньги угребает. Но выше его, ведущего своего геолога партии, и даже его самого – начальника северной партии, стояло неосознанное и труднообъяснимое понятие «Его Величества Случая»... а он таков... и они друг другу не доверяли.
Вездеход, пропетляв по темноте километры снегов, приглох перед «откачкой». На начальника партии глянули серые и дохлые лица его людей.
— Погиб кто? — с тоской спросил Чиф.
— Да! — обмороженная физиономия ведущего, сизая с просинью, не вызывала симпатий; у молодого парня изморозь забила виски под седину.
— Кто? — в своей жизни где-то давно начальник партии уже имел счастье отгрести это лихо.
— Сдох компрессор. А соответственно, всё коту под хвост.
— Давно, Сергей?
— Десять минут назад.
— Борисов! — повернул упрямую голову начальник партии к машинисту компрессора. — Ты же уверял нас, что знаешь этого зверя – ДК-9М?!
Над сизой и хладной полутайгой-полудерьмом, – знаете, «лес» такой есть при многочисленных протоках под Хантами – тишина... Есть, конечно, и что-то другое в тех краях: синие кедры под минус пятьдесят, да и другие деревья не в новинку!.. И снега, снега, снега, блещущие в глаза неотвратимостью и куриной слепотой. Но курослеп – это днем, а сейчас стояли северные белые ночи.
— Значит, сдох?
— Солярка-то летняя, — обмороженные сизые пальцы Борисова как-то странно прыгали. Пьян, скотина?! Или всё же соляра загубила дело?
— Спали? — угрюмо прозвучал вопрос.
А в ответ тишина. Борисов вроде свое дело знал, а ведущий за оргвопросы ответственности не нес.
— Скачайте часть солярки из вездехода. Ну, живо! Он последний раз заправлялся в Хантах – там не дерьмо летнее! Живо, ну, живо! Борисов и все остальные! Не дайте запороть откачку!
Ну! Живо!
Зачихал, ожил компрессор. За минус сорок, но и лица оживились серым туманом.
— Давай, Борисов! Давай!
Истошным голосом кричал водитель вездехода: «А мы? А если... А вдруг...»
Да, если мы не добредем до хаты, будет нам хана...
— Поехали, — пхнул я своего водителя. — Время – деньги. Сейчас подошлю к вам, Сергей, буровую машину, Пашка будет в подмогу Борисову. Вы должны тогда прорваться – соляра «приличная», да и Павел попробует дать «ума» компрессору, есть у него такой божий талант! Крепись, Сергей... не подводи! Пришлю горячее, пожрать и выжить!
— Пшли! Выходной вездеход...
— С вами тут будешь при выходных. Днем ли, ночью... вечно аварии и...
— Что с солярой у тебя?
— Не рви, шеф! Я не я... Держись, знаю, где по тропе, а где и напрямую.
Укачивало и уваливало начальника партии, но он разрешил себе это безобразие – дремануть минуты. За полкилометра до цели вездеход «сдох» (на безрыбье). Тяжело изгромоздясь из бокового люка-входа, начальник партии свалился под снег и тяжелой походкой в грузных унтах зарысил в своё светлое будущее.
— Буровая! Павел! Один! На откачку! Срочно! Там объяснят! Надолго! Паёк! Дать тепло.
И будто казарма проснулась под команду: «Аврал! Подъем!». Выскочило несколько человек заводить в северной сини машину Павла; ему тащили его тряпки и обще-лапотные меховушки, вышвырнули до кучи табак, консервы...
— Всё поутру. Рассчитаюсь со всеми! — рычал начальник партии. — Сделайте ему запас соляры от других на полную катушку! Пошел!
И он, Павел, на своей буровой, ушел. В одиночку. Хотя на буровой ЗИЛ-131 полагается экипаж в два человека. Так он дойдет? В ночь? За минус сорок? До этой окаянной откачки?
Ванька, его напарник, скрежетал зубами: «Почему один? А где я?.. И где наши деньги без моего пом-бура? Да и буровой не стало».
Ушла северная синь утром. Расцвела природа утренним снегом. Ушли и уехали «партия» на точки и по делам, а начальник партии в унтах и не раздеваясь скрючился на своей дежурной лежанке. Развернулось и сдохло в белом небе северное сияние, догорая в утро!
Облегчилась наша база, ушли «туда» буровые и геологи. Чисть и пустота... Не оттого ли вскинулся начальник партии, что, продремав едва лишь пару часов, почувствовал страшную пустоту: что, где и как неладно? Спохватился жестко и, может быть, уже зазря – поезд-то уже ушел...
И на него таращился лишь чуть припоздавший тракторист, готовый везти свою бочку-ёмкость к указанной ему буровой.
— Савельев! Ты что тут делаешь?
— Приказ ведущего (...геолога)! Пока не отдремаешься, мне в маршрут – ни-ни. Жду, Чиф, вашей команды!
— Савелий! Анатольевич! Ну надо ли ждать балбесной команды?
— Как скажете!
— Анатолий, ты же старше меня в полтора раза и ровно в два раза понимаете лучше, что такое «буровая без воды»???
— Да, шеф! У-понял. Но ты был такой труп... все остальные разбежались по делам... а меня вот чуть для надобности... иль без надобности?.. Чуть подтормознули...
— Какие будут приказания?! — вдруг гаркнул мой Савельев-тракторист. Их у меня сейчас в партии двое: он и Борисов.
Должен ли был проснуться заспанный начальник партии в седьмом часу (утро или вечер?) по северному раскладу?
— Шеф, чаю?
— А пошел ты...
— А может сто грамм северных, а?
— Что с откачки?
— Докладывают, что при рыле.
— Это как?
— А вот так, чудак! Не думай, что ты здесь незаменим. Уже всё прет!
Начальник партии с ненавистью и благодарностью – очнулся сам ли? – смотрел на своего уважаемого тракториста.
— Толя! Могу и пасть порвать.
— Чиф, спасли мы откачку, радуйся.
— Что ты орешь, скотина! Я что, глухой?
— Да ты не глухой, ты был слепым от снегов полсуток...
Глаза болели, серые тени ходили рядом... Откуда это мне и зачем?
— Толя, а чаю?
— А мне водки можно, шеф, в честь моего полувыходного?
— Лакай, Анатолий! Но будь на стреме.
— Будь то только сказано! Вам не требуется для вашей горемычной?
— Да пошел ты! Заводись и будь готов до буровой... Жди указание.
И снова небытие – черное и злое, казалось, что провалился туда на сутки.
Он открыл глаза и взглянул на часы, которые не снимал «в походах и в поле» неделями – прошло двадцать минут. Савельев рядом упоенно пил водку и закусывал луком... Лучшее от цинги. В приземленной лиственничной избе, срубленной на северный манер, страшно пахло (воняло?) стариной 30-х, сталинскими ссыльными хохлами, вонючими портянками, луком, тухлой рыбой, застоявшимся дерьмом и временем, сильным морозом на пробой, чесноком, шкурами и привидениями.
И вдруг ему стало дурно. Начальнику партии. Блевать, конечно, не потянуло... давно «нутро» отбили... Но почему припомнилось: когда рвет по молодости от дурной водки... когда рвёт от чужой крови... когда дурно от трупов тех людей, которых так недавно знал...
— Ну ты, Анатолий... есть что у тебя?
— А как же, шеф! Кстати, к тебе тут одна дамочка прорывается.
Кто, зачем и почему?
Кому я такой требуюсь? Ведь у меня дела – бурение, откачка, геологосъемка.
Кстати... откуда «это чудо» в наших диких краях? «Савельев, я проснулся?»
— Вполне, шеф. Чай попил. Но водки даже и не попробовал. А ведь «она» и на самом деле ждет... вашей, шеф, аудиенции!
Оказывается, знал я ее – эту шикарную блондинку «вся при себе». Вот только глянула она на меня потерянно.
«У меня время – деньги», — вздохнул я.
— Ну и что???
И тут я окончательно вспомнил... Припомнил то бишь: как-то по «вольности» ходили в Ханты на вездеходе зачуханные наши задницы парить в бане и потом жрать под эту дудочку ящиками пиво...
Все мы не железные.
Да и хотя бы раз в полмесяца почувствовать себя не сволочью за рубль (я давал своим «орлам» такое право: выгружая после бани из вездехода «их» и с омерзением смотря, как десятки бутылок катаются по днищу нашего вездехода-амфибии... Ну и что?). Какое ВАМ дело до нас до ВСЕХ, а... вам до меня...
Тот помбур тогда сказал мне после бани: «Командир, я не уеду. Дай мне шанс. Моего бура попроси, Ваньку, он поймет, что буду к концу дня...»
Начинался новый сумеречный день. И нет от него пощады.
— Иван... Константинович! Нет у тебя на сегодня помбура. До вечера. Ты как?
Приземистый, руками сломает подкову, и на русского не похож – только именем и фамилией, полуседой (в его-то годы!), Иван философски сказал (отметил? Заключил?):
— Быть посему. Ухотелось Павлу продать честь из-за бабы... Так тому и быть! Ужо потом пасть порву! Да и не отвертится от нас с тобой, шеф, эта лярва!
— Ты про Павла, своего помбура?
— Про него, про него, лярву! Загубил день... Нам он боком взлезет.
— Иван!
— А что «Иван»? Тридцати нет, а уже дочка малая видит, что у папы волосы не те! Я же черный! Был когда-то...
... Та история ушла в небытие, и когда народ бился в «банно-прачечном» комбинате, Павел затащил нас с Иваном к своей блондинке... Все было – водка, закусон, разговоры, вот только не было у «бедных» изыскателей счастья – одни ушли, а у Павла «всё» осталось.
Слава богу, слава нам: Ванька – мой – Пашкин был, как я надеюсь, уже на «точке», на очередной северной скважине, и творил в одиночку чудеса, вместе с геологом – такое и у нас случается... чудеса! Правда, редко и замедленно, но зато зверски...
— А я вас знаю. А я к вам.
Ко мне «Пашкина блондинка»?.. Вот этой-то головной боли мне и не хватало. Вспомнил, вспомнил, вспомнил!
А зачем?
Мне лишние проблемы? У меня и так здесь не прёт, дурная откачка, и вот ты здесь, полутень...
Заткнись, невыспавшаяся скотина... человек к тебе?!
Ну а я-то здесь при чем?
Они мне и напомнились – в мой горячий и бредовый ум: все эти Борисовы, Савельевы, Паши, Иваны, начальники свыше, откачка и эти романтики из Перми (мой ведущий, хоть и из Перми, не в счет, не лимитирован). Страшно, аж жуть...
Я «проснулся», напоил ее чаем, допросил «кой ее черт», на что получил ответ, что «Метеором» по реке...
Сижу, балдею, не понимаю, что от меня надо этой шикарной блондинке в наших дебрях. Трахнуться-то... – так и ехать далеко не надо. Рядом со мной таращится тракторист, готовый к бою, и уже «давно понявший»...
— Пошел вон... Заводи коня... — он ушел.
Мы – двое.
— ...Я вам все скажу, только помогите.
— Помогу!
— ... Мне надо увидать моего Павла, я выхожу замуж, он знает!
— Сделаем. Что от меня?
— Где он?
— Сажу на «тачку» - и с богом! К чертовой матери...
И они уехали на тракторе. И накрылись мои скважины и будущие деньги Ивана-буровика, и еще многое то, что называется в жизни одним емким словом по-русски.
... Завидую и горжусь русским языком; не я один – со мною вместе клятвоотступник граф Лев Николаевич Толстой... Это он сказал... почему-то, зачем-то и для чего-то (по крайней мере, ему приписывается): «Не та страшна баба, которая держится за х.., бойся ту, которая лезет в душу...» (если что-то не дословно, прошу извинить; что-то не ясно? Повторить?)
Я рвал «скважины» и полевые изыскания, мой ведущий порвал «откачку», сидит, балдеет, разогнав и так и не собрав воедино всех в кучу.
— С «точки» всех убрали?
— Шеф, а мне это надо? Тряси сам свои механизмы с «откачки».
Логично, мне нравится ход его мыслей.
— Ну а еще что, Сергей?
— А еще я устал как бездомная собака! И спать хочу, Чиф, мертвецким боем...
— Ты мне вот что ответь, геология мудрая – всё поперло?
— Да лучше некуда!
— Водку пить бум? Все в разгоне.
— Да не хочу я, Чиф, мне бы...
— Ну, получай в зубы свою гитару из твоего пыльного угла, и да чтобы она спела нам...
Забулькала водка, но ведущий геолог партии в своих провонявших унтах (а кстати, они на морозе за двое суток и не должны провонять – воняют только их внутренности) уже спал и не ведал земных радостей.
— Как там дизелист и Павел, подмогли друг другу?
И завис сей вопрос в пустоте, и отвечать было некому.
— Ну, скотина, — ругнулся начальник партии, — и поговорить не с кем.
... Откачка закончилась, и техника перла назад до дому – до хаты; люди падали, ели и спали, но при этом витал дух победы.
Последним припозднился Павел, затем снова почему-то пропал ненадолго... Иван, его буровой мастер, зубами уже не скрежетал, пахал под придурка-«одиночку»: медленно, но верно, при помощи геолога...
Всё просто, оказывается, в этом мире: женщинам надо и требуется выйти замуж (это мужикам... дерьму самостоятельному, сунул-вынул и пошел; пропил-заложил и на продавщицу глухого северного поселка навесился...)
А ведь встречается иногда в этом поганом – пусть даже нашем – мире «прекрасные истории», которые и совсем никому не требуются.
Павел женат. А она выходила замуж за своего созревшего бизнесмена в Хантах, что разворачивал деятельность в районе Самарино.
Ну, вот и всё. Конечно, более они не свиделись. Не судьба. Тысяча км и годы, без права на... И пропоет им наш незабвенный Муслим Магомаев: «Ах, эта свадьба пела и плясала, и крылья эту свадьбу вдаль несли, вчера на этой свадьбе было места мало...»
Ах да, забыл я вам, неблагодарным, сказать – имею право, уже тогда косил под полуседого и многоуважаемого шефа.
И что?
Правильно поняли!
... Походя буркнул мне Павел: «Спасибо», и Иван, его буровой, что-то пробурчал. Не понял я их «ходов», хоть и неплохо переставляю шашки. Купил пару «водяры» в своем сельмаге (уж мне ли не дадут?); сижу и жду у моря погоды.
Идут.
А знаете, что я вам скажу напоследок для блезира, а вот что: если бы я то, что знаю про «своих», вылил бы в их семьи... – представляете?
А если про меня?
Поэтому я сейчас здесь, полуседой в свои 34, мудрый под 60... сижу и жду своих седых 30-летних буровиков и знаю:
Они мне «спасибо» скажут. Уже неплохо. Ну... идут!
До встречи. До свидания.
С Днем Рождения
Пролог
Черные снега Вогулов
— Что это такое, а?
В ответ он сдвинул свой малахай на голове, медленно отмахнулся.
— А? Это? Аэродром. Наш, доморощенный. Я доступно объясняю?
Да, логично: длинная снежная поляна среди могучего северного леса, дежурные посадочные «чулки», зачищенный снежный профиль взлетной полосы, окаймленные рублеными елками, и искрящий ослепительный до белизны и рези в глазах снег.
Это правда, это – наш северный доморощенный аэропорт в далекой Югре.
Они прошлись по снежному насту, пнули подобно водителям елки и деревья, пощупали сигнальные шесты, матюгнулись.
— Ждать сколько?
— Прилет в десять.
— Наши успеют?
— Улететь захотят – успеют, команда им дана, транспорт есть.
— Не опоздают?
— Не-е-е... А впрочем...
А впрочем шел декабрь, тридцать первое число месяца, нас должны забрать отсюда и доставить туда, на Большую Землю.
Так нас заберут? Вовремя? Мы успеем встретить свой Новый год в кругу семей? За нашими плечами на этом искристом снеге сорок человеческих судеб, которые ждут, надеются и верят...
Издалека, громко и шумно, нарастал звук подходящего каравана экспедиции: скрип саней, хруст снега, клич погонщиков, рев снегоходов, вскрики и ругань (Что, не хватало только хрюканья южных верблюдов?).
Всё перемешалось: люди в унтах, кони, техника, трактора.
Начальник партии был на «высоте»:
— Сани сюда, трактора в загон, в поселок на хранение, груз на снег, до кучи в начале посадочной полосы; на взлет не вылазить... куда, индюк, прешь, бестолочь полупьяная, это тебе не тротуар; сани – домой, расчет с вами уже был... оботрите своих лошадок, не загоните их в дугу; выгружать, выгружать, не роняй, торопись, ребята, не спеши и не бей, кучнее, круче, быстрее, время не ждет, чуете рев над головой – то наши «лапти» идут на посадку, а? Да? Нет? Пшёл вон из-под ног.
Над головой навис рев самолета. Он дал круг, словно оценивая свои шансы на успех, и пошел на посадку. Пороша, легчайший снег, рев, круговерть в воздухе... АН-2 на лыжах ушел по снегу вдаль, отрулил в сторону; снова заревело в тридцатиградусном воздухе вторым самолетом, круто и четко заходящим на посадку.
Всё просто, оказывается, в этом мире. Четыре часа полета с пьяно-шампанским приставанием этих диких геологов к летчикам, и потом – полуобщая пьянка...
Не было стюардесс и объявлений о температуре за бортом. Были люди гуртом и их «труды» штабелем в тесном и неуютном самолете. Холодновато; впрочем, для унтов, валенок и летных курток присутствующих сие было ничто и глупо, ибо люди страшно радовались возвращению в их «туда».
И эту «полупьяную геолого-изыскательскую банду» ждал чуть ли не под крылом их АН-2 в аэропорту Зауральского областного центра зачуханный автобусик и грузовая автомашина, куда кое-как сгрузилась со свистом и песнями лихая геологическая рать.
Мы дома! И время... – до Нового года – полтора часа до 1986-го.
Плутал автобус по городу, развозя грузы, людей, геологов, буровиков, изыскателей, трактористов и прочих по огромному областному городу; сгружались грузы; люди шумно-дохло-скабрезно-уныло-у́шло тоже сгружались с «трапа»... Он, начальник партии, шел последним.
... Счет пошел до нового 1986-го на минуты.
Ровно без десяти двенадцать ночи он позвонил в родную дверь. Без девяти шагнул в нее. Без восьми швырнул у порога рюкзак. Без семи обнялся с женой и дочерью. В без шести минут двенадцать обозрел праздничный шикарный новогодний стол с его свечами, гостями и шампанским – остался доволен.
Дочь висела кулем на правом рукаве его меховой куртки, жена рвала молнию «меховушки», вокруг прыгали восторженно уже полупьяные гости и его кореша...
... А он еще плавал в своем далеком снежном восемьдесят пятом году...
В телевизоре вылез представлять советский народ Первый. Заговорил. Уже наливали шампанское в бокалы. С его унтов начинал таять снег...
* * *
С днем рождения! Спасибо, конечно, за святые слова. И вам так же!
Передо мною лежит поздравление «моё – ко мне» – с 35-летием. Давно это было... и уже, наверное, неправда.
В красочную открытку с цветочками навеки запаяна мое фото – элегантного человека, при галстуке и при параде, коим, впрочем, тогда я и был. Еще не седой и полон сил. Это красивое поздравление мне вручали дочь и жена, от чистого сердца слепив «горбатого поэта»:
Поздравляем с 35-летием.
Кристальной жизни
Незачем желать,
И в ясный день случается ненастье,
Желаем просто всяческих удач
И просто человеческого счастья.
(жена, дочь, дата)
Вот только по странности судьбы эта ангельская этикетка весьма опоздала. Свое 35-летие я почему-то встречал далеко – вдалеке от жены и дочери на диком берегу Иртыша под Тобольском в звании начальник бывшей северной партии...
Все пройдет... Лишь о том, что все пройдет – вспоминать не надо. Вот и прошли годы – уже моей дочери будет тридцать пять.
Однако неплохо... вроде как и успевал «дом-дерево-сын»... может, что-то не так?.. Но все равно доволен!
Между мной и дочерью – ровно четверть века. Между мной и моим отцом – ровно четверть века (но я у него третий или даже четвертый...). Ну и как? Приступим.
Год 35-ый для дочери.
Для меня тридцать пять – в тех далеких дебрях 1986 года, когда загремел Чернобыль и прикрыли наш Большой Канал. Вот оттуда и спляшем. Северная эпопея закрыта, остается блеф и нищета.
Что такое мое 35-летие?
Тем более я не успел его встретить при доме.
Не встретил командир «свои года дома» – да и не надо, нет на то большой и превеликой горести... какие наши годы? «...всё впереди у нас с тобой...»
Может радость, а может грусть,
Ты откликнись – я отзовусь.
Я сейчас пью как лошадь – слава богу, не теряю ситуацию, зная, чем занять себя и заняться в дело и к месту; курю, как лошадь, сколько я таких «лошадей» похоронил при моих-то простуженных и ледяных легких, да еще искурив в свое время «Беломор», «Аврору», «Приму», махру... Это сейчас балдею от сигарет с фильтром, порою и иногда позволяя себе «суперфильтр» типа английского, турецкого и американское дерьмо, которое быстро сгорает и не успеваешь накуриться и хватануть в своей голове табачного тумана... то ли дело полусырой и крепкий до гадости наш «Беломорканал», на который, зверея, изводишь коробок спичек – в противовес шел ему дорогой «Пэлл-Мэлл». В марках «Беломора» наш народ «разбирался»: Сухуми и Батуми – пыль на ветру и труха; Алма-Ата – славная папироса; Свердловск – недоделанный; Челябинская табачная – умеет делать! «Шахтер» украинский – прекрасно, так и любуешься на этикеточную стахановскую морду на пачке; московский «Беломор» – полуфабрикат; а вот Ленинград, фабрика Урицкого, ему по Союзу первое папиросное место! Понятно?
Но откуда тогда выплывают из памяти сороковые и пятидесятые, трогая чуть и позже года... вспомните «Звезду», «Махорочные», Прибой, Север, Волна... Казбек, Герцеговина Флор, Три Богатыря при толковых коробках; вспомните, табак и гильзы и фасовочно-забойные шприцы. Про те «далекие» и разные сигареты уж и не говорю... вспоминать ту красоту и лёгко-пакость и не хочется... всякие там дорогие и редкие именные-союзные – столичные, болгарские, союза ССР и пр-р-р и дыр-р-р... А, впрочем, песня не о них. Это так, отвлекся, увело в сторону, шаг влево, шаг вправо и считается...
Отец мой, было дело, пробовал сигареты фатерлянда: «Гадость какая, эрзац, трава сухая, у нас бы и коровы наши жрать ее не стали». Дядька мой после своей японской эпопеи долго курил «от япошат подарки», потом плюнул и закурил «Прибой»; показывая нам пачку «Севера», спрашивал «а где оно, солнце? Не взошло еще, пока за сопками», засмаливая свою тридцатую по счету крутую папиросу и с тоской слушая «Маньчжурские сопки».
«Ну а тебе, мой дорогой сын и мой племянник, — говорили мне мои умудренные старики образца 26-го и 27-го годов, — тебе ль печалиться?»
А «печалиться», оказывается, уже было надо и пора, только мы этого пока не знали, не смогли и не успели предугадать – Великий Перестройщик уже нес крушение винограду и табаку. Ну да и бог с ним – большому кораблю дурное плавание! Тоже мне (нам), Титан нашелся... где воду греют!
А впрочем речь-то не о том; и даже не о мартовских котах. «Может, мы и сбились с верного курса», – как сказал мой дядька-мореход и забренчал медалями... Это мои орлы-старики напробовались «казенного сургуча» девятого мая, когда тот еще не был красной датой.
«Тебе-то жить еще и жить», — известили они меня и, залив водку в глотку, смачно захрустели чем бог послал. Не были они циниками, а скорее были прошлыми забытыми героями (... это сейчас и потом о них запели «Этот день победы порохом пропах», а тогда жалобно и скучно пели в вагонах электричек безногие военные инвалиды и шмыгали странные личности тех времен и народов).
А сколько лет я спорил с судьбой... Судьба-индейка, судьба-злодейка. Но так ли уж мы верим по молодости в судьбу? Откуда-то и зачем (почему-то ли?) я вдруг узнаю через брошенные слова матери, отголоском дошедшие через года, типа «как ты меня, сын, достал». Чем не угодил тощий послевоенный ребенок своей послевоенной матери моего отца-героя без ноги, взяв в жены одну из тех, кто оставался бы потом после «мясорубки» никем? Ну, один, ну два... но сколько ж можно, повторял неутомимый Суворов. Мой отец, которого она выбрала, всего перераненного после его фронтов, был, стал и есть один из них: «Если не я, то кто?!» Моя маман уже не вытерпела (почему-то) его «домоганий».
Вернулся пацан с фронта, с 17 лет в военных лагерях, с 18-ти на фронте, из спец-войск, весь «бренчит»...
Так померла моя сестра Юлия, и так потом, нелюбимый, появился я, второй сын (третьего она залюбила выше крыши); (уважала меня, «крысу» «до-от-порога»... И я чуял ту «мою крысью породу»... как жить?)
Отец ее остановил, жестко и зло... они не поняли друг друга, но с тех пор «ее равнодушие» переросло в «ее злость и дурман».
Отец всегда страшно любил ее, мою мать, она этим пользовалась (а и в те годы – что еще?)... они были прекрасными людьми, мужем и женой... одноногий разведчик с войны и прекрасная нищая полубашкирка... они потом долго добивались своей судьбы, дабы четверым своим детям дать техникумы и институты. Она его одевала, кормила, тряслась над своей судьбой, но он же видел судьбу дальше.
Дочь – при «здесь», сыны заматерели и подались гуртом в Сибирь. А он любил их всех, особо любил сына среднего, у которого часто менялись адреса, тащил из «прорвы» младшего, спасал своего старшего от напастей северных... Но дочь, самостоятельная и верная, была всегда при нем... потом много воды утекло и всякое было, да и жизнь его, старика, встретившего 60-летие Победы, ушла потом в никуда.
Грустно. И некому руку пожать. Любил меня старик, не взирая на ранги. Помню, очки на нос – дальнозоркость по старости... Стрелял в войну снайпером против солнца – и!.. Всех потянул!
Вот только мельчает племя.
Я здорово не задумывался, «кто я и зачем в этом мире». Но, видно, и время мое царское и грубое пришло. В свои 19–20 я понял, что родился я не тогда, когда был записан в своих паспортах, а намного раньше... и почему мы, дети отца, идем погодками через два года, а между моим братом старшим и мною огромная разница в целых два года и восемь месяцев. Значит, стояла моя сестра Юля... и не так ли я назван?.. Маман всегда боялась отголосков войны: записала старшего сына вместо 17-го декабря на 1-е января – чтобы, не дай бог, не «загремел» на год раньше; да и меня почему-то на неделю позже, хотя... (сельсовет далеко, остальное все ближе: повези малыша регистрировать в далекий сельсовет под волчий вой).
Вот так я и «народился» 25-го июля и зрю эту дату.
Впервые я понял, что родился именно 25-го июля, а не неделю спустя. Когда я полюбил – и это мое горе и несчастье... Несчастье мое и «счастье» родилось 20-го июля... и я перекроил свою жизнь ровно на неделю.
Так надо. Так хочу. Так будет. И это доказано. Не жалею, не зову, не плачу.
И понял я, что 25-е июля – это мое, это моя козырная дата и карта в моей жизни. Мне «повезло»: жена – с 5-го июля, всё прочее – с 20-го июля, а я сам не раньше и не позже как от 25-го июля. И первый, свой настоящий, уже никому не нужный и только мне мой день рождения (ибо, оказывается, от своего берега-то я уплыл, а к чужому-то пока не успел по своей молодости лет пристать), я встречал на далеком Балхаше. Мне – двадцать, в лицо бьет упругий ветер степей, впереди и рядом раздолье, ковыль, шуршит перекати-поле. Потом 25-е июля в свой «двадцать один» я встречал на молибденовых рудах в Хакасии; в двадцать два заполучил автомат в руки на военных сборах после института где-то в Свердловской области; в 23 я был на Сахалине в командировке, куда с Востока упирается в остров Охотское море; в 24 года я стал главным инженером щебзавода на Алтае.
И покатились года, дни рождения, юбилеи и им подобное, сродни «мои года – моё богатство». В душе и по радио гремели годы и музыка тех далеких и твердо шагающих лет:
«... здесь у нас туманы и дожди...»;
«.. под крышу дома своего...»;
«... а снег кружится и тает, и поземкою клубя...»;
«... а лучше гор могут быть только горы...»;
«... есть только миг между прошлым и будущим...»;
«... под крылом самолета о чем-то поет...»;
«... а я ни в чем не виноват...»
Прошли за бортом моего самолета времени Красноярск, Сахалин, Алтай, Урал и Зауралье, Вторая экспедиция и злые командировки по Союзу, отпуска и поездки к родственникам... Украина, Юга, Казахстан, Знаменитости Союза, творческие командировки и курсы повышения разного калибра... впереди ждали только смерти, лихие и долгие, злые и беспощадные, о которых я тогда не ведал при своих 35 и знал – не знать бы в свои 60.
Шел 86-ой, и шла приятная дата впереди – тридцатипятилетие «героя», то бишь меня. До юбилея оставался шаг, рукой подать, всего-то лишь месяц.
То было раньше. «Шеф, — хрипели мне в затылок, — здесь «десантироваться» нельзя». Но это я уже понял тогда, когда выходил на моторке в будущий район и с маху вляпался в песок-зыбун, оставшись без сапога-ботфорта. «Ты понял?»... а еще ему бы не бояться, если я лежа жму сто пятьдесят... За спиной-то у меня стояла наша славная КГЭ-с с её... и далее – Москва, которую не сдашь даже в 80-е... Великий Канал, как уже все понимали, шел своим ходом, хотя и издыхая на последнем вое среднеазиатского ишака. Мы обошли пять точек будущего нашего выхода буровых на берег – то было еще хуже... в тот год наводнение сильно подтопило берега, залезло на материковый лес. А ждать-то было некогда...
— Годится, — философски заметил я. — Здесь мы будем.
И потом, наняв в соседнем колхозе «Сибирский» баржу с аппарелью, я пошел на приступ Иртышских берегов.
... Для меня та афера вполне могла закончиться плачевно, и я понимал, что многотонные самоходные буровые и моя техника не должны прорваться через прибрежную полосу пока еще плотного песка-зыбуна и через крутой вираж взъехать на крутояр.
Я не закрывал глаза на будущий бардак, не молился (не в моих правилах, я человек неверующий и паршивый атеист, каким воспитал меня отец и мой славный Урал, вечно никогда не хнычущий), укрылся чуть пеленой глаз... Я видел, как погибали мои полки, и что пора мне уже застрелиться как честному российскому офицеру на краю пропасти... Я не играю в «русскую рулетку»...
Баржу подтянули плотно к берегу – колхозный моторист дело знал, не зря с ним водки хватанули, за остальной кошмар он не отвечал. Я пошептался с Иваном – буровиком, моей первой жертвой... Он рванул вперед и вверх, шаг вправо... – считается побегом – скрипнул и осел полосой плывун, захрипела косая полоса кривого и дерьмового берега, вздыбился вбок и пополз подмытый материк реки... буровая, взревев, ломая кустарниковую мелочь, ушла в твердь.
— Дальше, дальше! — то ли орал я, то ли мне казалось. — Уходи сразу, не бей след.
Мне вторили люди мои.
Потом я заворожено следил, как вторая буровая перла прямо по зыбуну, и песок утопал; как после нее, ее тяжелого следа, вдруг песок провалился внутрь – в никуда...
Как потом опытный помбур-мастер вырвал машину спокойно и резко налево, взъехал на крутосклон и...
Я всегда себя спрашиваю: если не они, то кто??? И не нахожу ответа. И годами передо мною стоят мои «ребята» – орлы! Мать их за ногу, которых я лаял и хаял (и за дело!), и вечно защищал пред верхами...
Склон пополз, и вторая буровая начала валиться. Ну, не миновать мне второго пришествия – и закрыл глаза. Когда я их, бедолага и черт собачий, трус с двумя с-с, открыл – буровые были на «нашем берегу», там уже тарахтел наш трактор, и Савельев, сволочь, улыбался во все свои... почему-то геологи вокруг меня тоже похихикивали. Но не шибко громко, понимая торжественность момента: плацдарм мы взяли...
Давно это было, далеко от моих 60-ти... но не так далеко от тех 35-ти...
Глазенки-то разуй, скотина от геологии! Которая на смерть толкает... Стоят ли того твои люди?
Но-но! И я не был лыком шит в свои золотые 35! Ну и что, что наш зам. начальника экспедиции волком зрит на меня... да его незамужняя любовница, крутая и сухая геологиня, давно уже глаз положила на меня... Конкуренция в «поле» и у геологов – избави бог!
Плохо начинался 1986-ой год для меня, отвратительно. Но и первые его полгода у меня страшно, нереально и весьма нехорошо складывались. Север мой сдох – и не я ли сам виноват тут и собой частично: мороз за сорок, а я бегаю в любой час (а и выпить некогда) здесь и там по широкой округе... Простыл страшно!
— Не пора ли подыхать славному Чифу-шефу...
... Вот наконец и пришел покой от гонки по жизни... где-то есть ведь тормоза: божьи, человечьи.
Завалило страшно и надолго: был без отпуска почти два года северных (отец что говорил... правильно: «Один год фронта идет за три года», на то у него и вышло сорок восемь лет стажа... Я такого не потяну, хотя есть и мечта, как у моего бати: дотянуть работой до 62-х...)
Скрутили меня, скрутило; ни вздохнуть, ни продохнуть, сижу сиднем сутками (как былинный Илья Муромец), пока не заехали за мной домой, не сложили через силу пополам... Без сознания я валялся «там» почти сутки. Откачали, привели в чувство. «Будем бить грудину, откачивать жидкость, он хлюпает». (Я – это как, хлюпает?!)
— Он сдохнет! Двустороннее. Крупозное. Захлестнуло все. Отказала печень. Да он у вас...
Что вы с ним сделали?
Кто он у вас и кем работал?
Где он был???
... Мне всегда становится смешно, когда меня хоронили заранее, хотя, конечно, дурак, не отказался бы от памятника при жизни.
Бог полу-простил... плюнул на меня, бездарного... да и Смерть-косу не стал я в рожу бить. Рано, сказали, тебе, нахалюга, памятник ставить, да еще и при жизни... и так два раза топили... мы тебя потом достанем!
Да и хрен на вас, мои дорогие!
Отвалялся я там, в этой «куче дерьма», муторно. Не пора ли на свободу? Доктор, уже февраль, а мне летом мой полу-юбилей... иль как его обозвать-то лучше... в общем, Вера Николаевна, мне будет уже 35!
— Скажи, придурок, нам спасибо. Ты кто?
— Я? Начальник... дурной северной партии, это поможет вам?
Вера Николаевна, так могут и знают только одни медики, знаете, что сказала?
«А – Я?!»
... Я всё, и не держите более,
извалялся я уже у вас,
три недели в царстве
божьем – это уже никому не перенести...
Извините, то уже не Высоцкий, это уже завыл я, полуиздохший с севера и на больничной койке. Я чувствовал и знал, мне приходил крах. Я всегда боялся хирургии. Мне делали уколы шесть раз в сутки, будя от сна и ночью и рано утром... три недели подряд через шесть часов интервала... или через четыре?
— Уже пора? — спросил я в конце февраля. — До хаты, до дома? Нас ждут великие дела.
— А ты знаешь, мой уважаемый начальник партии... у меня давно не было таких беспардонных пациентов... и я...
— И вы?.. Меня отпускаете. Мои легкие уже без хирургии дышат, спасибо вам.
— Я вот не пойму вас...
— А зачем?
— Вы стремитесь навстречу смерти?
И вот тогда я перепугался насмерть, на своем тридцать пятом году... – мне рано, да и дела земные не закончил я.
... Мы вас спасли от смерти,
спасибо вашему организму,
но у вас еще есть проблемы,
связанные с заражением воды и рыбы.
Где вы работали?
— У вас плохой анализ крови и поджелудочной! Вы заражены описторхозом... вы чуть не поняли названия... суть в том: зараженная вода и рыба – всё при личинках, проникают в печень человека и дырявят ее микро-способом.
Я сидел, слушал... ох и умная мой врач Вера Николаевна.
— Иначе это называется сибирская двуустка. Где вы работали, когда и кем, кто вы и зачем?
И каменным боем ложились ее слова, будто я принес куда-то сифилис. Врач-профессионал потом мне, посмеявшись, сказал: «Не пей вино. И водку тоже. А пиво и подавно. И береги свою печень...» (Через полгода я «порвал» спину, и мне сказали «берегись», не поднимай более налитого стакана).
И все ж я благодарен моим советским медикам, кои поставили мой «труп» на дела заведущие – я еще буду долго и нахально жить!
А впереди маячил такой долгожданный отпуск. Ан шиш вам... расходись по домам. Военкомат придумал для нас всех такую хитрую ловушку, что не угадаешь!
Знаете... не знаете, и слава Богу... Когда пишешь в холоде или же на прекрасной теплой кухне, которая стала наконец-то для тебя рабочим кабинетом... Ну и о чем-то ты запечалился, старый 60-ти лет, да о тебе давно могила плачет... Ну а где тогда Гоголь, перевернувшийся в гробу, где все остальные???
А-а-а, какое мне дело до них до всех, а вам – до меня!
В институте я тянул спец-предметы только на «ять», а вот философия, научный коммунизм, история КПСС и высшая математика меня, будущего горного инженера, сбила в «ниц», до ровной мещанской середины. Таким и ушел из института во Владивосток, куда и ехать-то никто не хотел. Придурков было мало и тогда, и гениев мало, как обычно. Это мы с Петькой Барановым метались по «выпускной» аудитории и верещали, договариваясь со всеми – дайте нам Владивосток. Ну, дали. А кто еще бы пожелал туда поехать? Одни недоумки. И романтики типа нас с Барановым Петькой...
Я слышал, под свои 60 лет, что мой Петро умер, зачем-то и почему-то...
Так кто вы такие, вас здесь не ждут?
Ну, не ждут – и ладно! Пойдем далее...
... Вот только вышел из комы «легких» – вызывают в военкомат. Соскучились, сволочи, по независимому волонтеру. Как только за последние годы не тренировались надо мною, офицером запаса – командиром огневого взвода 122-мм гаубиц, старлеем (страшным лейтенантом)! Да и бог с вами – куда Родина призовет. А Родина звала и рвала последние годы меня под Тбилиси, жрать их фрукто- и сухо-падаль, быть вечно жарящимся под солнцем и быть вечно рабом «ни за что»... Родина звала меня, от имени военкома, спасать последние устои СССР под Ленинградом, переучивая на ракетные войска...
Вот только весной 86-го я «загремел» во «ХВАКУ». Конечно, на два месяца, откуда вышел боевым старлеем и потом капитаном, командиром батареи 122-х... Мы просились у нашего генерала, чтобы нас, как добровольцев, всех под Чернобыль апреля 86-го... «Ждите», — изъявил генерал-майор, начальник ХВАКУ (Хмельницкое Высшее Артиллерийское Командное училище)... После чего «нашего» генерала кинули за превышение власти и злоупотребление должностным положением. Никто не отгадал, почему он «тогда» имел две «Волги» и тысячи «брежневских» на счетах... времена Иванова и Гдляна шли легендой и по задворкам Российской империи... уже тогда, дай бог, покуда не расстрельными статьями... Андропов успел отстреляться!
Вот только Большой Канал... по проекту глубиной 18 метров, шириной под двести, водонепроницаем чеганской глиной... Каково? Уже с юга «перли» рытьем нам навстречу, а мы еще не успевали пробить «свой северный западносибирский» вариант-канал... Мы там «болели» десятками с наших экспедиций:
Томской;
Подмосковной;
Челябинской;
Курганской;
Тобольской.
Не всех вспомнил?
Когда меня откачали от «смерти», я сказал своему заму по экспедиции: «Нужен я – катись в военкомат и защищай меня. Мне там париться удовольствия мало».
Он скрежетал зубами, рвал... – еще бы, нет второго начальника партии большой экспедиции. Кого он готов был сожрать с костями – так это меня!
И он был прав.
В экспедиции не должно быть пробелов. Особенно таких, как нач. партии. И ведь туда не всякий потянет...
Он меня не отстоял – два месяца я стрелял в ХВАКУ из всего, что можно, заработал славу боевого офицера... чуть ли не медаль на грудь...
Поздно или рано, а возвращаться в родные пенаты надо... так нам трактует наш российский долг.
Потом я с «нахальной» рожей бросил новому начальнику экспедиции – он из Индии (как я его потом зауважал, знали бы вы!) – рапорт-заявление о своем желаемом «двухгодичном» отпуске. Он молча подписал, не спрашивая своего зама. И я умотал с семьей – с женой и ее любимыми гидрологами – в Казахстан по путевке на озеро Боровое, где рядом райцентр г. Щучье...
Вот только холодно было там в июне!
И я чувствовал свою ответственность, точнее свое отсутствие.
Там, на Боровом, было все-таки прекрасно и лучше – это уж я потом, придурок, понял, – чем где-либо. Недаром у нас говорят, что лучше Северный Кавказ, чем Южный Урал (моя родина).
И все же там было плохо и хорошо. Воздух – студеный, горно-озерной – был прекрасной подпругой моих новых легких... От горной прохлады я вздрагивал, не отогревшись еще от северного мороза... Все так прекрасно и дрянно, что и жить заново после двухмесячных больницы и «войны» снова не хотелось. А и посудите сами...
Начало июня – не самый лучший сезон на Боровом. Это удел всех пришлых и росс-доходяг... остальные берут не раньше июля. Бог создал это чудо: в район 20 на 20 километров средь казахских степей добавил горы и шикарные озера... за водкой пришлось таскаться – спасибо Горбачеву – далеко в райцентр Щучье, отстояв с бедолагами очередь. Нас таскали в горные холодные маршруты, нас возили по холодным озерам и помпезным смотр-площадкам, холодом дуло от турбазы «Боровое» и из наших домиков-номеров... пришлось купить в Щучьем термовентилятор; по вечерам мы «грабили» буфеты в соседних военных санаториях и кормили местных белок. Но есть же счастье... оно нам досталось. Я разругался вдрызг за «удачный отпуск» с женой – и вдруг нас приглашают толпою в город... ранее закрытые урановые рудники сталинских времен – Степногорск!
И мы едем. Шикарно. Автобусом. И после нас поля алых маков и эти самые, которые столбиками стоят... Сурки или суслики, алые маки и ковыль (всё это я видел чуть раньше, но заворожило сильно). Ведь это зрелище неповторимо. Хоть тысячу раз смотри.
В славном урановом городе, где уже по легенде работают одни только свободные и добровольно-гражданские люди – полный ажур. Дома, проспекты, магазины... красота степей! Пока женщины лазили в шикарных и богатых магазинах городка, мне удалось перетолковать то ли с бывшими «узниками» - жжено-черными людьми, то ли с новыми свободно-гражданскими приисковыми серыми мордами, то ли... «На том и стоим, хорошо платили». Потом наши женщины с шумом и гамом, с покупками и пакетами вывалились из рая – посуда, одежда, спиртное... я и не ожидал такого таланта даже у своих – есть и будет всё!
(А как же сказки про смертников на урановых рудниках???)
Ну вот и кончилась сказка, июнь восемьдесят шестого. Все должно кончаться и заканчиваться на «ять» (есть такая буква... была, по крайней мере, задолго до нас; вот память наша заторможена, приморозилась, забыли про «знак твердый», хотя я в конечном итоге давно уже не сторонник везде ставить эту ъ).
Так кончилась, повторяю, эта благодать твоя. Выходи второго июля из отпуска и заполучи сразу и по полной программе. Не в бирюльки играем. Вершим дела и решения ЦК КПСС. Промедление смерти подобно. Дан приказ ему на... Но после Чернобыля-86 все полетело в доску и к чертям.
— Наш Союзгипроводхоз по переброске сибирских вод в Среднюю Азию перестал быть государством в государстве. И забудьте про ваши памятные значки «в виде поворота стрелки на 90°». Все мы сейчас сдохли. Учение и ЦК предприняли решение о завершении проекта Главного Канала.
«А это что?» — как вопрошал Райкин.
Я вышел из отпуска и сразу получил недовольство зама прямо в лоб:
— Наотдыхался?
— Пришлось. От «армии» же не отмазали. Стрелял два месяца. Просили остаться еще на два месяца под Чернобыль...
— Кто просил?
— Да генерал ихний!
— Хватит! Тебя там еще не хватало. И так разнарядка уже пришла: машины и люди – туда направить без возврата.
Я задохнулся.
— Как это – люди без возврата?
— Радиоактивное заражение. А люди – добровольно, за хорошие шиши. Желаешь?
— Уже... просился.
— Да, ты там близко был. Но у них свое, глобальное, а нам как бы живыми из всей этой передряги вылезти. Так что катись на всю катушку к новому начэксу и получай удовольствие... Нам надо вывезти все оборудование с Севера в кратчайшие сроки и законсервировать работы. Прочувствовал?
— Ну а как же...
До дня рождения – моих 35 – оставалось еще долго – целых три недели...
Только чуял я и понял, что непростыми для меня станут эти предъюбилейные вахты. Ибо ведь не первый год на северном «замужестве».
... Девятого августа, бросив свой караван на полдороге между Тюменью и Курганом – было явно невтерпеж, да и дорога караваном уже накатана и цивильна, езжай по асфальту до базы, не промахнешься, – я с отдельной спецмашиной «геофизик» вырвался прямо в Курган, бросив медлительный и большой караван средь обитаемых дорог. Володя Миллер, шофер передвижной геофизической установки, был даже рад и со мной солидарен: «Пока они дойдут... до точки кипения. Да им и спешить некуда, правда?» Правда, правда, Володя, рви когти... меня-то ждут не потом, сейчас, потеряли за месяц с лишним и поздравить не успели с моими тридцати пятью. «Не бери в голову, шеф, рванешь и нагонишь, — умело крутя баранкой, говорил Володя. — Вот только твой замначэкс круто недоволен тобой – мол, медлит, сидит лентяем в засаде». Сил брыкаться уже не было, я молча смотрел на асфальт, стелящийся под колеса, и просто мрачно думал, чем еще удружит «мне лично» мой лучший и незабвенный замначэкс. А впрочем, пошел он на хрен... Столько выпало на мою долю и мои плечи, не счесть. Ведь задание выполнено, и это самое то. А то, что недоволен и бухтит про «этот месяц с лишним» – не мои печали... Где он видел, чтоб в июле в Хантах кидались речники с распростертыми объятиями какому-то варягу при чековой книжке и без личного нала. Но мне ведь удалось, при всех моих-то связях.
Мой «скорый» домчал меня эту сотню км быстро. Дома никого – тишь и гладь, божья благодать... немытый и в грязном фуфле (конечно, без спецтуфлей) я рухнул в кровать. Спать. Спать! Еще раз спать!!! Вырвать у жизни клок удовольствия. Голодный и не хочу есть – спать, только спать (а что ж не выспался... ведь была возможность! Аль нервишки подвели?).
Я спал. Вздрагивал. Шли кошмары: тонет катер, рвется буксирный канат баржи, трактор при разгрузке проваливается сквозь доски, меня бьют и терзают тобольские бичи...
И вдруг чьи-то ласковые лапки трогают мою заросшую морду и аккуратно гладят мои избитые и измученные бока.
И – крик. Мой! «Что, Борисов, сволочь, не можешь... на скорости! Рви, не медли!» — и он не помедлил, молодец! В чем я и убедился, очухавшись в испарине и грязной одежде на шикарной (ценить надо!) домашней кровати. Около меня, прижавшись ко мне и смотря прямо мне в глаза, лежала моя десятилетняя дочь, видно только пришедшая со школы. Она не кричала мне «Папа, папа», приучена, что ли, была моей работой; она только гладила мою бороду и заглядывала мне в глаза.
— А? Что? Я вам, начальникам, должен пятилетний план сделать за неделю, да? Дали двух уродов в помощь, кого негоже, чековую книжку в зубы и недельный срок... И всё вам сразу подавай...
То ли это была явь, то ли отголосок. Но ребенок мой явно не пугался.
— Папа, ты приехал? Я так соскучилась.
В свои 35 я был крепок. Как тот зловредный и правильный дуб столетней давности. Голыми руками меня было не взять (это, может, сейчас, когда мне в упор шестьдесят, позволил себе размочалиться...)
Пришла жена с работы, просто и обыденно, будто не в первый раз:
— Пропал. Мы тебя потеряли. Дочь требует ответа: куда дели моего папу?
Жена села рядышком, дочь прилипла ко мне. Поужинали. Мне даже выпить дали чего-то крутого в честь моего рождения.
Это все потом, и не так страшно. Страшнее и хреновее было раньше. Двух моих людей – бульдозериста и водителя – забросили туда, в северный поселок, заранее... ждут команды.
Ну и я, как командир спецбригады – срочно! Быстро! На место дислокации – рванул туда.
Да не так все быстро.
Билетов на Ханты-Мансийск – прямой рейс и редкий – не светит. Но на Тюмень можно, если осторожно. Готов, синяя сумка через плечо – научен горьким опытом, всё мое ношу с собой – мыло там, зубное, мордо-полотенце, носки и прочее, мелкая дрянь типа чековой, паспорта, командировочных на неделю... («Да за неделю ты смело должен закончить! — таков был бодрый наказ замначэкса. — Связь через метеостанцию в Хантах – местная, прочая – к нам по междугородке». Всё понял, шеф – продается у вас славянский шкаф, а мне в ответ – шпион живет этажом ниже...) Поиграемся в ваши игры.
«Игры» оказались долгими, нудными и малоутешительными. На Ханты прямым рейсом я не вылетел, до Тюмени кое-как рванул... Оттуда до Ханты-Манси уже проще – чуть ли не через час. Теперь по реке сотню км до нашей злополучной базы в одном из поселков на берегу Иртыша... туда по реке идут «метеоры» и пристани-дебаркадеры ждут у речных поселков.
Восьмого (или девятого) июля я шагнул в базовый поселок, откуда предстояло вырвать огромную кучу экспедиционного оборудования и барахла. Мне предстояло увидать своих подручных и дать им мои посильные ЦУ.
... Через четверть века легко быть героем... Я шел и увидел, и у меня, много видевшего и перевидавшего, вдруг волосы стали дыбом: прошел дождь, и даже не «хлястик», а сильный ливень; кругом мокротень страшная и сильнейшие лужи... около дома, впритирку по отмостке, ходят два «кошачьих» и морда у них в крови; чуть подалее более или менее подсохшие голуби (догадались же про солнце, хоть и в астрономию не врубаются), но еще чуть в стороне полузабитый и окровавленный, которого жестоко клюют свои же... Я хотел, но уж поздновато было хотеть! С такой ненавистью глянул на это побоище... Ну а мы чем лучше!..
Тишайше-разбросанный городишко ссыльных поселенцев тридцато-сталинских времен, весной разделяемый надвое могучей протокой от батюшки-Иртыша, как репей прилепился на этом высоком берегу Иртыша, который и спасал поселок мало. Но ведь люди там жили, и какие! Прекрасные люди, предки северян и потомки ссыльных уже наших, высевая уже тогда, до Войны, гречиху, рожь и просо, держа коровник на «ять» и снабжая хилые Ханты сельхозпособием.
Нету, не-ту того света, чтоб край удержать! Великой в прошлом имперской сволочной державе – от двухлапого нынешнего российского орла!
Людей – не изломать. В поселок заходили издалека с севера ханты и манси; сослали кое-кого из хохлов сюда; стоят бревенчатые чуждые дома (в которые с 30-х не заманят и награды). Раньше – гречиха, даже рожь, обязательно коровы и покос... потом уже как косяк пойдет. Цель одна – берег правый, берег левый, на том покос, а здесь коровы и люди – тяжко... Но ведь правил люд и управлялся с тем!
Душа стыла. А ведь когда-то поселок этот был не из лыка шит, встал в давние времена для опоры в краях северных – пусть мал, но мил для державы и людей своих северных, и было для него имя не какое-то «отрепье», а лучшее, чем гордились наши предки и рубили свои дома-избы сообразно северным законам, высотой «чуть-чуть под два», в ширину и длину – немерено, и печь чтоб охватывала хоть бы половину дома, рубленного под плаху лиственницы, вечного дерева. Был народ, крепкий сибиряк, прииртышный, знал себе цену... затем умудрились разбавить его «тридцатыми годами».
Страшненько... страшно рыжим хантам и черноволосым манси-вогулам, кои уже не хотят идти под «репьё». «Репьё» хоть и выжило, а вот рядом возьми ту же «Мантулово» (иль по-другому зовется?) – брось куда? – злое место: деревня на месте, а людей – никого; нет, нема никого... И злой дух не скажет...
... Вступал я в ту деревню,
живы дома и усадьбы,
но нет жилого духа,
будто злой дух Севера
уякшил их...
Я – бродяга старый, видал чудеса: брошенные северные, таежно-уральские, степные задворья и поселки... Рехнуться можно, коль психика городская и не та... Но я выжил и знаю, что они так же умирают, как и люди. Страшно.
И вот тут-то «английский Чиф» (шеф) вломился после своих суточных мытарств на «международных» авиалиниях типа Курган–Тюмень, Тюмень–Ханты-Мансийск, круиза «Ханты–Манси» – севдеревня имени... конечно с дебаркадером, куда-то в центр жизни, где его ждали-ожидали два геологических полу-бича и куча ненужного экспедиционно-северного барахла. Его, «Чифа», там ждали; с ненавистью и прошлыми вопросами неудачи, воздвигнутыми аж далеко и задолго.
Ну, здравствуй, вот он я!
Пока Шеф шел от речной пристани вглубь поселка, пришли ему на память какие-то невеселые мысли. «И что мне до него, того несчастного?» Но скреблось где-то в камышах мутного сознания.
... Он прилетел из Тюмени до Ханты-Мансийска, самолет ЯК-40, полетное время всего-навсего час с небольшим, никаких особых поблажек для 28 пассажиров... все удобства свалены через полетный график – почти каждый час уходит из Хантов самолет, «увозя» северян вглубь цивилизации, где отправной точкой служит Тюмень – столица деревень. Туда рвутся с дикого севера люди («ковбои и индейцы») хотя бы на спасительный край северной цивилизации – и здесь Тюмень незаменима! Автобусными маршрутами и авиарейсками на материк, с его чуханным автовокзалом и долбанными туалетами – для них! Всё для них! Все удобства к их заплечным мешкам, рыжим бородам и черным волосам аборигенов... Ну и в Хантах Шеф вышел из аэропорта, окинул автобусную остановку – пусто, сбрендила мысль податься пешком до речного порта (очумел, батюшка!). Это долго по прямой мимо голубых могучих кедров вдоль Иртыша до приземистого и анархистского центра, а потом – круто налево под 90° и снова прямо и долго: от Центра города, где над белокаменным зданием гордо реет госфлаг и где чуть поодаль толкутся коровы недалекого здесь частного сектора, мимо кафе «Обь», магазина «Геолог», старо-частно-притонского района... И уж тогда врываешься к речному порту, катясь к нему с горки и оказавшись вмиг на диком рынке и рядом с кафе-столовой, где накормят медвежатиной и олениной...
«Не... Долго. Долго. И очень долго. Время – деньги, жду автобус «аэропорт–причал». Поухмылялся горько над собой: «Как провожают пароходы, совсем не так, как поезда...» Тупые бетонные лавочки небольшого скверика возле аэропорта, со стороны города, навевали уныние, цветная мозаика из смальты добивалась угрюмо-серым вокруг; чахлое, полузабытое асфальтовое направление дороги в город, пыль и тучи несметные то ли мошкары, то ли гнуса.
Чиф (шеф по-английски) закурил свою дешевку без фильтра, привык (точнее, отвык от благ), и рядом на его беду уселся парень. Шеф очумел – и зачем мне здесь собеседник? Парень бубнил – что, некому сказать и поделиться горем? – и Шефу с каждой минутой становилось все интереснее, смешнее; и грустно. Паренек, оказывается, ехал до Москвы искать правды; он вывалил мне кучу бумаг, протоколов и постановлений профсоюзных собраний... «Дойду до канцелярии (точнее для тех лет – до приемной) Высшего Эшелона Власти!» «Э-э, парень, — прикуривал новую сигарету, обдумывая его эпопею, Шеф, — не по адресу, ходок от народа отсюда туды. От тебя и твоих депутатов прошения там уже перестали ждать... слишком вас стало много, незапланированных...» (1986 год – время горячее, больших перемен, дела двигаются к... не надо путаться под ногами, когда делают Большую политику).
Он говорил горячо, найдя мою больную голову, а я, Шеф «того треста, который лопнул», закуривал очередную сигарету. И зря, Чиф – потом будешь лапу сосать? Спас подваливший на остановку автобус «Аэропорт – речной порт»; и разошлись они, «солнцем палимы», у парадного крыльца великого будущего. «Ну что ж, дан приказ ему на запад, мне ж в другую сторону».
«Как вы думаете, госпожа Удача, — думал Чиф, заново отвердев на земле хантов. — Вы на моей стороне?»
Успею ли я поделать дела и разведку до вечера?..
«Ты должен, — бурчал мне голос Удачи. — А иначе кто ты, клен дубовой! Время – деньги, а их, желающих иметь, не счесть».
— Ну а я-то здесь при чем? При дубовой чековой книжке и минимуме рублей командировочных???
— Да пошел ты... — и Госпожа Удача отвернула морду в сторону.
А и тоскливо все ж стало. Спорить с Судьбой – дело накладное. Да и бесполезное. Он перед посадкой в «Метеор» затарился минимумом штатных продуктовых единиц, ибо знал, что судьба подарков не дает и удачу просто так не разбазаривает «кому-либо из вас», прижимистая стервь.
По северному глухому поселку, для которого связь с Большой Землей летом только по реке, зимой по «зимнику», в шугу и лихолетье – по воздуху, шагал начальник партии бывшей изыскательской Чиф. Шел и ступал плотно, уверенно, будто и не уходил. Глаза и уши подмечали всё подряд: протока, разрезавшая поселок на две части – пустая; берег на сей стороне чуть «опустел» – сдал дюймы назад; там, где будет «все основное и остальное» (отгрузка), берег крутояром двухметровым, не порван сильно подмывом – должны «прорваться» при погрузке. Что еще надо?! Первый пошел.
Второй – впереди! Хозяин наш арендованного «дома-базы» Трофимыч (или Тимофеич – вечно путаю, аж неудобство... живем, жили, душа в душу).
Вот и его личный дом. Уже почти современного построя, тогдашних лет. Хозяин бросил дом своих предков, массивный, из лиственницы, низко срубленный под северные морозы... Темная история, да и я не ведаю; зачем бросать шикарный «от северов» срубленный огромный домище, чтобы перейти в миниатюрно-уютный дом шестидесятых?
Да и бог вам судья, в тридцатые еще годы я и горя не знал (рожденный после войны). А на том и сказ наш и будет окончен... про сталинские и предвоенные годы; люди этого поселка не любили распыляться в слова и без дела.
На том и стоим. Не входя в калитку, Шеф брякнул щеколдой. И метнулся навстречу пес – больше средних размеров, при клыках и со страшной пастью, каракулево-черный, в глазах истый бесовский огонь – ну чисто цыган в собачьем облике. Пёс рвался с цепи, слюна капала с его мощных клыков, в глазах горел огонь волкодава, рваное ухо и глубокие шрамы-борозды украшали эту жуткую собачью морду, которая могла присниться только в страшном бреду... свят-свят, исчадие ада! Да благослови господь неверующих!
Верующих в...
— Цыган?!
Пес замер. И рванулся с цепи вновь. А навстречу уже ломился через калитку высокий полуседой человек.
Они облапались. Стало быть, поздоровались.
Человек снял собаку с цепи; пес сбил человека на землю; и они оба катились по утрамбованной земле около калитки. И оба рычали.
— Цыган! Здорово, брат! Пес ты мой...
— Р-р-р, здорово, Чиф! Давненько...
Так и сидели они, два бездомных существа, изорванные судьбой и оторванные от своих территорий. Чиф тоскливо смотрел в северное небо: видал его и в лучшем виде, вплоть до северных сияний и белых ночей; Цыган, уложив морду на колени человеку, матерый и бесстрашный, почему-то терся и тихонько по-щенячьи поскуливал.
Стукнул хозяин дверью. Вывалился из темных сеней на свет, чуть ли не по-хохляцки искрестился «свят-свят», «загрыз, думаю, лиходей, доброго человека? Впрочем, фининспекторы и НКВД здесся давно уже не ходят, да они и не требуются – захирели...»
Трофимыч, ты о чем? Что в душе носишь про те времена? Ведь мы когда встали в «той» хате на постой, да потом из любопытства порылись на чердаке твоего родового дома, коему если не под сто лет с лихвой, что мы «отрыли»?
Роман-газета за 1963 год Солженицына «Один день Ивана Денисовича»; краткий курс ВКП(б) за 1937 год; оленьи шкуры; старинные капканы; ружье-фузею; медный пожухлый кладыш-иконостас; древнюю церковную книгу; истлевшие «Евангелие»; газеты советских времен про НЭП, попов и бандюков; обрывки истлевших газет времен Японской войны; обломки старых широких охотничьих лыж; несколько медных царских монет; ухват, чугунки, медную утварь... Всё-то ты знал и ведал, мой дорогой Тимофеич... только вот желания дальше «знать это» уже не было у тебя и не осталось от своих прошлых (или пришлых) предков! Да и немудрено... что дикарю от цивилизации в новинку – то не мудро цивилизованному в дичи. Не нам вас судить, но мудрости надо поучиться.
— Командир! — Трофимыч расплылся в улыбке. Крепкий мужчина, в полтора раза старше меня.
— Ждал, командор?
— А как же.
— Ну, если ждал – приглашай в гости. Но без собаки не зайду. Пусть твоя жинка не ругается – Цыган парень аккуратный, пакостить не будет, верно?
Цыган лязгнул зубами.
... Эх, мой Цыган, щенок мой малой и востроглазый; несколько лет назад, когда мы работали и стояли базой в поселке при впадении Конды в Иртыш, мне принесли мои орлы маленького черненького зачуханного щенка размером с меховушку-рукавицу, который грустно о чем-то скулил.
— Принимай, Шеф, сироту. Смотри, какой детдом, — буровик подал живую шевелящуюся цигейку и сунул куда-то палец. — Да он кусается, стервец! Тож мне, без мамки, без папки, а туда же... Утоплю, отродье цыганское!
Поздно. Судьба щенка уже была решена – и вместе с именем Цыган он вошел в нашу полевую цыганскую жизнь. Когда нас не было – он где-то ждал у своих новых хозяев или вел бичевскую бездомную жизнь... потом совесть у геологической банды проснулась и они его пристраивали за добрый паек в надежные руки на время их отлучки. Но не таков был Цыган: толковых хозяев уважал, без подобострастия, а те и с ним не отчаивались, съедая его паек и пуская пса на вольную; с плохими опекунами – плохо и уживался, когда лишали его «пайки» – ведь он же знал, что Шеф и его люди не должны были оставить его без прикорма – не дождавшись «подачек», драл живность, голода не терпел. Заматерел, рвали... хоть здесь все и сибирские лайки или все «из себя», но и я, каракулевый, не лыком шит.
— Спасу с ним нет, — пожаловался Трофимыч. Пожаловался, впрочем, без плача. — Ходит гоголем по поселку. Всех лаек замучил, остальных рвет клоками, только шерсть летит. Кто не так посмотрел – задрал живность мелкую... а ведь я его кормлю, что не хватает? Пришлось взять на цепь.
Да не возьмешь ты, Тимофеич, вольного в «цепа»; не потянем мы, не сможем по закону природу, на эту поруху. Да и хитришь, хозяин, деньгу на собаку я оставлял добрую. А посему...
— Корми, Трофимыч, Да и по делам потолкуем.
— Да-да, Шеф. Меня интересует...
— Знаю. Правильно. Перед своим отъездом сюда в упор вбил им в глотку: отдайте за аренду долг хозяину, то бишь тебе. Сотня рублей брежневскими – это большие деньги здесь у вас. А иначе мне здесь и делать нечего... Будет, Трофимыч, идут деньги, видел бумагу. Верь. Жди.
— Фу-фу... нужны деньги.
— Кому они не нужны? Разве что как у Некрасова: в Неелово, Неспалово, Неурожайка тож...
На столе рыба, свой хлеб (закрыли пекарню в поселке в прошлом году, теперь возят «оказией» с центральной усадьбы совхоза... – как уж оно прорвется по «штату» и климату, не знамо дело), разносола нет...
Да и откуда ему взяться!
В навигацию везут всё,
сгружают всё,
денег у народа ноль (с копейками), берут и жрут (кто опытный: муку и водку – а то когда еще там дождешься).
Вот сидим и выпиваем. Да и кто сейчас не пьет. Баш на баш. Ихняя закуска – моя водка из Хантов (зря, что ли, обучен северному гостеприимству, да и жрать хочется, домашнего... Извините за пакостный жаргон). И пес мой доволен у моих ног, лежит аккуратно, кушает отрезки и обрезки мясопродуктов аккуратно (почему, черняга, рыбой брезгует, а?). Цыган свалился затем на ноги и вставать не хочет – урчит как кот; жалко «парня»... Но куда девать! Время убывает у Чифа, а делов еще невпроворот. Чуешь, Цыган? Аль со мной поплетешься? И охота тебе от сытого брюха и уютной конуры идти с Шефом по сумеркам неизвестно куда?
Тимофеич мне всё вопросы задает, пакостно-правильные. Солярка, бензин, керновые ящики? Обделанный и зачуханный толпой туалет? За укатанный под шоссе приусадебный участок?
Все правильно, люди!
Все правильно, Трофимыч!
Вездеходы и тяжелые буровые самоходные установки сорвали покров с вечной мерзлоты – и не будет уже отныне нам возврата. И требовать с нас компенсации и контрибуции уже поздно – мы уже ушли. И неподсудны. Дерево – прибери; керн брошен уже за исследованной ненадобностью, и перевозить его на Большую Землю накладно, пользуйся, только не убей им плодородь земли. Дерьмо наше? Да взорви ты его и разбросай по земле – всё ж польза.
К этим муторным вопросам мы были уже взаимно готовы, и после второго пузыря при царской рыбной закуске взаимотрения были «погашены» положительно.
— А вот с бензином и солярой... не обещаю ничего толкового.
Перед глазами Шефа будто четко и ясно стояла будущая явь. Ведь от реалий слабо нам оторваться. Это только в крутых боевиках, книгах и кино от зарубежья до будущего в недалеком уже мираже погони, драки и перестрелки при куче женщин, а в серой жизни-то всё попроще: не должно быть там стрельбы (хоть и попадал Чиф в эти дурные пулялки, и руки, бывало, выворачивали назад под наручники – мало ли что в жизни бывает у начальника партии) и побоищ, дележа женщин и мародерства... только вот если бы побольше уходящей романтики и этих самых, приключений, чего и хватало по горло.
Бензин и соляра нужны для ГАЗ-66 и ДТ-75 – должна ж шевелиться моя техника при погрузке, при разгрузке, при экстремале, и на запас, который никогда шкуру не жмет. Я понимаю, Тимофеич, твоя моторка без бензина, который здесь в глухомани дефицит, – ничто, а без рыбы опять же и рак не щука... дам немного. Вот тебе еще немного копеек для первого и последнего моего взноса на содержание Цыгана, а дальше уволь, ты ж понял, что заканчивается наша северная эпопея. А про пса мы заранее уславливались – возьмешь его на постой, пусть караул несет, Цыган пес бравый и расторопный, порвет всю бандюгу в округе, хлеб и суп сполна отработает.
— Да кур хозяйских не вздумай драть, — Шеф задумчиво потрепал каракуль собаки. — Ну, я пошел. С Богом, Трофимыч. Как найду баржу – так сюда на загрузку. Теперь же пора и далее идти дела делать – солнце катится и забот еще от горла... ик-к.
Ну, кто там следующий? И Шеф побрел на поиски своих двух помощников, уже много дней дожидавшихся здесь «команды сверху».
Водителя ГАЗ-66, пожилого человека, отмантулившего годы экспедиции и шоферства, сухонького и больного – и в чем только душа держится (однако не обольщайтесь – он из породы тех, про кого сказал однажды Лермонтов «Богатыри – не вы! Лихое им досталось время»). Водила скучал, болел, пил соду от своей язвы, извелся от безделья. «Всё, — успокоил его, — еду от вас в Ханты, ищу оказию. Не дремайте, ждите. Перед выходом к вам – даю звонок на местную почту, они передадут. Будьте готовы».
— Всегда готовы. Как пионеры, Шеф.
А где второй, крутой и знаменитый, наш неустрашимый тракторист Борисов, который немало мне нервов подпортил, укоротив их до блиц-минимума, и благодаря которому я все же выполнял программу изысканий и не так здорово еще поседел.
Чиф зашел на почту, по-родственному покалякал и передал свои будущие пожелания. Оказавшиеся рядом поселковые доброхоты подсказали местонахождение Борисова и его повадки «сейчас-здесь». Уже неплохо для начала поиска. На частной квартире его «не сыскалось», хозяйка недовольно сморщилась типа того, что он на рыбалке. Ну вот и ладно. Пришлось наворачивать обратный курс, к Иртышу и чуть правее, где обычно имели место те, которым не сиделось дома и люба их была о буйном Иртыше. Знал Чиф это место, порой и сам стоял, провожая взглядом в темных сумерках тур-теплоход «Чехов», горящий всеми палубными огнями.
— Здравствуй, Борисов.
— Здорово, Шеф, — он не удивился, вроде так и надо – человек, отвыкающий от благ материковой цивилизации. — Чиф, торопишься? Мне бы еще четверть часа – щука пошла... подождешь? Аль некогда?.. Да и мы заждались здеся.
«А жрать что-то надо, да? У тебя-то, Чиф, всё ясно и понятно – не балуй, и запросто из этого дерьма не вспрыгнешь, но это у тебя будет потом, а нас вот так сейчас и сразу. Кушать хочется, да и выпить не грех, но и рубли кончаются. Как выжил мой напарник с ГАЗ-66? А ему, божьему одуванчику, много и не надо – одной ногой в могиле... Ну а мне-то сорок с небольшим всего, кушать хочется, да и по бабе соскучился. Не в обиду, Шеф, есть что закурить? Помнишь, я с тобой махрой делился...
Помню, мой дорогой Борисов, помню еще и то, как ты, сволочь полудремучая, нарушил мой приказ и рванул на ночь глядя по окончанию дневных буровых работ домой без фар, которые у тебя зачем-то сдохли, и вляпался ты по полной программе в северном декабре под лед одной из проток в своей поганой дороге «лишь бы домой угреться и замахнуть». Полгода потом перли тебя из этой протоки силами «ООН», после чего мне взбрыкнулось отдохнуть с двухсторонним отечным плевритом. Уж не мне ли, Чифу, забыть? Коль «морду» моют до сих пор...
— Борисов, чем от тебя воняет?
— Да одеколоном же «Тройным». Дешево и сердито. Надолго...
— Слушай, ты, ас мой хреновый: я приведу транспорт за нашим грузом – и чтобы я тебя не искал... — я объяснил дальнейшее.
— У-понял, Шеф! И что бы я, сирота, делал без вас, командиров... Командировочные, табак и водку – хоть что-то привез, Чиф?
— Борисов, все исправно по почте, оттуда и дуйте ваши полевые и заупокойные. И не моя вина, что здесь в поселке не прет водка и табак...
— Да, Шеф, не успевает навигация. Вот и выходим из положения кто как сможет. Как насчет сигаретки, Шеф? Не хочешь лишь «тройничка»?
Чифа чуть не скрутило, он выщелкнул из пачки сигарету. «Ну, пока», — так обрешили оба в ту минуту.
Ну вот и ладно. Темь без фонарей зажрала берег и дома, успокоила и без того нешумный поселок. Пора и до начальства добрести – побазарить о помощи при будущей загрузке. Новый управляющий жил недалеко от «геобазы», туда и прямым ходом – последнее осталось «удовольствие», поутру на штурм Хантов!
Последующие полторы недели для Чифа превратились в кошмар, и в воспаленном мозгу будто три молоточка: Искать, Выжить и Связь с Большой Землей.
Искать. Он уже пробил вопрос о барже с совхозом «Сибирским», куда, как отделение совхоза, входил их геолого-базовый поселок. Они, геологи и совхозники, выручали не раз друг друга ранее, у совхоза большое богатство – баржа с аппарелью, у геологов – деньги и возможность помочь дальнему отделению совхоза.
— Сейчас не сможем. Крутое и горячее время. Не обессудь, начальник! — хромой председатель совхоза, герой Соц. Труда, кандидат наук пожал с сожалением руку геолога.
На нет и спроса нет, жили богато ранее, а сейчас пора и в разбег – всякому дорога своя кормушка. О председателе Чиф был очень высокого мнения. «И не наша вина...»
Выжить. Кончались кормовые и командировочные, пояс полагалось подтянуть, для более стройной фигуры. Чиф рванул в Ханты-Мансийск; по вопросу жилья в гостиницах Хантов – на сегодня все забито; поперся в дешево-доступный Дом колхозника...
— Если вы колхозник...
(— Да не колхозник я, а нищий геолог в командировке).
— Если же нет, то дождитесь вечера, вдруг что освободится. Но тариф для иногороднего у нас...
Оплеванный и бездомный Чиф побрел дальше. До ближайшей булочной, изделия которой должны были составить его будущий паёк, так называемый дневной рацион, а ночью – нечего жрать, да и зачем, обжора! Привыкли в геологии от пуза...
Входила в сознание Ленинградская блокада.
Связь. Большая Земля не давала покоя, ибо чековая книжка конторы пылилась без дела у него. Дважды в неделю он должен был выходить на связь с Б.З. и докладывать о своих успехах. Связь держали через метеостанцию, что вольным красивым городишком раскинулась чуть сбоку и рядом с Ханты-Мансийском. Б.З. радировала – чековая книжка срочно требуется гидрологам, работающим в устье Иртыша.
Круг снова замыкался, без особых усилий и без шансов на успех: Искать. Выжить. Связь с Б.З.
Чиф шел снова и снова «на круги свои». Ему гарантировали неделю поисков, но время «Ч» уже перевалило «за». Какие там погони и мордобития, выжить бы в этом прекрасном мире.
Наконец связь через метео меня достала, заполучил «леща» по полной и мне определили место встречи. Ну конечно, знаю то место и ту точку; ну конечно, знаю, что место встречи изменить нельзя. Да оно в принципе и понятно: гидрологов я не должен подводить под монастырь, люди они напряженные и озабоченные еще круче меня. Тем более я этих ребят знал отлично и подводить их не собирался... в геологии не любят понятия «темный и ненадежный... тварь».
Балдеж, после многочасовых погонь сижу вот так... Чиф раскурил сигарету, глянул на часы – да, можно уже закуривать по табачно-эконом графику. Балдеж... можно ни о чем не думать, помечтать пару минут, насладиться коротким мигом рая, глядя на спокойную воду затона. А-а-а! Прибойно-катерный след ударил в берег – и враз ушли иллюзии спокойной жизни.
— Здорово, Чиф, — оба начпартгидро так и знали меня под этой северной кличкой. — Чековая с собой? Прекрасно, командир. Некогда. Когда ее обратно заполучишь? Нам ненадолго, держи связь через метео, там наш человек. Ну все, братан, по рукам. Прощаемся?
— Да, — прохрипел Чиф.
— Стоп! — один из гидрологов тормознул водилу моторки. — Чиф, ты что за дерьмо куришь? — и в морду геолога полетела пачка американских сигарет, швырнутая уверенной загорелой рукой.
Взревел заново лодочный мотор.
— Стоп, коммандос... — и оба гидролога, за исключением моториста, сошли на берег к Чифу. — Давай, Чиф, по сто с прицепом. Когда еще бог даст...
И они ушли. Как те моряки, которые ходят, а не плавают как... Туда им и дорога... большому кораблю! Ребята дело знают. Ну вот: «Связь есть, где-то должны быть «Искать» и «Выжить».
А ты знаешь, Шеф, это твое «Искать и Выжить» что-то ведь сродни «Найти и не сдаваться», аль согласие твое требуется?
Не прет! Что молчишь-то? Ведь ты пришел годами своими – всё ж тебе целых 35, и с опытом своим – как ты хвастался, что уже в 24 командовал полком (был главным инженером щебзавода по молодости) – сюда пришел и никуда иначе! И ты отлично понимаешь, что эти временные условные философские штучки (а что, Шеф, ты на самом деле в институте имел трояк по философии?) здесь на малом севере не пройдут. Может, еще потянет другое, а именно: искать и выжить, эти понятия взаимосцеплены при данном раскладе сил. А посудите сами: искать для чего, чтобы не выжить? Выжить ради того, чтобы не искать?
Вам и нам хорошо, когда брюхо не пустое, можем тогда и культурным штурмом взять ценности края...
Шеф сплюнул горькую слюну от табака на землю – такая только «когда куришь натощак», забивая голод. Он давно забыл, когда пил чай или газ. воду; трухнул на плече свою синюю сумку – «свое ношу с собою», где ждал часа недогрызанный батон (до серого хлеба очередь пока не дошла – всё впереди у нас с тобой!). И побрел. Центр и его округи он и так неплохо знал, сейчас узнал еще лучше. И все равно не успевал собой восторгаться, когда успевал открывать для себя новые Ханты.
Любил Чиф, сильно возлюбил этот маленький городишко в северной полутундре. Сам выходец с Урала, Шеф страшно (по одной причине – ну, конечно, любовь, завершенная крахом во времена его института) невзлюбил после 1970-гго свой областной центр (так и осталось потом). Ну и! Не жалею, не зову, не плачу... А вот этот городишко в 28 тысяч, чуть позже – в 32, перевал-база с крайнего севера и от Обской губы и рядом, стал ему дороже крыши и родного края. С ним – сволочь такая, град Хантов! – ложился в путь и снова умирал на его подступах. Город, люди, бичи и жители, малины и трущобы – всё-то пришлось перевидать Чифу.
... И недаром геологические годы, вторая экспедиция и Ханты просто так с годами не отпустят седого Чифа, войдя в его многолетние кошмары, которые будут рвать и метать во сне... На подобие его отца-фронтовика, который командовал во сне и ненароком ушибал жену при отражении врага или же...
Но это всё потом. Глаза закрою, вижу...
Через гидрологов заказал матпомощь. Может, подойдет. Когда? Пока ночевал в аэропорту, благо не гоняли. Потом нашел странную явку – в МТФ (молочно-товарная ферма), где «один из этих, покорявших север, Абхазию на мандаринах, в Казахстане на строительстве и т.д.» дал мне наводку: прешь в аэропорт, сворачиваешь направо в брошенную МТФ (а где коровы? Ведь они раньше были и доились), вот он, домик персонала и под крыльцом ключ в рай...
Купил Чифа с потрохами. «Какие песни пел он про север дальний». Пешком – не в злыдня, долго шел и подрулил, ключ с грехом пополам нашел через полтора часа... Шеф зашел под крышу дома своего, заварил супец из пакетика где-то на задворках империи... поел горяченького и улегся довольный на голые доски для бывших доярок – грело, какие они были здесь? Тогда и в глуши? (Почему цивилизация отсюда ушла и зачем?) Так что Чиф отлеживался в этой негласной берлоге две ночи, а потом пришел хозяин, и пришлось его подкармливать супцом... Далее Шеф забросил эту явку как экономически невыгодную. Не вперло в его статью расходов.
Он просчитал все точки, куда следует соваться по речному вопросу. И все же – края неблизкие – не успел бы порвать много своих заяв на день, и потому вечер тихо и мирно убивал вхолостую... жуя батон зачуханный или же хлеб посвежее, он радовался судьбе и удаче... без воды, не запивая – днем старался везде и всюду напиться, – Шеф закуривал после «ужина» свою вечернюю сигарету и мечтал, скотина, мечтал, как собака без крова – а вдруг его ждет его любимая дочь?
«Чиф, остынь, дурак: ей всего-то десять лет от роду, не успела она еще ни соскучиться, ни затосковать по тебе. Да и жена твоя там рядом, мать дочери... да и богом при твоих рублях они не обижены. Кто ты им и зачем, привидение северное, рыцарь благородных полей...»
Плохо, все плохо, ой как плохо, когда нет своей баржи под задницей. И Чиф брел по аллее Югорских Героев, тщательно читая их фамилии. Слава героям!
Открыли самый дальний закуток, в который не заманят и награды... Открыт, закрыт и порт Владивосток – это уже наш В. Высоцкий, вроде как в мою «воду» смотрел. После института Чиф должен был попасть во Владивосток, но судьба-злодейка определила его в Красноярск, - где он быстро и скоро женился.
Уже седой и старый Шеф, нашедший карту Ханты-Мансийска в стиле «туристская схема» в своих древних архивах, в сердцах бросил сиренево-узорчатый клок бумаги. «Да пропади она пропадом! — закричал он. — Всё не то! И все правильно на схеме, она 85-го года... На год старше меня «того» года. Но не узнаю тех мест! А где сам Иртыш с речниками, что вдоль реки стоят от аэропорта до самого края, то бишь до речвокзала? Да, и забыл, а где же база «АВТО» геологов... хоть тресни, там где новый люд пытался перезимовать в толевых времянках...»
... В том и твоя беда, Чиф, что рвался ты в никуда... Да?! Ну и пошли вы... с аэропорта по улице Мира, сворачивая на улицу Гагарина, которая и выведет нас к незабвенному тогда Ханты-Мансийскому речному вокзалу.
Где-то здесь, в пяди от вод Иртыша, пароходство, о котором ведал и знал Чиф и куда он направил «вторые» стопы.
Люди в форме, при галунах... Чифу даже удалось по прошлогодней акции попутного завоза ГСМ танкером в «его дебри» поздороваться кое с кем... Но в остальном: «Мы не занимаемся мелкими частными поставками». Рация, доклады, связь, карта с фишками, погоны, форма – впору разинуть рот от Иртышского пароходства, которое не занималось мелкой благотворительностью и решало в свою навигацию заботы своего края.
Ноль-один. Точнее, с учетом совхоза «Сибирский», уже ноль-два. Не в пользу Чифа.
«Бардак, — решил Чиф, выходя из двухэтажки пароходства и закуривая внеплановую сигарету. — Ишь, расселись», — подумал он уже с уважением к этой конторе. «Широко и правильно живут».
Нам бы так на оставшиеся гроши!
Так что теперь? А загрызем сухпаёк и в другую сторону, и подальше от речвокзала... где-то там снова близко Иртыш.
Два будущих дня – коту под хвост. Шеф гонялся за «речными призраками», преследуя их конторы и выискивая среди этих улиц Лосева, Зырянова, Заречье, Луговая и пр. своих будущих жертв – их не оказалось... были встречи в кабинетах и на улицах, долгие ожидания и короткие деловые схватки... всё насмарку. «Нет такой специфики». И край города – одно и двухэтажный речной окраины, деревянный из бруса – угрюмо взирал на неудачливого гонца из далекой цивилизации.
Баланс становился страшным: ноль-три. Оставался район Сельхозтехники, где базировались речные почтовые катера, что не так далеко от центра города; и еще – последний «шанс-гаденыш» – где-то по дороге из аэропорта в центр и затем вали круто налево до Иртыша, далеко и гнусно (врагу не пожелаешь), и о «них» Чиф знал весьма смутно и ведал о том лимане весьма неопределенно.
Становилось скучно и грустно. Известная композиция – и некому лапу подать. Несмотря на «помощь», Чифу не светило материальных благ: сосал лапу, крошки, знавался с «нищим в горах» (сигареты «Памир», самые дешевые, дальше некуда... далее шестикопеечная махра образца 1943 года).
Причал почтовых катеров Шефу был знаком, когда-то он с ними «по оказии» прорывался из Хантов до начала навигации. И знал их зама, знал кой-кого из катерников – толковые люди, строго по расписанию, обязательные моряки и где речных бродяг особо не жалуют.
— Плохо, командир? Да заходи, макароны по-флотски... остальное ни-ни. Хочешь, зароем в посылках и доставим зайцем?
— А баржей у вас случайно не водится?
— Да не держим такого хозяйства. Нам оно ни к чему... лишняя обуза.
Ноль-четыре. Время угрожающе нависало над Шефом; Центр рвал когти по его шкуре; его два помощника «там» с каждым днем, Шеф понимал это отлично, размагничивались до полускотского безделья.
Где же вырвать баржу с «водилой», можно даже самоходку, за копейки чековой книжки, в середине навигации, где и когда всё горит синим пламенем...
Ответьте, люди!
Расклад после долгих поисков был теперь ясен как дважды два. Если бы Чиф свалился мордой в Речной вокзал, где рядом обитала контора Иртышского пароходства, то вытянутой правой рукой он уперся бы в Затон, левой в Лиман (или как его там обозвать), а ногами бы вперся куда-то за Райсельхозтехнику в Почтовый залив, где базировались катера почтовой связи... где-то впереди, в сотне верст вверх по Иртышу маячил бы перед хитроумной мордой Чифа колхоз «Сибирский» с его недоступной баржей и колхозным катером. И кругом для него пока шли одни нули.
Иди, Шеф, в свой Лиман, о котором ты знаешь только понаслышке и даже как туда попасть тебе неизвестно... Пока. Знать бы, где упасть больно – рухнул бы заранее, аль соломки вовремя подстелил.
... Год спустя он закончил работать начальником партии этой изыскательской экспедиции и вообще менял место жительства по своей доброй воле с Зауралья на Центрально-Черноземный регион... Самолет ТУ-154 вылетел из Кургана на Москву, но по каким-то причинам Москва не приняла «борт» и отправила его в Воронеж. Уже много позже Чиф понял, что здесь-то и надо было ему «сойти» – до его нового места жительства оставалось всего-то ничего, какие-то полторы сотни километров... Но тогда ничего не дрогнуло в душе Чифа в том Воронеже по принципу «Не зная броду – куда же в воду», – он уже терял образ и навыки того дикого прошлогоднего и неповторимого Чифа. За что и был наказан: вместо Домодедово сидел и ждал в Воронеже, затем летел «Воронеж – Москва» (это был последний в его жизни авиарейс, девяносто второй по счету полет за его шестнадцать «полетных» лет; первый полет по маршруту «Свердловск – Балхаш»); самолеты из Воронежа на Домодедово не летают, их принимает другой аэропорт – Быково; потом с Быково чуть ли не электричкой до Москвы; бывший Чиф вынужден был болтаться до вечера по Москве и наконец вечером отбыл с Курского вокзала (в другой бы раз он, может быть, и рад был поблудить по столице...), и прибыл утром злой в свою будущую град-обитель...
Каков крючок! Каков скачок!
Знать бы поболее и позаранее точку падения.
... бы-бы-бы, но не растут уж там грибы...
Стоп, командиры, – за кадром. Всё, братва, поушибалась, поисплакались... дубль пятый! Пошел.
А куда пошел этот дубль-нуль? Только нам он известен...
...Ну, здравствуй, это я!
Больше полторы недели поисков явно не оставили Шефа в спокойствии – удар был силен, чего он и ожидал в своем северном варианте. Ну жрите! Где вам... Нам... урвать «свое» средь навигации?
И наконец-то до «глупого» Чифа дошло: он не игрушка, не инструмент (Чиф, в музыке тупой, не играет на гитаре и аккордеоне...)... Всё сдохло, а он еще трепыхается по-социалистически. Впору ему завыть под его 60-ю параллель.
Хватит пить водку, экспедиционные придурки: все с низу, и все на верху! Но ведь поздно пить «Боржоми», когда почки отпали.
Я – и они... они правы и правильны, когда гнут и гонят меня во имя своих святых туда, черт возьми, куда и награды не заманят.
Да перестань ты стенать! То, что тебя не «понимает» зам-нач-экспедиции... Ну и? А вот доверяет ли тебе новый начальник экспедиции, прошедший Индию... вот это уже вопрос интересный...
Знал и понимал Чиф – не всё так клево и наверху; они думали, что задание у него проще простого...
А просто, наблюдатели северные, не получилось. Не поперла масть. Новый начальник экспедиции, человек мудрый, дойдет до него. Но вот остаточная тупость после 86-го года неотвратима...
Чиф был обречен... делая подвиги и идя на таран, он уж не знал, кому служил: бывшему всемогущему союзному Гипроводхозу, СССР, Родине или же...
Контора есть Контора! Контора внутри политики становится «мини-политико-конторой»... да избави нас Бог!
... Поумнел потом иль сразу понял?
И все же я, Чиф, не понял: куда кидать сети гладиатора и есть ли смысл махать ими в нашем двадцатом веке?
... Пойми, ты человек жесткий и неудобоваримый, ты будешь вечно изгоем...
Понимаю вас! Грядущих... Но очень уж у вас много ненужной философии: Канта, Фейербаха, Гегеля, Ницше – ну а мы-то здесь причем? Я понимаю, что у студента тройка за философию, четыре по историческому и диалектическому материализму... Ну, не смог он полностью реализовать второй съезд ВКП(б), зато на «отлично» отпихнулся от научного коммунизма, преподавал его им и на высшем уровне полковник КГБ в отставке... Слава – святых! Из нас, оболтусов, делали не только «профи», но и будущих моралистов – а мы, они и вы должны и быть обязаны были стать восемнадцати-двадцатимиллионным дивизионном КПСС... И быть посему!
Нас прекрасно учили в ВУЗе, совали нам от спец и до полит-программ ... И Чиф вышел оттуда абсолютно грамотным (в его семье он был первым с высшим образованием). На том и стоим?
На нищете нашей и глупости? Глядя на «Севера» – просторы и порубленные поселки, на народы, в их 30-е и последующие?
А, впрочем, какое мне дело?
И жутко становилось Шефу – может, опять и вновь повторяется? Тогда где же благодатное время после сталинско-забытых годов, для чего забыты и не нужны стали мелкие и правильные совхозные точки (и это-то на неблизком севере), МТФ под самым Ханты-Мансийском, поселок Мануилово-Сталинское и много еще чего интересного...
Повидал Чиф свое диво, раньше надо было, придурку, успокоиться... Он сейчас успокоился. И рванул под «крышу» знаний.
Еще раз спрашиваю – кто лучше Чифа, несмотря на него самого, знает здесь ходы и выходы? Многие, конечно. Даже очень.
Ханты – рыжие, манси – черные.
Манси-вогулы уходили даже под Урал... черные и невысокие ростом. Ханты – близки до уральцев. Как там говорилось в 30-х годах СССР: (а и забыл...) – долгано-вогульский... ныне с населением более миллиона человек от Тюменьщины до Обской губы и оленей... там где-то Салехард, там леший бродит и олень у нас тот ягель рвет.
Шеф там не был. Это уже севернее шестидесятой параллели. Там начинается северный тропик и северные, по-настоящему, кошмары...
Так что благодари бога, Шеф, что шкура оленья к тебе пришла задарма, а оленьи рога даром и ни за что... Вот только больно и обидно за «Чернобыль плюс Север»...
Но да тебе не первый раз подыхать...
Лагуна, Прибой или Лиман, что где-то возле АТП-геологии – это ли мне, Шефу, надо было? Всё мертво и некардинально в этом подспудном мире; там, где нет правых и виноватых, скучно становится жить в мире... Ужель никогда не отгадаешь судьбу?
К директору Чиф пробился – странно, аж самому не верилось, – за две минуты. Директор, прекрасный прямоподобный, спокойно ответил Чифу:
— Мы не занимаемся извозом... сталинским... Вы понимаете, о чем я говорю?
Чиф прекрасно понимал и уже все плыло перед глазами в пустоту грядущую; он только не понимал и знал одну из своих ведущих химер: ему надо выплыть, ему надо выжить! И опять же вопрос: если его, Чифа, сюда сунули, то...
... Чуть ранее его начальник экспедиции, русский «индиец», зашел с дружественным визитом в бухгалтерию и просто сказал, что «моему начальнику партии на севере надо выслать чуть командировочных»... А где приказ?
Суточное исполнение?
Он не знал, куда ехал???
И что, мы должны много?!
Спасибо моему индийскому «другу» и всем раджам (слабоват я здесь) – деньги от нашей бухгалтерии мне были...
... Спасибо за хлеб и соль, сволочи!
И чтобы подавиться вам нашими отчетными копейками...
Они-то, впрочем, при чем?
Да и мой большой шеф – зачем?
Шеф со своей зачуханной позиции понимал так: не сожрали ранее – значит, выжидали, пока станешь корм-человеком; если же не попрешь толково и сверхправильно – значит, грош тебе цена...
... в нашей гидрогеологии, где всё схвачено и за все заплачено, где норм и нормативов иных нет.
Динозавры должны вымереть!
И однако нач-экспедиции отлично понимал своими мозгами, что лучше того, кого прозывали в народе (и любили) Чифом и Шефом – только он попрет по опыту и закалке на последнем Севере!
«... С годами низко кланяюсь вам, Владимир Владимирович, мой последний Шеф... далее в жизни я уже не терпел Шефов и Боссов...»
Но то потом, не сейчас же.
Мой Большой Шеф сделал правильную ставку. И он не проиграл. Тогда, на мне.
Начальник экспедиции?
Зам. нач. экспедиции?
Все это дерьмо и нервотрепка, наконец-то входящая в русло:
нет канала?
а что ж скрывали?
И засунули Чифа туда, где рак не ночевал. Спасибо, командиры мои, я это уже проходил, вам и не снилось, в 57-58-ом годах, до которых вы еще с усами не дорастились – первые уроки атомной аварии.
Да, мой командор – начальник экспедиции, человек из Индии, много лет пропахавший там, – бросил мне жребий, ведь надо на кого-то ставить? Он не проиграл.
По-русски это называется «кого затронуло чужое горе?». Новый «индиец» доверял своему прево: штаб есть штаб, но впереди овер-штаг (поворот всем сразу)! И ему лучше, правильно и толково надо было вырвать деньги у глав-бухгалтерии для... Туда, на север, тому Чифу!
А Чифу приходил конец... морально-нравственный. «Сука!» — взъерепенился он, против кого-то и зачем... Да и почему?
Ну и?
— Да нет, — спокойно ответил Чифу на его вопрос. — Мы не занимаемся посторонним извозом.
Ну, на нет и спроса нет. Значит, все померли.
В кабинет директора (конторы – учреждения – предприятия?) вошел человек в форменной одежде флота.
Откуда здесь речник? Да и правильно все это... это ты, дерьмо, геолого-пехота, не знавши мордой...
Чиф вытаращил глаза на форменку: рубашка – ать, при галстуке, галуны надраены ( не вам чета, сухопутным крысам).
Ну и? Счет-то нулевой?
... Лиман мой Лиман, как он мне стоил дорого здоровью и моим новым сегодня волосам...
«Да плевать, — сказал тогда Шеф себе, — и так насквозь «при луне». Ну буду там: шаг вправо-влево, чуть русее или «блондинистым» не попрет мой бог, осерчает...»
Осерчал твой Бог – Чиф, прогневил ты его, лапоть смердовская!
Но опять же: если не я, то кто?
И этот моряк при эполетах говорит так буднично и спокойно:
— Сергей Николаевич! Мы сейчас идем в Тобольск, пустым барахлом... Чем нам помешает что-то?
Что-то? Это я, Чиф, предлагаю за голую чековую адью, вам не дерьмово-нехолостой ход!
Чиф долго смотрел на своего спасителя: форма красивая моряка, себя уважающего, при галстуке к светлой рубашке, кителе и шевронах!
... Кстати, при всех своих «полканах» Чиф почему-то любил только себя и своих замученных буровиков, остальное не ставя ни во что! Ему это еще как аукалось – ведь и посильнее люди «брякали оружием» в тех северных «степях», хотя бы те же нефтяники!
Да и глубокая разводка в Хантах и Обь рядом – не дремали тоже...
Все видал «это» и понимал нехотя Чиф! Вот только гордыня не дозволяла, свергая его вниз, в брехло... А это уже происходило... за крахом государственным шел крах другой... Его, страшный!
Моряк Лимана (в переводе – главный инженер, что ли?) сказал свое толковое весомое слово своему директору... И дело пошло?
Кому мешают деньги? Северянам? Брежневу усопшему или «горбатому»...
Чиф оттянул на себя брошенную синюю плечевую сумку, где у него: (все свое ношу с собой) грязное полотенце, остатки зубной пасты и замусоленная щетка, последняя пара свежих носков, чековая книжка, документы на «Я», суточно-футовый паек... а бренчит, сволочь, на всю пудовую гирю, тварь! И приготовился страшным боем к последней смертельной атаке.
— Чем платить будете? Чековой? Годится.
Чиф вспомнил своих мудрых бухгалтеров из филиала, гидрологов-ходоков за «чековой» – они молодцы, четко потом выдернули ее на потом на метеостанцию, где я и сгреб ее заново себе.
... Ну вот и всё... ну вот и ладно... именно почему-то моряк ушел с моей «чековой» в свою бухгалтерию... А почему директор не зарычал по связи на бухов?
Спасибо командирам-гидрологам, орденоносцам моим (какими они и были на самом деле), не подвели меня в гребне Хантыйской жары – «чековую» врубили на метеостанцию быстро и сразу... пароль сработал и я отгреб ее, мою радость «тысячно-бумажную».
На Лимане она сгодилась.
У геологов и гидрологов свой смех и анекдоты... Я, Чиф, потом скажу, если успею, а вот про гидрологов...
Почему бы не посплетничать.
У гидрологов посты на два человека, плавают, замеряют. К ним по графику едут, берут данные, и периодически подбрасывают продукты. Когда скрутило на посту женщину-профессионала, стажер догадался вызвать «срочную», ему сообщили – жди помощь, замены и подмоги... он ждал, чуть не сдох от романтики на водах Иртыша (комиссия признала: все замеры его правильные и своевременные)... Ну а потом к нему под галдеж и лай, только старый попугай... Пришлось стажеру пройти курс реабилитации (орден не дали): он пил на своей работе только чай и воду, а тушенку и сгущенку не успел (не смог?) вскрыть – и ведь был топор, нож поганый, не было только открывашки...
Вот такой анекдот – у гидриков...
Второй круг брать...?! Это уже выше сил и возможностей... надо слишком уж сильно поднапрячься, дабы выйти на финишную прямую или уйти на второй поганый круг. А особенно – когда один и един во множестве, и лапу некому подать. Осязание, обоняние и пятая точка у мужчины – все притупляется с годами старого и мудрого бытия, даже шкура дубится и не понимает жары и холода, можно спокойно брать горячую штуку голыми руками или совать пальцы в ледяной кипяток. Но вот глаза и уши – от этого пока никто не уходил; хотя, конечно, уходящий да пусть уходит, но от своих слуха и мировосприятия вряд ли удалишься в триединую пустынь – и да будет человек вынужден до последних своих презренных лет видеть и воспринимать все вокруг себя, радоваться красоте и бытию, и слушать всякую мразь и изолгавшихся своих и чужих людей и другов-недругов, уши-то не заткнешь. Или, как там у Высоцкого: глаза закрою – вижу... Что там у вас, старых мудрецов, которым 60?
Но мне-то ведь всего 35! Да, Чиф? Ну, а еще какое там, распоследнее чувство у тебя растрепанное... Совесть и душа, да? Так? На том и стоим. Совесть вообще невесома, а душу уже потом вычислят и установят научно, что она весит 80 грамм. Всего-то; копеечная душа против нереализованных тысяч.
Чиф вытаращил глаза, когда в кабинет директора вошел сорокалетний красавец-моряк в форменной одежде. Хоть и понятно было, что сия «контора – учреждение – предприятие – или как его там» водоплавающая (ведь верной дорогой брел Чиф). Но всё же, всё же! Всяких чудес и многих «чудесников» доводилось увидать Чифу при жизни: космонавта Беляева, знаменитого врача-ортопеда Илизарова, Леонида Ильича Брежнева, поэта Льва Ошанина, эстрадных звезд тогдашних... Нет, не ври себе, Чиф: когда после 12-го апреля 1961-го все вскидывали руки в классе на вопрос «Кто хочет быть космонавтом», на него, не поднявшего руку для единого порыва вверх, почему-то косо и подозрительно воззрилась его классная руководительница (Чиф: ну не хочу я быть космонавтом для единоразового подвига... уже позже в душе его запел Высоцкий своим «... вперед и вверх, а там – ведь это наши горы, они помогут нам»). Не хотел маленький и будущий Чиф быть и пожарным: пожар – это хорошо, тьфу ты, плохо, потушил за раз и жди следующего, тьфу ты. А нам, орлам, подавай всё сразу и надолго, каждый день и постоянно. Вот моряком Чиф сегодня бы стал, глядя на вошедшего; качку переносил отменно, чего же более?
Почему-то при виде кадрового форменного речника лед начал сходить с души Чифа. Он что-то еще и пока не услышал – не увидел, но дар, сердитый и злой (потом это будет официально обозвано как экстрасенс), уже тыкал перстом в светлое будущее.
— Какие проблемы? — речник.
— Да нет пока. Ты что? — директор.
— Да забежал по ходу дела. Потом уеду на полдня, потеряешь меня...
— Володя! Мы попутных маршей не делаем.
— Если надо – и девятый вал на своем родимом Иртыше завалим. Есть вопросы?
— Да вот ходок у меня сидит. От геологии. Перебросить остаточный гео-груз от пункта А до пункта Б...
Захохотал речник, вроде как обрадовался шутке директора. И смеялся искренне, без всякой рисовки и подыгрыша под своего шефа – просто легко смеялся, красиво и спокойно; от такого хорошего человека и рябь уходит. Ну совсем растаял Чиф после долго-недельных кутерьмы июльских Хантов, как вдруг ошарашил его голос, фраза и сталь Речника.
— Командир, кто это?
— Геологи.
— Что ищут? У нас тут все работают на нефть или глубокое бурение. Они – чья контора?
— Не те, помельче. Была крутая крыша – слыхал о Большом Канале? – да и та упала. Инженерная геология.
— Энто хто? — пробился юмор речника. — Всех в округе знаю... тех, кто всё ищут, а ничего не потеряли! Помочь, командир, им надо. У нас идет в Тобольск катер с двухсоттонной баржей, пустые – затариться там и оприходоваться для города; по разнарядке свыше. А чего по пути не порадеть? Гроши отгребем попутно... для фирмы. И чем нехорошо?
Чиф уже лез в свою плечевую сумку, натыкаясь там на хлеб и зубную пасту с полотенцем, за чековой книжкой и еще чем-то. Его полуседая щетина напряглась и побагровела под внимательными чужими глазами.
«... Да чтоб ты подох, — закричала после войны его мать, — ни сна, ни покоя, достали», — и швырнула его, третьего по счету у отца, куда-то...
... Детская память неблагодарная, помнит все раны и обиды, не оттого ли им предстоит Большая Дорога?
— Да ты не мельтеши. Видим, что «поизносился». Сам-то чей? Уральский... У меня там дядька, всё зовет к себе; под Свердловском... не, где-то на Северном Урале; поет, какая там глухомань и тайга, одни медведи бродят, — у Речника прорезались на лице скобки и в глаза кинулась его скрытая белизна волос; ба! Чиф, куда же ты, хренов экстрасенс, смотрел-то: речнику не сорок, а далеко за полвека!
... То были другие времена и другие моменты. То был тогда еще «могучий и нерушимый», а у «такого» и люди крепки и надежны; тогда любили и уважали нищих, студента и солдата. Уж не говорю про Север Тех Времен – тебя там не бросят на произвол. На Урале чуть по-другому, чтобы жизнь медом не казалась... В Сибири: было бы за что – совсем бы убил. Смешно... Не очень, правда. Скорее и смех и грех. Но да и мы не шиты лыком: жить будем – не помрем.
...У, как складно! А как же! Века сзади подпирают!
Всё, Чиф – банк на столе. Счет нулевой, который пер не в ту степь, аннулируется. Глаз задергался, левый, от нервного тика, в голове стало муторно. Пошла, родимая!
Директор вызвал секретаршу, что-то забубнил о чашках и «никого не пускать, десять минут не принимаю». Моряк сидел где-то сбоку, по-демократически, не встревал во мнения своего шефа, прямой, деловой и угрюмый.
Чековая книжка подписана и заверена. Бумага оформлена. Официальная часть закончена.
Лезу в сумку за «неофициальной частью». Директорат улыбнулся, подмигнул: «Ну, зачем? Это уже лишнее», угреб «мое» в сейф и водрузил на стол уже «свое», северной жирности.
Терять Чифу было уже нечего. А вообще-то, что нужно человеку? Тому, кто дошел до точки? До своей границы. Скорее всего, и не ошибусь – пауза нужна, перерыв, обед, чарка-две водки и прекрасного человека с Севера на пятнадцать минут.
— Так идем, командир? Как тебя там, напомни, именуют. Время – деньги, у директора забот по горло, а я тебя отведу на причал, познакомлю с экипажем и заодно задачу им поставлю.
— А запах? От нас? Может, завтра поутру?
— Ничего. Морду в сторону. Пусть только разинут пасть... Время – деньги, забот полон рот, да и чтоб полосатая братва не успела протухнуть и заржаветь...
Моряк очень внимательно вперся в меня глазами: «Жалеешь их, командир? Плачешь впустую и заранее?»
Чифу стало жутковато.
— Конечно, у нас здесь не Обская губа и не море Лаптевых при Арктике. Но да ведь и мои кадры – «река», макси «река – 200 км морская зона». Вот и всё, что мы имеем.
— А люди?
— Не дрейфь. Все водоплавающие; капитан – с дипломом от Тобольской мореходки, даже чуть тебя помладше; молодой, но ранний, вполне прет на Реку, но вот дальше не уйдет. В экипаже...
Мы спускались от конторы по нормальному и приличному спуску по берегу к родимому Иртышу, где причал занимал Флот Лимана.
— В экипаже по штатному расписанию четверо; сейчас работают трое: капитан, штурман, рулевой... Нет матроса – за него они получат деньгами. Кубрик на четверых, у капитана отдельной каюты нет, железный гроб – гальюн. Ты был на судах? Прекрасно, уже понял, что не с салагой веду разговор... И что? «Лоцманов» понимаешь? И что я тут, турка среднеазиатская, пред тобой, салабоном, не в обиду, распинаюсь. Сколько ж тебе, если в своей хреновой и непонятной геологии ты уже полуседой? Я же вижу: брови черные, взгляд наглый...
Вот тут уж Чиф захохотал. Нагло, смело, освобождено. Пар вышел, и какой – высокого давления!
— Я что-то не то сказал? — моряк.
Всё, всё, всё ты правильно сказал, мой дорогой моряк, и правильно сделал. Я спокойно, без зазрения совести, залез в боковой карманчик своей синей «плечевухи» и вытащил оттуда хорошую советскую купюру.
— Ну ты даешь. У нас так не принято.
— А знаешь... мне уже скоро 35! Да и вы у меня оказались последней божьей инстанцией...
— В бога не верю. Извини.
— Да я не про то. Все вы, все мы, через север прошедшие – уже не верим в него. А особенно ссыльные сюда из 30-х годов.
— Парень, да откуда ты все знаешь про наши беды и горести? Не ведун ли ты? Родом не потянулся ли из наших горемычных тридцато-северных?
— Вы отсюда? Северный?
— Да. И корни мои... Ну, только армия – три года, Тобольск – мореходка, а остальная душа и тело – при Хантах.
— Спасибо.
— И тебе, командир. Аукнется где плохо – ко мне. У нас директор – шикарный, дело знает, дела не чахнут.
Причал. Залив. Доблестный экипаж Сторожевого. Сзади болтается баржа, пришитая к берегу. И еще раз – моя команда катера на ближ-время-рейс. Жалко, не успел спросить морского командора: как с харчами, где и куда. Ну да ладно: команда «объяснит». Север – не лапотная Русь, в беде не бросает...
И снова, как замедленные кадры в паршивом северном боевике, вставало перед глазами...
Вспоминать, помнить и чтить всю «эту» – нету сил: искал за минус сорок «сдохшую» свою буровую в полночь (те уже успели сжечь всё, что горело); геологов на маршруте не нашел, вышли сами и самостоятельно – но зато я успел сломать лыжи за минус 35 и выйти-уйти за километр по темноте от своего вездехода; мы же все прем, краткой дорогой – круто и вверх через протоки, надеясь на авось и удачу – тогда вездеход, не взяв крутой подъем, загремел вниз, в ледяную воду протоки, а сзади в кузове моего вездехода сидели взятые с маршрута геологи – вездеход начинал тонуть в протоке...
Я не завидую никому. Ничьей судьбе. Правда, страшно уважаю путь и судьбу своего отца – куда мне до него... я бы так не смог; испотварился – как бы сказала мне моя маман. Он валялся уже после войны в госпиталях Ферганы – опоздал победитель домой к Дню Победы; я валялся по гражданским лазаретам, когда мне тоже говорили, не мне, моей жене: «Шансы у него минимальные, если вытянет – то на группу инвалидности».
... Но это когда еще будет,
или уже было,
или предстоит заново?
Свою судьбу куем мы сами. Кто это сказал? Не знаю. Скорее всего, поэт – молотобоец, типа... Да-да, он самый.
Да оставь ты меня, дочь, в покое, ведь все могу и умею, да и за 60 лет руки стали длинные. Не мельтеши, успокойся... Коса на камень! Как не стало моей «старухи» – всего-то ничего померла на 58-ом году; вроде бы и проще стало... Но чуял старый Чиф, что он, отец, никогда не заменит дочери ее мать, пусть она была и есть хоть какая! От такой философской мысли пора и скукситься, как и стало на самом деле.
Это уже потом. Через 25 лет. Не пора ли, сволочь, мемуары писать: как там было плохо и не все так просто... и не очень хорошо! Напиши... чучело! Большой Канал уже сдох и «правду» о нем прочирикали по всем телеканалам.
Окстись, старче! Ты же всегда был Фома Неверующий; за что и как ты поверил чуду лихому?
Чиф пожал руку капитану – свой же будет на дни грядущие. Капитан молодой, под тридцать; значит, общий язык должен быть найден. Да и орлы его – помкапитана-шкипер и матрос-рулевой... «Здорово, братцы полосатые». Улыбнулись и от души крепко лапу пожали Чифу. «Ознакомишься?» — капитан. «Спасибо». «Ют, гальюн, кубрик, капитанский мостик, камбуз». Всё правильно, Чиф, вроде как и не уходил «отсюда» – только вот где сердце корабля: штурвал, лоцманки... «На месте, при памяти», — капитан.
— Капитан, мне надо звонить своим (...в пункт погрузки-загрузки; знаю-чую-ведаю: Борисов за «неимением» нажрался «Тройного» и балдеет у Иртыша на щуку; водитель ГАЗ-66 болеет и жрет соду от изжоги. Кстати, пришла к ним матпомощь – радировал же?! Готова ли та моя команда для срочных дел?!. Ну конечно нет).
— Позвоним, Шеф, — это уже мне капитан. — Что-то еще?
Что-то еще? А уже и не знаю. Копейки брякают друг о друга, бумажек ценных мало... тоска и выть охота! Есть правда еще порох в пороховницах, но ведь сегодня – это еще не завтра, да?
Свои – жена и дочь – подождут, все равно я для них человек пока пропащий...
— И куда далее, капитан? — у него форма... мне б такую!
— Команда дана...
— Неужто сегодня?
— Нет. Сплаваем на плавбазу, мы там у них «охарчимся» – стоим на учете, и обратно сюда на причал. Остальное – завтра!
— С нами пойдешь, геолог?
А как же! Какой хохол не любит сала, тьфу ты... спасибо любимой теще! Какой уралец не любит быстрой езды, тьфу ты, спасибо батяне... Во! Вспомнил, дядька был у меня, родной брат отца, младше его на год, воевал (не, не с фрицами, не успел, но уж с японцем схватился намертво на погранпостах довоенных... а и затем). Так вот, тот дядька мой любимый и родной (любили, кстати, они, братья – отец и дядька мои – друг друга; все у них уважительно, каждый бренчит своим «иконостасом» на груди – не обделены) был бы морским офицером с Владивостока, вот только не судьба... и все равно клин забит в родовой клан – вдруг да кто-то поплывет, может кого моря поманят?
Но знаю, нет уже таких смельчаков.
Плавбаза Иртышского пароходства – это вам, как бы поточней и правильно сказать – вроде как «волна без берегов!». Как провожают пароходы? Совсем не так, как поезда... Огромная и водоплавающая куча «гражданских» этажей, трюмы забиты ниже ватерлинии, «сидящее» на воде сие сооружение ну уж никак близко к берегу не подойдет из-за своей гордой осанки и осадки – это плавбаза иртышского Пароходства, куда сбегаются все ручейки торговых заправок и кормежек, всех тех, кто стоит на учете при большой воде.
Вот туда «мы» и рванули, грузя на борт доблестные матросские макароны, тушенку в банках, чай. Что-то еще?
Капитан мой бегал как заводной, так что сзади рулевой только успевал оттаскивать грузы на свой (наш) борт. «Всё!» — наконец выдохнул.
— А это как? — не понял «пехотинец-геолог».
— Шабаш, называется. Кончился аврал.
Геолог глянул на руку, свои «проржавевшие советские» – полтора часа в гору. Нехило. При всем при том, что обслуживали круто, быстро и правильно.
— И? Капитан?
— Показать тебе, геолог? Но водку и вино здесь не держат.
Пошли, Шеф. Сейчас уже не торопясь по этажам и весям. Ведь здесь не только продукты речфлота, есть здесь и барахло, какое вам и не снилось на Большой Земле... мне не дадут? Конечно. Беру тебя на иждивение на свою речную карточку, успевай только мне деньгу отстегивать!
А что! И на этот блокадный случай был свой правильный исход. Зря, что ли, я, Чиф, грыз свой скудный паек?
Отчалили. Уплыли, пока при памяти. Звонить надо – мне. А им – докладываться тоже, пока еще не борзые и не поплыли вроде того Одиссея на его «десяток с лишним лет». Всё? Всё предусмотрели?
Да, а как же буду я, четвертый в команде в их кубрике на катере – халяву ведь позволить нельзя... так что и как?
Начальнику Таймырской партии по штату прилагался пистолет, с дополнительной обоймой – мало ли что в жизни, в северной глухомани у мыса Челюскина может произойти: песец окрысится, медведь не отстанет от человеческого жилья, контрабандист или шпион подкрадется...
Редко, но метко. Пистолет обычно не вынимался. Шпионов нема! Контру хватают бдительные пограничники; песцы бегают и убегают со своим зубьём от человека; бандюг не видно. А вот медведь, белый полярный, замучил. Да и не такой уж он белый – к лету зачуханный, желтоватый и гнилью от него валит, особенно когда поймет, что хорошо прибиться к жилью человечьему.
В первые маршруты – всё ж геологосъемка – всегда выпускались только по двое: геолог с его зачуханным рюкзаком и второй сопровождающий его человек-рабочий. После маршрутных 20-30 км ежедневных рейсов оба приходили измочаленные, таща оба по 20-30 кг образцов – красиво! Богат край!
Не знаю, как там промзапасы, но в остальном – край царский!
... Давно уже светились глаза российские на тот далекий и безлюдный край! А и возьми? Ладно открыли алмазы в Якутии – обманули всех. У карелов нашли? На Урале нашли? Это хорошо, богаты будем.
Выходили на маршрут двое (это уже потом, когда прижмет в конце летнего сезона, по одному). Геолог сам по себе, его рабочий при нем и при карабине. Ну раз, ну два, ну и на третий не попер... Но когда на лагерь напали белые медведи и сгрызли все – от палаток до консервов и помойных ям... И стрелять нельзя, только что ради самообороны – но да ты ее потом докажешь? Ведь медведь белый целеустремленный – человечины ему не требуется, нерпа и тюлень – да!.. А вас бы, человек, и в гробу не видал. Чего пришли?
Это так – на картинках и в зоопарке они прелестны... дичь всегда опасна, особо крупная, на природе.
Михаилу, таежному бродяге, все было пофиг... Видал он с отцом по молодости зверья: рысь, росомаху, медведя бурого и лося, ну, конечно, зайцев и лисиц. Порой у оробевшего рабочего рвал из рук и... пулял от бессилия и злобы по песцам и куропаткам. Белых медведей никто не трогал. Ни погранцы, ни местный люд. Если замочат вдруг медведя – местные сразу сдадут, а погранцы найдут виновного.
Не трогайте белых...
Начальник Таймырской партии грыз локти и кулаки, ужимая свой пистолет при руке... как бы их он замочил, с превеликим удовольствием? Что будут жрать его люди сейчас и потом. Славь бога, что шарахаются от бочек с бензином...
— Командир, а что мы их терпим, этих шавок белошерстных? Не пора ли стрельнуть?
Куча людей – партия на севере Таймыра, сгрудилась до кучи и уходила в сторону от погрома белых медведей.
— А и засандалим... Греха нет. Сначала поверху... Но надо большим залпом, дабы переполошились... — говорящий человек не первый год на Таймыре, да и у «хозяина» тянул.
Клочья палаток, жилых и товарных... груды консервов и НЗ... столовая с посудой (какой был навес!), ледник с мясом... Рушат!
Михаил не выдержал паники и медведя. Вырвав карабин у «народа», он...
Он знал, что делать! Напугать, заставить медведя обделаться и дать ему шанс вовремя и правильно слинять, не заставив стрелять по нему!
Грабеж! Исчадие ада! Куча рваных консервов. Порушенный ледник. Раздраконенная столовая...
Михаил выстрелил вверх из карабина. Нуль... ноль! Медведи продолжали с упоением свое дело. Михаил тогда молча показал начпартии – два! Звонко прогремели два пистолетных выстрела – молодец, начальник! Пули ушли рядом с белыми шкурами.
Что, плохо стало белому медведю? Тем более, здесь вас роятся трое – целый муравейник. И Михаил стрелял – не в воздух, под ноги им... Начальник партии хотел (ли?) завалить «белого», но Михаил показал «козу» на пальцах и несильно ударил по пистолету.
Ну, они ушли, белые...
А мы остались!
Ох как долго и нудно ставили потом заново лагерь! Слава богу, что солярку не погрызли!
Так, всё, баиньки для нас, сейчас живущих, с чем и до свидания!
Самый лучший и самый светлый праздник у геолога-профессионала – это День геолога, первое воскресенье апреля. Сзади хмурая и горькая камеральная зима с его отчетом и зимним отпуском в никуда на Кубу, в гости к дорогому Фиделю. Впереди – апрельская суматоха и бардак; завоз ГСМ в «поле», на стоянки и в полевые лагеря – глядишь, и пустеет родная Красноярская ГСЭ, отсчитывая водителей и полевых рабочих. А впереди, там, на безлюдных просторах озер и тундры Таймыра, вновь бредут медведюги и ревут стада оленей. Разворачиваемся на новый круг! Михаил, старшой братан из их рода – на Таймыр, среднего судьба снова пихает под Ханты-Мансийск, а последний из братьев, самый молодой, который мечтал быть радиотехником и художником, «моет» со своим горным дипломом золото на драгах в глухих и безымянных хакасских поселках в Саянских, Алтайских и Шушенских горах Сибири, где глухо витает призрак Сталина и ходят легенды о гулаговских сокровищах... В общем, все как полагается у людей – и у наших братьев так же: сытый голодному не товарищ, голодный сытому не помешает, не дрейфите – все равно прорветесь! Романтика! Пачками клади ее и рви поштучно; казалось, что она вечная и никогда не закончится в миражах, мечтах, сияниях, в песках и сугробах... Может, так оно и было, так оно и есть по молодости (специфика и режим работ геологов – везде разные, в зависимости от профиля).
Чифа интересовало сейчас только одно: как он рассчитается за свое «плав-место» с экипажем. Койко-место он уже заимел в тесных недрах катера – за «пустого» четвертого из экипажа... обалдеть можно от удобств «нищего»! И стрелять не надо, и его не подстрелят, как каменную куропатку, рыжего лиса или как линялого песца. Что ж, большому кораблю – большое плавание! Капитан показал пальцами ему – все потом, всему свое время, даже за те же продукты, а пока смело можешь рассчитывать на наши «макароны по-флотски». Деликатесов, к сожалению, не держим.
— Когда? Когда уходим, плывем?
— Немного неправильно, шеф. Это только дерьмо плавает, а мы, моряки – ходим.
— Да какие вы... моряки! Пехота речная.
— Какие уж есть. И традиции у нас есть, которые святы тоже! Человеку сухопутному сие не понять с его куцым мировоззрением, не понять реку с его берегами при двух километрах разлива! Иртыш, Тобол, Обь, Конда!
Все, капитан, молчу. Сталкивался с «водой» еще чуть ранее, немного умен. И лоцию знаешь? А как же, какой хохол не любит сала и не умеет им управляться...
Ну тогда попрем. Поутру, по свежачку, когда встанет туман над Иртышем и чуть развеется. Так – пошли?
Пошли. Вперед и вверх (по течению) где-то там и наше «плоскогорье» и плоское горе. Все мы там будем. Лишь бы не опоздать, успеть!
С капитаном хватили винца, и в узком кубрике на втором ярусе Чиф ушел в сонное царство после своих долгих мытарств. Мягкий Иртыш баюкал волнорезом катера, который уныло тащил в светлое будущее баржу на длинном стальном тросе. Красиво и хорошо дремал разомлевший Чиф – падать со второго этажа был не приучен; под утро, хмурое и серое, Чиф в тревоге проснулся от толчков и нехорошего предчувствия. Понял всей своей поганой душой – приплыли! Не начав еще толком плыть. Капитан уже был наверху и выяснял причину; под утро, решив «срезать», рулевой зашился в песках одной из проток реки, не помог даже водометный двигатель, мы крепко врюхались в мелководье и застряли в песчаной мели.
Чиф пососал сырую сигаретину, расположившись «на баке»; хорошее настроение не приходило, ибо становилось ясно и отчетливо – «влипли» в дрянь, которая по жизни называется на букву «г». Капитан понравился: не орал, служивый, молча въехал по уху рулевому – тот смолчал, а затем загорюнился на все «100».
— Пить бум, геолог?
— Не тянет, капитан. Да и непруха у нас...
— Заметил? И что делать бум?
— Это ты у меня спрашиваешь?
Четко и сыро отходили утренние туманные минуты. «...А до войны вот этот склон...» – стучало в кислом мозгу Чифа.
В мертвой тиши застучал звук моторной лодки; с шиком, забортав крутояром, уткнулась в борт катера моторка с двумя синими мордами и молочной флягой на корме. «Здорово, служивые! Аль не рады нам?! Приплыли, что ли? А мы видим беду и порешили тормознуть».
Чем помочь? «Да поднимайтесь на борт».
Да у нас свое. Брага во фляге. Два часа гребем, еще чуть осталось. Мы – с Лабытнанги, в Хантах треба «галочку» поставить, что мы еще не сбежали от НКВД... ха-ха-ха! (пахнуло Сталиным образца тридцать седьмого)
Да поднимайтесь на борт, ходоки. Винца хлебнем с устатка и от сырости.
Годится, служивые. Ужо идем. Грех отказываться. Где будем – внутрях али на палубе? Да лучше на воздухе, чем в бараке.
Чиф ухмыльнулся бывшим зэкам, капитан чуть заулыбался после беды. А что? Слезами горю не поможешь, моторной лодкой катер с мели не сдёрнешь – и чего печалиться?
Выпили, закусили чем бог послал.
Снова выпили, закусив чем попало.
Добрались до фляги, выпили без закусона; Чиф криво «уходил» от возможности халявной браги, остальным она шла вкусно и по делу, на потребу! Мал-мала, перезнакомились, посыпались анекдоты зоновские и «с бородой»; интересно стало жить в этом поганом мире. Повеселели, душой отошли и хмарь пропала: вот что значит люди с Лабытнанги, не фрукт с изюмом.
— Не воевали, ребята? — сизые и умудренные грибы-боровики в ответ заулыбались.
— Шутишь, начальник? Просились на фронт по молодости. Воров, сказали, не берут. Ха-ха!
Эх, мало! Хорошо сидим. Так ты, начальник, с нами до Хантов? Не дрейфь, добросим до твоего причала; мы успеваем, зря, что ли, срань поплыли?
Умелькнул за кадром катер с баржей, а мы ушли с капитаном на лодке с бродягами в сторону Ханты-Мансийска.
Может, шутят ребята? Да нет, не черноволосые они как манси-вогулы, не рыжие потомки хантов-долган...
— Да ты не смотри на нас, начальник, как на зверье! Мы из русских, потомственные рязанские лапти... вот только не доведется вновь хлебнуть родных мест – здесь уже обжились и там уже не ждут нас... Мы ж для мира давно в мертвых ходим.
Неелово, Неспалово и Погорелье то ж – знаменитый крестьянский поэт, имеющий обширное поместье в Псковской губернии. Когда творишь – не желательно быть нищим и думать о завтрашнем куске хлеба.
Бледный вид имели мы с капитаном на причале Лимана. «Директору только не говорите, у него забот и так хватает, да еще вас нелегкая принесла, — зарычал наш Адмирал. — Ох, чуяло мое сердце, что не надо связываться с пришлыми, и особенно с мелкой геологией... ни тебе размаху, ни удовольствия. Да ты молчи, геолог, не в тебе корень зла, не в чем тебе оправдываться передо мною! Шкуру спущу... капитан – где? Когда? Зачем и почему полиняла твоя эскадра?» Тонкая издевка витала в воздухе. «Сейчас, сейчас! — бормотал взмыленный и ошарашенный неудачей наш Адмирал. — Ухватим попутку и рванем к вам на подмогу. Надеюсь, трос у вас есть... Ну, пошли, охламоны!»
Ну и пошли они, солнцем палимы.
— Пили, что ли, с утра? — главный речник втянул носом перегар от нас. — Пасть порву тебе, капитан! А с твоих орлов шкуру спущу!
— Капитан, — это уже другому. — Так держать. По протокам не ходи, нам еще их не хватало; «узлы» выжми до разумного предела. Всех наверх и к нам не заходить; до прибытия на место... два часа хода хватит?
Он достал водку, сходил на камбуз за посудой, молча разлил по посудинам. «Сколько раз говорил, не держите стекла на судне... тупым объясняю! Ну чё, капитан, скис? Жрать дерьмо все умеете, а как к делу...» — дальше он не стал говорить и объяснять; остальное все подразумевалось само собой. «Ты, геолог, чего ждешь? Подымай тару... а ты, капитан, пропусти мимо кассы первую, штрафная тебе будет; да не дрейфь, салага, отбурчу вас от директора – мало ли что бывает на Реке...»
Будущая панорама речной битвы разворачивалась перед нами медленно, величаво и неуклонно: катер сбрасывал скорость и тихо подкрадывался к месту; все заинтересованные лица сидели и стояли перед «окнами» капитанской рубки, здорово досаждая рулевому матросу и мешая обзору.
— Ну вот, — с умиротворением констатировал наш самый главный, — а вы боялись.
Чужой катер уже выволок с мели нашего «неудачника», проревел на отходе. И наш уже волочил баржу с песка. Караван в Тобольск был заново готов.
— Капитан, есть у тебя что там на посошок, из твоей заначки? Да в жизнь не поверю, чтобы добрый моряк да не упрятал под матрас последнюю бутылку рома...
— Ну спасибо, уважил! Разбегаемся по домам и по делам. Будь, геолог! Вряд ли заново увидимся... а что, здорово Чернобыль угрохал ваш Большой Канал, а?
А путь наш далек и долог. И нельзя повернуть нам назад. Крепись, геолог, держись, геолог, ты ветру и солнцу враг... брат? Когда бывшему и старому Чифу подвалит под старость, его не раз еще спасут от безысходности и бездеятельности кошмары и видения его прошлого – страшно, Шеф, но припарки такие подмогнут. Он просыпался тогда в испарине, сердце становилось в ступор, орал во сне и звал «своих бойцов» в атаку, порываясь быть в этой ахинее обязательно первым, пинал в исступлении зверей исчадия и свои кирпично-бетонные стены. Просыпалась жена и в бессилье трясла его мокрое тело, приходила испуганная, уже повзрослевшая дочь...
— Извините, я не хотел вас пугать и будить.
— Да ты орал как резаный! Пнул меня зачем-то, потом пинал стенку и рычал, сжав кулаки. А может, к врачу?
— Не-а, скорее на свидание к тем погибшим и для встречи с той, которая с Косой... Но мне туда пока рано, мои любимые жена и дочь! Ибо ведь по молодости я был крепок и силен, романтикой кормился и будущим коммунизмом; тогда я верил, что судьбой не обделен и удача на моей стороне, и лихие дубинные удары обойдут... но именно меня, за других гарантий не даю.
Жалко, что мой Иртыш, Тобол, Енисей, Волга, Ю. Буг и другие не текут вспять; уже бы им показал, почем фунт воды.
С Красноярска и Таймыра в Курган и под Ханты шли письма редко – где «поймаешь ямщика» на тысячных дорогах, уловив тот момент, где и когда именно должен находиться твой брат-адресат.
Помнится, старшой привез ему с Таймыра оленьи рога, замотанные в бинты – колются в самолете; а вот куда уж он ему доставил – в Красноярск ли или же на Алтай, – о том история умалчивает и до сих пор неясно. Но вот когда с Норильска (или же с Дудинки или Хатанги) была доставлена дочери будущего Чифа прямо на Алтай фото-книга про Таймыр – маленькое чадо вцепилось в нее, рассматривая цветные картинки о песцах, медведях, птицах... и оленях, которые несколько лет потом принимала близко к сердцу вместо коров (да-да...).
Ровно в полдень по четвергу караван – катер с баржей на стальном тросе – сошел с мели на протоке и продолжал прерванный путь. Налегке катер делал до восемнадцати и более узлов («более» - это если вниз по течению), сейчас же плелся с баржей еле под двенадцать вверх. В пополудень подчалили под бывшее родное убежище Чифа, откуда и предстояло сгрузить «остатки» от его зачахшей северной партии. Ну, с богом!
... Потом, с годами, когда бывшему Чифу будет подваливать его мудрость под первый старый юбилей, он незлобиво и с юмором разложит по полочкам всё то, чему учили раньше и чему обучают потом. Значит так: первое – до школы «учись учиться»; второе – учись в школе, это уже надо тебе, а не родителям; третье – учиться, учиться и еще раз учиться, «как завещал великий Ленин» – это институт и всякие там последующие курсы повышения квалификации, семинары, военные сборы, творческие командировки; четвертое – после 15-16 лет учебы забудьте дедукцию, забудьте индукцию и давайте продукцию, ибо «во главе угла» она самая и есть, родимая и неповторимая, где «кадры решают все», а «экономика должна быть экономной»; и пятый, заключительный аккорд аппассионаты – век живи, век учись и все равно дураком умрешь. «А что? Не хило!» — порешил Чиф, б/у...
В пустой и шумно-усталой голове Чифа, лишь только он шагнул на свой берег, уже зароились будущие порядок, места действия и предстоящий набат. И все «старое» прошло, все осталось в проклятом прошлом, где приходилось петь «А девять граммов в сердце – постой, не спеши» и его любимое «Ямщик, не гони лошадей!».
Где Борисов и водитель с ГАЗ-66? Как там мои Цыган с Тимофеичем? Успею ли звякнуть с почты до «экспедиции – туда»? Как поймать именно сейчас местного управляющего и его механика? Надо еще – принайтовить баржу плотно к размывающемуся высокому берегу Иртыша, сделать переправу «берег – баржа» – чьими силами? Загрузить мелким барахлом, «балок» и ГАЗ-66, надо... надо... надо до темна успеть все орг- и масс- дела, с окончанием на «ауф фидерзеен»... Да, а что в магазине?
А и чихать Чифу сейчас на всех абсолютно с высокой колокольни; кроме, конечно, тех, кто повязан в его делах. Борзой? Есть немного. Мало уважения к северным людям? Нет, нет, слишком они многому его научили: так почем фунт лиха, Чиф?
Сначала его действия напоминали круги от брошенного в воду камня, потом всплески от идущего рикошетом камня по воде. Всё надо делать по пути, по ходу; кто попадется, того и съел, если не до конца сожрал – перевари и дальше, подавился – выплюнь.
Экипаж занимался подводкой (муторное дело) баржи к берегу и ее закреплением тросами на специальные выносные береговые штыри.
— Ну, капитан, спасибо! Уважил, старик. Всё-то у вас есть, всё у вас на мази. Умеете дела делать.
— На том и стоим. А ты ходи-ходи, уходить надо быстро, Иртыш быстрый под берегом.
— Уже полетел, капитан.
Капитан – еще тот человек, тоже кое-что видел, хоть и молод. После тобольской мореходки плавал по Иртышу, ходил помощником на судах «река – море» и осваивал Обскую губу. Да подзалетел ни за понюх, как признался он Чифу; выручил его тот человек, которого прозвали на Лимане Адмиралом (кстати, из военных моряков), настояв перед своим директором взять новичка чуть не сразу капитаном на катер; кадры на дороге не валяются – последовало умозрение.
На что Чиф тоже мог ответить и рассказать про своего нового начальника экспедиции. Они оба знали друг друга не так еще хорошо, но доверие уже было обоюдным. Чиф представлял, как нач-экс выбивал в бухгалтерии для него «доп-паек» сюда: «Поймите, середина навигации, шансов на успех мало, человек вылетел в командировку под «лимит» командировочных, приказ продлить на него до какого-то момента – пустой номер, и что вы ему пожелаете сейчас – геройской смерти на Севере после апреля 86-го?»
Смеха было мало в обоих случаях.
Шиворот-навыворот, наперекосяк пошли ближайшие сутки, уже и заранее распланированные Чифом. Судьба уходила с тормозов, фортуна как та знаменитая курья избушка становилась задом. Ну не смешно ли? И как пакостно становится и горько за те – бесцельно ли? – прожитые недели...
Но вот именно такую Чиф и предпочитал жизнь. Скучновато порой становилось ему при доме и своей уважаемой семье, и он куда-то бежал, становясь бродягой от романтики и искателем приключений. Он не любил стандарты и «одномоментных» ветеранов, уютные места и столы, манежи и арены, не понимал ипподромы, строя таким боком обещанный коммунизм, который наконец-то, на радость толпе, искоммуниздили. Трижды пытаясь влиться в славные ряды КПСС где-нибудь в конце «их двадцати миллионов», получив отказ за недостаточный стаж на одном из предприятий и его еще «невыхода» из комсомольского возраста, а в третий раз не поняв разнарядку «два рабочих – один ИТР», набив морду парторгу, Чиф просветлел своей муторной душой и погрузился в серые мраки нагло наступающей демократии. «...безумству храбрых поем мы песню...»
Северный поселок вдруг ожил. Выходи, горбатый, который «ищет бури, как будто в ней имеется покой» – Чиф встал на тропу войны, отдавая последнюю рутинную дань погибшему социализму... Но – вперед и вверх, а там?..
Борисов. Эх, мой «знатный» тракторист Борисов. Ты ли это? Впрочем... После своего развода с женой он так полюбил свою дочь... и вольную неволю страхолюдную – ну не в жизнь не удержать... Романтик тюкнутный. Не хочет, да найдет для свой задницы приключенья! Что поделаешь, что возьмешь с человека, кто «недопил, недолюбил...» Чиф нашел Борисова не на рыбалке, а в дугу пьяным... (А без него, тракториста, какая же там «путина») на квартире любовницы поселковой. «А он – и все так просто, – ждал вас и ждал, устал...»
Понято, Принято. Безделье душит человека. И особенно когда он бессилен перед чем-то. «Не на рыбалке, значит, Борисыч!» «Да какой там на рыбалке... Жрет второй день, — поделилась со мною хозяйка, — и не «сорок», а всякую... Лес, Тройной и Одухотворенный!» Открыла секрет... Вода и рыба здесь вся в микро-червяках-заразе, которые дырявят печень северных жителей, что и называется... «Да-да, — красивая хозяйка со страхом выдавила это слово: — Описторхоз. Это если рыбу и воду плохо прокипятить, плохо завялить под солнцем или плохо в печке приготовить. Да вы что? К Борисычу, что ли? Он человек незлобивый... Да знаю я вас – вы главный». Чиф подавился на рысях. А она продолжала: «А ведь у нас в поселке нет ничего против этого описторхоза, кроме как «тройной одеколон»... Все мы подохли бы тогда (и фельдшер нас не спасет, а до бога вертолетом санитарным МИ-2 далеко). Кабы наши мужики раз в полгода не делали такой себе профилактики – мертвый бы край лежал сейчас... после Сталина».
Чиф заскрипел зубами – свежо предание. Ох, Борисов! Где он, сволочь! Падаль беззубая, дерьмо хреново.
Мне нужен тракторист! Я взял ушат воды и вылил на него, потом бил его по морде, долго пинал... его хозяйка долго ойкала, пока я не спросил ее – «Что?». Она мне что-то налила в зачуханную рюмку... «И что?» — вызверился Чиф. «Он сказал, чтобы я разбудила его сразу, как только появится Шеф. И велел налить, чтоб не сердился».
— Русский Лес или Тройной Одеколон?
— Нет. Водки. Обычной. Знаешь, Шеф, это скорее самогон.
— Годится, хозяйка. А скажи-ка, ты кто?
— Я?.. Я – это я.
Так пойдет, командор? Когда этот твой тракторист избранный очухается?
— ...Уже встаю, Чиф! Задремал от безделья. Куда зовут нас далее наши зачуханные трубы... — Борисов вставал борзо из синих покойников.
— А это будет Тик и Так, объясняю бестолковым...
— Точнее, припоздавшим? Я тебя ждал, Чиф... скучно всё!
Ну, Борисов, плюнул... или оплевал всё святое; а может, рванул и выше, куда кому не полагается?
— Понял, Чиф, Завожу. Таскаю под баржу лопату-нож, сдохший трактор, катера и прочую рухлядь...
— Правильно! Вперед, потом через протоку высохшую делай дорогу далее, недалеко от твоей рыбалки там – наше стоит, чудо, баржа; волоки для начала всё к берегу, чаль сам, помогут, или как!.. Пошел!
Ну и пошел. Пошли. Вперли судьбе своей и никак не иначе...
Чиф себя знал: такая же сволочь в глазах других своих, и ничем не меньше. Разве что чуть получше. Только вот в чем? Что знал слишком много и много молчал?
Водитель ГАЗ-66 уже не болел, сидел на Иртыше с удочкой. Дом наш хлопал дверью, даже будучи не подперт колом под местный обычай... впрочем, воров здесь не водилось, милиционеров тоже, невесты и молодежь здесь были редки, в единицы, чах поселок по инерции и из-за мудреной мудрости – люди-то хотели жить!
Да простит нас Бог, и людей Фомы Неверующего! У них давно уже построен социализм...
Знаем мы эти сказки, что «заблудился среди трех сосен». Явно не геолог, он бы выбрал четвертую сосну.
У Тимофеича – пару минут. Паек на собаку. Цыган рвался с цепи... пригладил.
Несмотря на летние сумерки, сразу и «правильно» нашел управляющего и его механика.
— Рваните Иртыш, подройте! Мотать надо от вас, пока при памяти! А и больше некому, как сделать переправу вашими трактор-бульдозеришками – навал от берега Иртыша до моей баржи.
— Какие печали? Уроем! Есть чем «распечалиться»?
Есть. Есть. Есть. Сдохну – но есть. Впрочем, если сдохну, то нечем, да и незачем. И непонятно, да? Но здорово... дерьмо радиационное, 86-го года образца.
Что еще я там забыл, шакал под «упряжью сверху»?
Родина вас не забудет. Я готовил, грузил, найтовал, крепил, бросал, гадал, ворочал дерьмо и гадости на базе... вот только время твое, Чиф, истекло – на поселок упала невозвратимая тьма. Ладно, прем дальше, и все равно: время – деньги... На мое предложение переночевать на берегу экипаж вежливо отказался; я замахнул «дары из Хантов» с управляющим и механиком – они что сказали: директор совхоза на сельхоз-период дал жесткое «ни-ни спиртному», ну и ладно, не пьем... только вот как с геологами быть, с годами устоявшими у нас?
Выпили. Крякнули. Спасибо за механизированную помощь... Чем рассчитываться? Да и так ладно, уважил... а то «пред» поставил магазин под «стояк», а это уже скучно...
Посидели хорошо. Северные люди не только умеют хорошо пить, но умеют и хорошо разговор вести. Приятно. Душу греет. Что-то попомнят под смешинку, что-то и вразнос возьмут, по-прошлому, без злобы. Растягиваешься, сомлеешь от «благов» – и тут тебе!.. «А чтобы жизнь медом не казалась – ха-ха, – как наш пред дотошный!» «Правильный, — поправил механик, абсолютно трезвый до невозможности, правый глаз его чуть только подрагивал после какой-то недавней аварии. — Аж до невозможности. Зато зажили».
— Это как? — не вытерпел Чиф. — Водку не дают? Сейчас... А и вообще в любой сезон – «подозрительным» ее нема! Пекарню закрыли. С поселковой школой швах.
— Все-то ты знаешь, Шеф, — горько усмехнулся управляющий. — Идет укрупненка.
— И мизер побоку? Не пятьдесят ли лет назад здесь была у вас гречиха, и рожь, и тучные коровы? Укрупнение... централизация... А ведь кукурузу, слава богу, не пытались здесь растить!
Они рассмеялись, невесело, да и геолог остыл. Скучно. Грустно. И кто поселки выдумал брошенные, типа Мануилово, МТФ и прочих.
— У нас здесь далеко не Материк.
Куда уж?! Тыщу верст киселя хлебать.
С этим и закончили нашу поскучневшую и погрустневшую вечернюю трапезу. При всем при этом людьми остались. «Не поминайте лихом, орлы». «Куда уж там, побольше бы геологов в наше лихоманье, — скривился управляющий, — глядишь, и поголовье поселка бы выросло...» На том и расстались.
Экипаж катера наотрез отказался от моего предложения переночевать на берегу в нашей гостеприимной избе – «должны быть на месте, при службе, в любое время суток плав-времени».
— Ну и ... с вами, — осерчал я. — Чуть что – сигнал подайте, я на месте. Поутру двигаем?
Капитан мотнул головой. И я вновь потянулся в иртышско-поселковой темноте. Нет здесь дорожек и парков, и не чуют ноги маленькие ухабчики давно набитых и заутюженных узких дорог.
Бульдозеришко Борисова стоял у Иртыша, ГАЗ-66 ждал последней атакующей погрузки, «народ» ушел в раздрай и вразнос до наступающего утра, которое принесет всем страждущим дуракам светлое будущее... Чиф зашел в свой бывший закуток кондовой хаты, свалился на голую сетку кровати, вспоминал секундой, как они отсюда правили балом своей партии – он и его ведущий геолог партии. Поглядел на светящиеся стрелки часов – третий час – и умиротворенно, с чувством выполненного долга ушел в другой мир. Подсознание – уже далеко не пакостное сознание или интуиция – еще пыталось выскрести его из мира иллюзий, ведь не всё и не так полно сделано, чтобы разваливаться гоголем на царской постели... Но Чиф уже сдох и годился разве что гнусу на подкорм.
В начале шестого его поднял на ноги прибежавший с катера рулевой.
— Геолог, Иртыш промыл насыпной берег у баржи.
Мать вашу! Мать его!
И снова: время – деньги, промедление смерти подобно, не любит Иртыш того, не дает поблажек дуракам, шнуркам и раздолбаям. У Чифа коротнуло в мозгах.
Да до коих пор он, Иртыш Великий, будет издеваться над ним, над ними, уходящими в небыль геологами?
Течение реки, более сильное у берегов, взорвало береговой черно-красный грунт переправного «наката», унесло прочь, раздолбало и вымело с пути – крутая угрюмая двухметровая щель щерилась меж баржей и берегом; береговой крепеж баржи болтался на соплях.
Борисов, последний оплот тактики, как и полагалось, был нигде – в дугу пьян и на квартире своей подруги. В хате витал устойчивый запах то ли «Шипра», то ли «Тройного». Встал он мгновенно. «Чиф, провожал свободу, извини. Где я еще так оторвусь? — он чмокнул свою подругу в щечку. — Ну, прощай, дорогая! У нас там ничего?»
Чиф ошарашенно смотрел на эту странную парочку. Бывает же в жизни такое, нарочно не придумаешь; а она, впрочем, бабенка и смотрится неплохо, а все равно Борисов ее бросит, попользовал и бросил, время и километраж не в их пользу.
И вдруг она трезвым голосом спросила в спину уходящего Борисова:
— Ты вернешься, скотина?
— Да, моя дорогая! Через год приеду в отпуск сюда, к вам, к тебе, рыбки порыбачить... ох, люблю я это дело. Так что готовься, баба, и топливо запасай. Я уж тебя не обижу! Помню тебя... не пройдет и полгода...
Чиф и Борисов улетали в серость наступающего дня; у Чифа задолбило в мозгу: «А не пройдет и полгода, как я появлюсь... и в друзьях, и в мечтах».
Полтора часа с лишним рычал бульдозеришка Борисова (трактор ДТ-75 с лопатой), наводя хлипкую и тонкую переправу на баржу; час с лишним Чиф с водителем ГАЗ-66 стремительно закидывали в машину у дома «остатный барахол». И снова северный поселок, и так-то встающий рано, проснулся задолго до своей коронной совхозной побудки... впрочем, люди поселка уже тихо и мирно занялись своими гос- и личными делами – и что им до того, что где-то что-то рушится и не прет? И какое им дело до них до всех...
И то правда!
Мы успели. Груженный всякой «нечистью» ГАЗ-66 рванул к борисовской переправе. В гости к богу не бывает опозданий. ГАЗ-66 прошмыгнул на баржу, за ним поплелся, проваливаясь под урчание иртышских волн на хлипкой переправе, ДТ-75 «Алтаец». Остальное уже стояло и лежало на барже со вчерашнего вечера.
Меня, Чифа, вытащили из ГАЗ-66, аккуратно и быстро выдворили на берег, перегнали на катер... экипаж рванул с берега крепеж баржи – Иртыш зло напирал и рвал тросы. Катер дал по команде капитана натяг... трос подпрямился и ухватил баржу от берега. Провожающих и оркестра не было; не до них, да и некогда... надо уходить в фарватер, чтобы баржа не стала вихляющей килькой на чреватом тросу.
Ну, вот и все? Борисов и водитель брошены на барже на произвол судьбы – что они там? Как питаются и живы ли будут на неделю вперед... Связи с ними нет. Обречены на выживание.
— Смотрите крепеж. Бойтесь болтанки, — кричат им напоследок. Вот, пожалуй, и все участие к их судьбе близлежащей. Где спать, как приготовить – их полная забота на ближайшее, но нет им командиров – может, хоть на том спасибо, выспятся, вылежатся, аж тошно станет, недаром говорят, что от безделья кони дохнут.
— Так чем я с вами буду рассчитываться? — спросил Чиф у капитана. — За свое житье-бытье, за жилплощадь вашу?
— Возьмем натурой – выпить.
Взяли, однако, только в ближайшем совхозе: несколько упаковок «Русского Леса» - сухой закон в совхозе на период сельхозработ, что поделаешь.
Так Чиф попал на гос-плав-обеспечение: макароны по-флотски, чай. Он с интересом шлялся по катеру; вроде и не внове, а все равно интересно и захватывающе, да и делать боле нечего, пожрать разве что вовремя – успеть ухватить, пока что есть. Чуть позже, через несколько дней, Чиф поймет, что здесь зазря не обижают, голодом не морят, относятся к тебе как к внештатному доппайку; Чиф «собачьих вахт» с полуночи до шести утра не нес, глаза серым надвигающимся утром не тер... выспался, работник, за все грехи, отъелся, его даже на камбуз готовить не пускали. Поесть? Пожалуйте! Но готовить ни-ни. Камбуз маленький, два шага свободных влево или там направо явно не получается; когда готовит пищу и еду (как там лучше сказать про речных моряков) один из свободных членов экипажа, а то обычно бывает подвахтенный – в камбузе лишних не терпят; тихая килевая болтанка идущих в напряг против течения катера с «привязанной» на толстом стальном тросе баржой, суеты, мандража и толчеи на мини-кухне не предполагает. Готовят все по очереди, прочие берут пайку и уходят в такой же тесный кубрик в две стороны по два этажа койко-мест. Четвертого члена экипажа по экономии рейса не было, поэтому Чиф заимел свое собственное место под потолком, узкое, с бортиком; слава богу, не убирающийся гамак, которых Чиф не терпел с детства. И вот он, со своим гренадерским ростом, громоздился на второй ярус и, зажавшись, пытался дремать в ночи. Капитан, заметив его мучения, с улыбкой дал команду-отмашку: «Не насилуй себя. Вижу – тяжко тебе без таежно-степного простора. Разрешаю, и ребят предупрежу: когда нет кого на лежке внизу – занимай место, но только на шесть часов».
В рубке за штурвалом – человек в тельняшке, на узком столе рядом карты-лоции, приборы и прочие атрибуты. На панели расписание шестичасовых вахт, с самой муторной с 24-00 до 6 утра, которые обычно предполагалось нести капитану. Подъемное высокое переднее стекло рубки, при входе колокол для склянок. «И неужели бьют? И зачем эти лишние напряги?» «Так положено». На корме устройство лота для замера хода. В рубке включатели ревуна, прожектора; на коротком тросу над рубкой какие-то флажки по международным правилам. Передняя небольшая и удобная палуба; по периметру катера ограждения фальшборта; на чугунном массивном кнехте замотан причальный канат. «Пенька?» «Манильский трос. Лучше бы пеньковый, он надежней и более удобен, колом не становится и гибче. А этот капрон-манила...» Шесть часов вахты, шесть часов сна, шесть часов предвахты с наведением аврала на катере и в гальюне, с приготовлением и приемом пищи, мелкая текучка и лично-бытовые дела – и круг снова начинается: пора на вахту! Человек становится неподспуден сам себе и его уже несет река.
— Всё, вышли на прямую... Теперь будет посвободнее, речной регистр здесь и в это время редок, как олень под Хантами, — капитан уверенно правил штурвалом. — Можно и заменить свою собачью вахту, поставить ночью матроса-рулевого.
— Кэп, схожу в туалет, а ты пока сдавай вахту. Посидим на палубе?
— Можно. Двинем по «Русскому лесу».
И Чиф отправился по своим делам. Сюда не зарастет народная тропа. Бронированно-железный гальюн восхищал своей архитектурной внешностью – высокий до расточительности и узкий до умопомрачения, с дверью без защелки и с огромным иллюминатором; все просто и понятно – держись за стены, случайность тебя не запрет и не заклинит в железном ящике, а страждущие видят, занят ли объект. Как тут не вспомнить анекдот? Продается северный туалет в виде трех палок... и как же им пользоваться? Две палки в снег и за них держишься, дабы не сдуло. Понятно. Ну, а третью-то палку куда? Зачем? А, запасная! Да нет, уважаемый, а от волков кто будет отмахиваться и чем?
И стоит вечная незабываемая картинка в грустных глазах бывшего геолога. Ее не размоет время и напасти... отваливающий поутру от иртышского крутоярья катер с баржой, куда неожиданно врезается высокий и надрывный будто волчий подлунный вой; аж жуть берет от его тоски и страха, – и не высказанной неприемлемости предательства. На причальном дебаркадере, вплотную к быстрой воде, сидел большой черный пес с обрывком цепи на шее; и, задрав морду ввысь, делился с людьми своим горем – выл... Люди на катере страшно побледнели.
Но то наши предсмертные сказки, а пока Чиф двигался неумолимо к своему 35-летнему юбилею... точнее, подвигали его дела минувших лет. Вот уже и лапу некому пожать, перекинуться словом с поселковыми... всё было, всё было – да прошло.
От излишнего безделья Чиф стал изучать лоцманские карты – что, где, когда и куда, чем здорово досаждал матросу-рулевому на его вахте. Тот кидал угрюмые взгляды на шелестящие большие листы-квадраты и плыл по наитию, по бакенам, шарахаясь встречного движения... Куда уж тут мели и засады, когда сухопутные неучи лезут в «морские души»
Капитан подарил Чифу тельник. Тельняшку зимнюю, не ту летнюю майку-безрукавку... В свою собачью вахту учил держать румпель (штурвал?), который рыскал у Чифа цепями передач и дрыгалось всё под-страсть, учил пользоваться лоциями... Чиф, дергавший «рычаги» вездехода, вертолета, трактора, был весьма доволен, и особенно собой. «Сволочь сухопутная! Крыса, — скрежетал зубами кэп в своей ночной кошмарной вахте. — И так забот хватает, а тут еще этот неуч, тупорылая... Да кто ж так штурвал рвет, пехота геологическая! Надо нежно, будто жену любимую гладишь...»
А что, бывают жены нелюбимые? Кэп был разведенный.
Команда, однако, была крепко сбитой, спетой и спитой. Кэп держал всех при «памяти». Вне службы – не моргал глазами на шалости, по службе – драл шкуры. Посему и шли по Иртышу без приключений и наворотов. А по оба берега Иртыша шли красивые и старинные древние поселения. Эх, нам бы такие... Впрочем, и на Урале такого добра хватает... на Урале чего только нет – озера, горы и скалы, каменья и тайга, загадочный люд и большие тайны.
Пробили утренние склянки. Зачем-то заревел катерный ревун – суда расходились при встрече аккуратно. На флагштоке катера полыхал огонь флажков, по низу и не на виду сбитые до кучи ждали своей поганой очереди «прошу помощи». Веревки и тряпье морское на ветру и на виду не полоскалось – не положено.
— Вздрогнем? — сказал кэп. Как он устал в эту собачью вахту от своего добровольного помощника-геолога... кто бы знал!
«Мне бы набок, завалиться спать и дрыхнуть – трахнуть бабу во сне, а я вот чухаюсь с ним... Тоже неплохо, однако!»
Ему, геологу, что – отлежал бока от безделья и вахт, сожрал свои «макароны по-флотски», сходил в гальюн, послонялся по катеру – и вновь как огурчик.
Но мой Адмирал не зря говорил мне: не шути с огнем, слово и каприз заказчика – наш морской благородный закон (и пусть мы не носим кортиков и вырвались слабовато на «река–море»). Ты хочешь вернуться туда, выше, а? Это я обречен, а тебе – «большому кораблю большое плавание»...
— Замолчи, — затопал ногами Адмирал. — Кабы не я – валялся бы средь бичей в Хантах. Ничего я от тебя не требую, просто жалко сорвавшегося пацана. Потом мне спасибо скажешь! Потом!
Кэп задним умом понял: спорить не о чем, гонор свой раствори в волнах Иртыша... да и кто я, бывший детдомовец?
... Если пить нечего, то на безрыбье и рак щука. Мы с кэпом расположились на передней палубе, прям перед глазами рулевого – как уж он нас там материл и терпел, одному богу известно.
— Вздрогнем?
Я с отвращением смотрел на «Русский лес». Зеленый, бр-р, отвратительного и поганого цвета; ребята при мне его пили, разбавляя – и тогда он шипел белесым злым огнем. Пить одеколон Чифу приходилось второй раз в жизни: первый – на войсковых сборах по окончанию института, второй раз – сейчас... И дай бог, чтоб сие было и плакалось в последний раз. После одеколона любая стеклянная тара идет на выброс, промывке не подлежит.
А выпить так хотелось!
Он никогда не разбавлял спирт.
Пошли вы все, чистоплюи конторские... Чего не сотворишь ради умершей идеи.
— Чиф, а что это ты про блокаду все ненароком говоришь?
— Кэп, не понял. Ты про что?
— Живы, говоришь, будем – не помрем. Пока человек жив – и забота есть для живота его. И вообще – блокадное... ты что, оттуда?
— Нет, кэп, рылом не вышел; я послевоенного образца. Когда был в Ленинграде в 78-ом, мне все коренные и блокадные провожали и указывали мой грядущий маршрут. Древние бабки и деды, пережившие 900-суточную блокаду... я там был на Пискаревке.
... А что, кэп, вот ты меня спрашиваешь – отвечаю старым блокадным анекдотом. Пережившая блокаду женщина встречает внука и его компанию и кормит их – «оголодали» – от всей широты души: «Да вы ешьте, ешьте, дитятки мои ненаглядные... да вы мажьте хлеб маслицем...» «Да мы, бабка, мажем». «Да вы ж его кусками жрете!»...
— Для чего? — просто спросил кэп.
— Все просто оказалось. Пришло время и я узнал – дед мой погиб в 44-ом под Ленинградом. Им хреново там было – без толковых хлеба и боеприпасов, в холоде и болотах... До сих пор ищут его могилу, а похоронка уже есть. Была, точнее. Его жена (а моя бабка) отдала ту бумагу на махорку соседу... Осталась без военной пенсии потом. Чуешь, батьку – без бумажки ты букашка...
— Ну, а с бумажкой – человек? — качнулся капитан.
...Ну вот и подходили будни Чифа «сплавного» под ноль... приплыл он по самые уши в пункт своего назначения – славный город на Тоболе-Иртыше, неповторимый и древний город Тобольск! По нему история давно плачет... тот еще!
К вечеру, во вторник, караван пришлепал до Тобольска.
Что же далее? Кэп голову уже не ломал – дошли... у Чифа вновь заболела голова и позвоночник.
И вновь понял Чиф, переговорив с капитаном, что на его деньги по чековой книжке нельзя рассчитывать на хороший толковый причал... кэп знал «тобольско-речную» округу, имея огромный опыт, и прямо сказал: «Дохлое дело, командир! Думай!»
Боги нам не помогут. Контора за нас не решит. Это вы, ублюдочные и брошенные исчадия ада, про коих забыл Бог и Правительство «86» – удумайтесь сами... решайте сами... быть вам или не быть... а угадайте – тепло или холодно?
Холодно, холодно, холодно мне, сволочи, в конце июля 86-го. И не собираюсь никого винить, сам в дерьме запутался и никто уже не поможет. Тяжко, тяжко, да и орден в зубы не дадут, на грудь не понавесят. Всё круто, ясно и понятно, но оттого и грустно; и если вдруг не схватишь ты свинца, медаль на грудь подхватишь «за Отвагу».
Нелепо и грустно. Всё рушится. Все «ЕГО» благие – перестройка и ускорение (вырастал в годах их будущий «Нобель») – что это?.. Бабы ликовали – конец их пьяным мужикам, не ведая того, что Русь испокон стояла на «меду» и славных дружинниках князей русских.
Что-то понесло Чифа... не в ту степь, в степи половецкие (половские) или в печенеги (забыл про другие...), уж не говорится о степях казахов и Диком Поле... И служить бы рад, да вот прислуживать (а, Чиф?) тошно.
Живой? Да. А что еще надо?
Да, пока живой: я – начальник северной партии, которого почему-то вязали в наручники и пытались стрелять – есть сволочи в русских селениях и советских экспедициях, по которым пули участковых давно плачут. Но только не я... за моей спиной десятки законопослушных, и иногда – спасающихся от закона Большой Земли, которыми пичкают периодически... «Север всё спишет. Дальше фронта не пошлют...»
Что же будем делать, Чиф, на диком бреге Иртыша... Где и как твой дерзостный десант и где твоя противнющая воля...
Вечер. Поздний. Ко вторнику на «занавес». Что еще можно сотворить и не пора ли на «закат»? А и правильно, логично и всё прет по инстанции.
Надвигалась угрюмая и беспросветная «среда в неделе» тобольского самодержавия.
И что... еще ничего пакостного в этом мире нельзя сотворить? Чиф и кэп вмазали по случаю благополучного прибытия в «земли обетованные» (после чего у Чифа в «синей сумке» остался нуль и чуть копеек), задумались.
— Хочу тебе помочь, Чиф.
— Помоги, — кинулся на расслабуху геолог. — Неужто, батюшка?
— Ты как, Чиф, собираешься «дело» делать по высадке в этом неизведанном болоте?.. Берег-то хоть и низкий, но и ведь заболочен. Здесь будешь штурмом брать свои крепости?
— Есть лучшие варианты? Как сгрузить с баржи... снести на берег оборудование – это где и когда? Берег пакостный, мне не впервой, но удобный. Другая сторона – скалы Иртыша; а мне надо под «бок».
— Логично. Так идем?
— Куда? — ошарашено вопросил Чиф.
— Воровать... пялить настил под твой тракторишку, который сделает насыпь с баржи в болото. Ведь нам не светит цивильный шикарный пирс-причал, да?
Полночи их «сторожевой» (без баржи) лазил там, «где плохо что лежит»: там пошумели, там чуть не подстрелили, а вот тут безнаказанно лежали мощные плахи-доски.
К утру стояли на месте, у приколотой баржи.
И чтобы Чиф делал без моряков, сухопутная крыса?
Фома Неверующий Чиф – и помолился. Правда, богу своему, для людей других недоступному. Он давно уже проклял Бога, Черта и свою «божественную миссию», кою подогнал для него Чернобыль и иже с ним.
Где же высадились? И здрав ли был тот человек, который выбирал в этой узкой горловине Тобола (уже Тобола!) это место, где мертвым памятником выброшен на берег сгоревший теплоход...
Да вроде и другого нет. Ведь дальше к переправе – вообще болото по берегу, оттуда и совсем брода нет. Там только будущий мост и «остановка» «Берег левый – берег правый» меж аэро-Тобольск и град-Тобольск; ходят речные трамвайчики.
Вроде правильно, Чиф? Но если наобум и внахлест – то правильно; минимум затрат – максимум забот. Ты про то?
А что мне еще остается, как только «высадить» десант не в гиблое место? Других таких здесь нет. Дураков, искателей приключений и «унд зо вайтер»! И так далее. «С нами Бог» – выбито было когда-то на пряжках будущих военнопленных немецких солдат, строителей в Тобольске, – «Mitt Uns Gott».
Так ты, Чиф, правильно выбрал и определился с местом высадки? Ты же, голова седая, имеешь опыт в горящих и зыбучих берегах Иртыша! Так у тебя душа не дрогнет?
Чиф выбирал место наобум. Где проще, где дешевле, и не так сволочнее. И где себя пока чувствовал в своей будущей тарелке, всеми любимой «тэт-а-тэт». Но это еще ни о чем и никак не говорило, что удача и явь будут на его стороне. Так не ближе ли, Чиф?
«А кукиш вам», — устал бороться Чиф с призраками. В ту ночь, когда они «прибрали кондовые доски причальные у кого-то неизвестного и были неизвестно кем обстреляны, Чифу пришла в ночи блажь, аж райская благодать типа «сукин ты сын, можешь размагнититься... или уж размагничиваешься?..»
— Ну уж Вам? — но почему «вам» именно с большой буквы, Чиф, очумелый и придурковатый со сна, так и не смог в себе это «одобрить»... Значит, «тайной покрыто».
Речное большое утро – как бог подал! Рекой сжато, в стремнине – будто душой прижат... что-то не так. Сам Тобольск над рекой в районе узкой горловины так зажат – аж страх! А потом буквально через сотни метров река прорывается – и вот он, простор... Тобол – дитя Иртыша!
Баржа пришпилена к берегу, где вечным покоем рядом упокоился пассажирский (сгоревший) теплоход. Пришли призраки; кэп знал эту историю чуть ли не дословно. «Хорошо известная та была история; дай бог ее не забыть, — кэп перекрестился. Сам знал? С чужих ли слов? Моряки, они народ мудреный, суеверные... это не то что мы, пехота...
— Ну и? — кэпу.
— Спим. Утро с вечера – мудрено... Отбой!
Я, конечно, не Малая Земля под Новороссийском, и, конечно, не Юлий Цезарь и наши политики, но свои дела понимал.
Всё просто и понятно – будет мне хана при... (даже мысль призабыл). Но это бывает при стрессе, очередном шоке, которые Чиф почему-то постоянно и периодически «хватал». А ему это нужно? А зачем?
Ведь это ж правильно: в мозги Чифа врублено его программой-гербом «Прорвемся»... Ну и это, это самое – прорывайся, коль на твоем поганом гербу записано так весьма гордо – «Прорвемся!».
Да с богом, кто ж тебе мешает. Еще «далеко-далёко», а вахта, так и не поев, а капитан, не доспав кучу благ-часов, кинули с баржи плахи на берег. Если Борисов, точнее его «бульдог», сумеет выйти на грани фола на берег – мы... я спасен... Потом будет насыпь, потом пойдет груз косяком с баржи на берег, и я – спасен?
Доски, кондовые и мощные, устанавливал сам Чиф. Экипаж с интересом наблюдал. Борисов был равнодушен. Тут же топтался водитель ГАЗ-66, говоривший, что «всё это – ...!».
А и никто не верил: ни экипаж, ни водила... Кто еще, друже?
Только Чиф и Борисов, моя любимая пьянь-бульдозерист, стояли на «пиратской доске для выброса в море». Пан или пропал? Паны дерутся, а у холопов чубы трещат – это ли не украинская черная быль?
Плохо то, что края досок нельзя было на барже «впилить» под нулевой уклон – они самые выпирали над палубой «чуть-чуть», что и...
Чиф «помолился»... тоже мне, Фома Неверующий. Правда, что не крестился...
Сукин сын, Борисов! Он что, не видит, что ему гонят фуфло?
Трактор медленно и уверенно развернулся на барже, не подрав сильно дерево палубы, и пошел на «заход».
Хрястнули-перестучали кондовые доски перед заходом на них трактора – но аккуратно, тихо прощелкнув; успокоились затем под «трахом». И...
Чиф закрыл от бессильной ярости и злобы глаза. Всё видел, многое... Но не хотел видеть позор свой! А он был – через четыре его недели в канун его блевонтинного тридцатипятилетия!
... Ну вот он пришел, иль придет скоро, уже неважно...
Сломались эти доски кондовые... и на чековой книжке – нули, за «хрень» не купить приличную гавань для разгрузки... ведь всё экономим... после апреля 86-го... а может так и надо...
А мне?
... Людям, людям скажи, Чиф! Которые тебе доверяли и верили в тебя. Тогда, когда еще не было 86-го! Поклонись им: Бусову, Константинову, Карелину, Меньшикову и многим другим, которых ты уже не понимаешь... Сухова, Волкова, Норко, Савельев, Облапенко. И несть им числа. И не они виноваты и грешны «против 86» – вот поэтому и нет наград за то «дерьмовое время впустую» Большого Канала: время переброски Сибирских рек в районы Средней Азии ушло безвозвратно. Потом будут премии, награды, ордена, почетное завершение работ, долгие болезни геологов – но ведь это все не в счет, политика выше...
Ну, треснулось там у Чифа, что-то сломалось в дереве или в душе у человека – а им-то какое дело до нас до всех?
А мне – до...? Именно сейчас, дело-то ведь пороховое.
Уважаю Борисова и водилу с ГАЗ-66. На них, потомках отважных, и мир стоит отважный. И неважно, как они «к себе сам»... Но ведь они люди «сам».
Н-да, Шеф, может, тебя все же не зря вздрючивали в институте насчет...
Философии? Ох-ух-мух, муторна наука; толковая... В моде была триста лет назад. Перечислить, чтоб мои предки знали, в кого мозги вбивали... И все равно приятно опять же: Кант, Гегель, Фейербах, Ницше, а после и другие, о которых я не вправе забывать при своем высшем образовании...
Все правильно. Трахнуло. Обвалило. Даже пихта не выдержала. Обвал был полным. Чиф глаза таращил – единственный экзамен в институте, который он там заваливал, был термех... уж не ему ли быть сейчас, осознать потерю... Ну, здравствуй, Теоретическая Механика!
Ну, вот, наверное, и всё.
... Я не знаю, как там Борисов и его содруг-водила выжили на барже, где и как спали, что ели – то непредсказуемо и весьма непонятно.
Конечно, хочется сказать: «здесь русский дух, здесь русью пахнет». Но так ли уж будет сие справедливо.
Борисов! Этот хренов алкаш! Любовь обрел, сволочь! Бич! Ведь на него вся надежда...
Они, эти кондовые краденые доски (а с какой любовью их выбирали), только так хрюкнули под весом трактора ДТ-75 (с отвалом-лопатой); ну и...
А как же иначе, подонки! Хрястнуло всё и в голове Чифа.
Только ведь Борисов – он и есть Борисов. Он с наглой мордой попросил «до того» выпить (не опохмелиться – на барже за неделю много ли успеешь). И потом...
Сломал, сволочь, все дрова. Рухнул с древоколья под откос, потому-то и жмурился Чиф. Грохот был?
А зачем?
Борисов вышел «из ничего» на берег. Стоял и улыбался, сукин кот.
Так что? Пойдет берег левый-правый?!
Экипаж перекрестился (слава богу, нет излишних проволочек).
И я, который без удачи жить не может.
Волчьи законы надо уважать. Не мы, человеки, их создали, и не нам их отменять – волк появился раньше обезьяны: пока она там думала, обезьяна, древний волк уже создал стаю, и никто уже в природе не отменит «их» волчьи законы. Вот только человек, позиция его неудобна (борзая...) – но ведь хрен попрешь против репы!
«Богатый безумец!» — ухмыльнулся Чиф. Он любил над собой издеваться. Для кого-то там, занюханных и избалованных, знатное слово и чмо-действие «аутотренинг», а для него – всегда в «позицию», в позу, будь всегда готов, как пионер перед вечной осадой или столетней английской войной. Я человек вольный и вольнонаемный, тоже ведь хочу свободы; и не заставляйте меня как в том бордельном анекдоте тех паршивых потом «девяностых»: думай – думай – что тут думать – прыгать надо... И тебе тоже, Чиф, заранее и на потом.
Креститься, конечно, Чиф не стал. Не того он образца. Но глаза его узрели дрова вместо досок, а уши слышали «хряк» и «пзз-цц». «Ты помолилась на ночь, Дездемона?» «А тебе какое дело, что счас древнее утро?»
Помирать надо с музыкой.
Даже когда литавры не бьют.
А в тайге и на севере и такого зверя, как духовой оркестр с его медными трубами, а и не встретишь – редкий сие зверь, непонятный, и не медведь, не полярный волк, и не мелочь пузато-благородная... Только шелест, если оно присутствует; зимой мертвая тишина над промерзшим батюшкой-рекой; или же наоборот – шум и гам, следы и брысь, успевай только поворачиваться и глаза задирать... Тоже мне, хулиганьё человечье... гляньте вон на вогула – приятно взглянуть было ранее на его тундру и приполярье, да и рыжеволосый хант был неплох при Урале и северах.
А мне-то? Какое мне до них до всех? Я свое дело сделал – отутюжил вездеходом их древнюю землю, завалил их вымирающие поселки пустой стеклотарой – пора и домой, отдохнуть опосля дел загребущих. Может, премии и ордена будут...
Сволочи! Бросили забытую экспедицию, откуда уже не идут неотправленные письма. Разгребай!
Борисов улыбался. Не завалился в ад и не утонул в очередной раз. Но если быть точнее, то Борисов криво ухмылялся. Знавал я такое выражение рожи, типа «Жив, ну и ладно; значит, до следующего ража».
Экипаж с благоговением смотрел на... каскадера? Лихача? Рвача из ничего и пустоты? На него, да, на него, на Борисова. Крутой гео-Чиф ушел в тень при его людях.
— А что, кэп, есть на борту зеркало? — зарычал Чиф.
— А как же! Подгреби с поганой суши и глянь в себя на катере.
— А на вынос не дается?
Что-то весело пошло. Не дай бог сглазить. Чиф не верил в чудеса... Это уж потом, годы спустя запел: «И как приятно возвращаться под крышу дома своего».
Мы все спешим за чудесами.
Бодро, весело, без песен и траурных маршей, Борисов после чарки ожил и начал ворочать «дорогу жизни» с берега на баржу (в Ленинград?) – как и должно быть по жизни, было и здесь: топкие берега и цивильные рожи не ближе трех км.
А зачем и еще раз вспомнил Чиф про Великий Ленинград? Про деда своего, которого так и не удосужилось увидеть... иль про другой Ленинград, где все провожали и показывали «куда идти человеку в Ленинграде». (Значит, он, Ленинград, ныне у старика Чифа будет как Питер, по-старо-блатному... Вот только не шутил с историей никогда Чиф. Ленинград, Сталинград – их же махом не черкнешь из российской истории).
И начали «орлы» его летать с баржи на берег и метать что ни попадя, и оказалось, что хозяйство пропавшей северной экспедиции не так уж мало.
И только ближе к вечеру – ажур; баржу на ночь «законтрапупили», катер «уснул» на дешевых вахтах, сдохла собачья вахта. Покой и речные объятья.
Интересно, Борисов здесь оторвется? Зачем, как и когда... этот лазейку найдет. Но? На диком бреге Тобола, через реку до города и на ночь глядя? Но утром Борисов вновь еле ворочал языком – контакт внеземной и чудесный с матросом-рулевым катера.
Кэп вставил «энту самую» провинившейся матросне, на полсуток списал его на берег и ушел в сопровождении своего старпома и Чифа до славного града Тобольска. Жизнь пошла вновь, как ей и полагалось – по расписанию.
— Склянки отбили? — прорычал кэп. — На флагштоке всё правильно? Нет там SOSа? Салаги противопехотные.
Чиф не понял: причем тут противопехотные... и даже обиделся кэпу – мол, я артиллерист... и что?
— Ты бог войны. А эта шалупень...
Катер наш ушел.
Тобольск – древний северный царь-город, старый центр Екатерининской губернии-края. Могуч и силен. (Куда и заслали в свое время в ссылку Николая II с семьей). И где высится рядом с Тобольским кремлем – незабываемое зрелище стен, колоколен, церквей – стела Ермаку.
Что и показал Чифу его кэп – не зря ж он мореходку «ходил» в Тобольске. Чиф от злости и зависти аж подавился: знать насквозь заел его Тобольск с его переправой и вертолетной площадкой, с его Пионерным поселком и заводом «Комсомол построил» (извините за «других»).
Это Тобольск. Поражает и бьет.
Чиф думал, что он знает Тобольск. Берег левый, берег правый – на одной стороне аэропорт, куда через реку шляются речные дорогие трамвайчики; на другом бреге – массив, не сковырнешь древней лаптей.
Кэп ему показал. Объяснил. Рассказал. И еще раз показал. Что, Чиф, не знал Тобольска? И вот все сложилось в кучу.
Они с кэпом по блату зашли на самую верхотуру Тобольского кремля.
— Моя Родина, — просто сказал кэп.
Да. Н-да... Внизу простирался старинный Тобольск, за кремлем бестолково шелушился АДМ (инистративный центр, и для чего здесь он нужен, жизненное плато занимать?). А далее виден уже новый, многоэтажный и бестолковый Тобольск.
Свят, свят! Крутой городище! С ним не пошуткуешь. А оно и так: Тобольск есть Тобольск, заставит уважать своей древностью и сединами... уважать себя-Тобольск и себя-Человека! А как же иначе? На том и стоим; и стоять будем. Вот только свяжем речные берега мостом, опорные «быки» на берегу уже стоят – дело за малым... Лет этак на... такими темпами горбатыми. Хоть и не любит древний Тобол торопыг, но, однако, и порченых не любит... а как же! Вон какие человечища отсюда уходили в свои последние дела – Романов Последний, Ермак Первый... Тобольск 50-х построен на костях военнопленных немцев, их здания и дома сразу отгадаешь – по стилю, крепости и вековой бодрости, наши гулаговские пока еще так не научились, слава богу... Хватит, десятилетиями и родословно свое отсидели. Так всё ж как будет правильно: плавать или ходить? Сидеть или отбывать?
У Чифа «развод» был такой же скорый, как и у кэпа. Но салаг в его экипаже не было, водились только штрафники. «Значит так. Обустраиваться. Варить еду. Разведку вокруг на триста метров сделать. И отдыхать; но не в четыре глаза, плацдарм наш на малой дикой земле – но глаз за ним требуется. Просьбы, пожелания есть? Ну, тогда...»
— Есть, — вышел из «строя» Борисов. — Знаю, Чиф, будешь звонить Наверх насчет нашего каравана, и да не забудь в магазинчике нас, сирых, после буйно-помешанных Иртыша и Тобола – всю задницу отбили, – в общем, не забудь наши чай, макароны и водку... А ты как думал? Как будто заново родились, ведь мы ж ...ерои, да? Нас ценить надо, без ухмылки.
Вечером, после дел и забот, после Богом забытого Тобольска, упали на Малую Землю сумерки сиреневые и потом тьма непроглядущая – рано на северах идет злорадная темь. Защелкал и затрещал весело огонек костра, который умело припахал Борисов.
— Куда, Шеф, на ночь глядя? Обойти владения и найти выход с сусанинских болот...
— А то... Время – деньги!
— А ты поутру, пока петух не закукарекал. Ведь не зря глаголят, что утро мудрее вечера... аль прешь супротив закона предков?
— Ну и? Есть толковое и большое?
— А как же иначе, Шеф! Зря, что ль, ты мне водку брал, да еще сдачу богатую свалил... Я это помню и ценю.
— Так наливай, оратор! Под мои наступающие 35.
— Ведаю то... о чем и речь!
В темноте пробулькало. Борисов умел наливать на звук, по булькам, не каждому сие дано.
— Вздрогнем, Шеф! — Борисов в отличии от буровиков и геологов почему-то упрямо называл своего начальника партии в основном Шефом (но не Патроном или Боссом, и тем более Чифом – брезговал он иностранщиной).
— Ну а ...!
Водка провалилась в луженые глотки.
— Где наш Водила с ГАЗ-66?
— Отдыхает. Сейчас моя смена. Да и он помеха нам.
— Подменился, значит?
— А то... Шеф! Ему с нами скучно; всё удивляюсь – пора в могилу, а он баранку знай ворочает. Сам я устал в свои четыре с половиной десятка... А он в свои под шестьдесят? Загадка, Шеф. Отгадаешь?
— Успею еще, Борисов.
— И то верно, командир. А тебя хоть дома ждут?
— Надеюсь...
— И то верно, Шеф. Надежда дохнет последней.
— Слушай, Борисов...
— Весь внимание, Шеф!
— Ведь ты ж у меня такая сволочь умная, не обижайся...
— На дураков трудно обидеться. Так что? Когда наш встречный конвой-караван придет? – вы это хотели спросить? Не жди скоро – они там люди при памяти, понимают, что ты нагреб не на один авто, хватит на десяток, потянет... Пока оформят караван – успеешь ты найти выход из болотной топи на большую дорогу. А пока не рви себе душу, не оценят и орден не дадут.
— Но-но, Борисов!
— Так я про то и говорю, Шеф.
— Ну а водки слабо будущему имениннику?
— У тебя есть в заначке, знаю. Но ту трогать не будем, есть у ней хозяин и барин. Мою допиваем? Соскучился по натуральной после «Русского леса»? А ты не спросил, Шеф, каково нам было на барже целую неделю, без...
— Извини, Алексей! Сам не свой был.
— Принимается. Так пить будем? Я ведь на барже не пил, зря грешишь на меня; я рыбешку там вялил на ветру речном и солнышке... Братанов партийных уважу счас!
— Борисов, тебя дочь ждет?
— А как же! Любит она меня и мои деньги, маман так ее не балует.
— В деньгах, что ли, счастье, Леха?
— И в них тоже, старик. Вон тебе только 35, а уже седой, а я вот еще наполовину черный. Научись не переживать и не ломай мир обухом!
Чиф подавился водкой. Во сволочь, достал. Мудёр... и возразить нечего; военного или же довоенного образца гусь-Борисов... те крепки, как броня Т-34.
Борисов не спеша скрутил махорочно-газетную сигарету. «Читаю газеты, Шеф. А как же иначе про мир иной узнать?» Прикурил от камелька. Вкусно завоняло махрой. «Добавил туда белотравки, мяту, чабрец... откуда? А ищи, да и мир не без добрых людей, помогут. Тебя, Шеф, в поселке страшно уважали, мне через тебя и жить было легче, да и помогал местному населению, когда ты был в Хантах в поисках баржи – там топляк подтащу к чьей-то хибаре, там руками что сделаю, женщину свою не забывал и не оставлял без внимания – крыльцо и изгородь, постель теплая... А что, Шеф, любят все мужики теплую грелку в длину сто шестьдесят? Я фитилей не люблю с тухлыми сиськами, и толстых тоже...
«Борисов, тебе бы судить, поплохевшему мужику – старый и борзой, невысокий и коренастый, правда подкову порвет...» Но глаза красивые, и не лысый, соки мужицкие бродят...
— Что, Шеф! Вижу, как смотрел. Оценивал? Ну и, гожусь на стельки?
— Борисов, ты сидел?
— Да не успели мы с тобой, Шеф. Бог нас миловал. Но судьба-индейка по нам давно плакалась – я не прав?
— Жди, Борисов. Там у меня две – останется одна, хватит. Но! Последняя для нас, чем будем «кусать»?
— А уха на что? Мне ваши макароны по-флотски до фени... Пока ты лазил по городу, я успел и свежачка наловить, зря, что ли, костерок горит?
— Слушай, Борисов, а все же как там на «барже Зиганшина»?
— А лучше и не ведать. У нас – неделя, у них, этих Зиганшина, Поплавского и двух других – сорок девять дней; у нас – минимум и паяльная лампа... у них – шиш и летающая чайка. Я им, орденоносцам, не завидую. Помнишь Егорова и Кантарию, вспомни и четырех с баржи – всем им давался шанс стать потом большими военными людьми – многим ли из них удалось? Смоленский Егоров спился в своем селе, грузин Кантария стал генералом; из четверых «Колумбов» двое стали офицерами... Уловил?
Сожрали мы тогда на темном берегу Тобола и мою водку, и его уху (немного ухи оставили нашему водиле – не борзей в геологии, здесь таких не терпят и не понимают, воров бьют жестко и охотничьи заимки не дают разорить).
Геологи – изгои, ищут то, что не потеряли... И ведь находят! Находили и находят геологи и изыскатели, вдаль бредущие путешественники-географы.
...Страшно я уважаю таких! Пржевальский, Миклухо-Маклай, Арсеньев, Губкин, Авиценна, Козьма Прутков, Колумб, Никитин-купец, матрос Селки, Ломоносов, Ходжа Насреддин, Уленшпигель, Сервантес, Робин Гуд – не перед ними ли я должен склонить голову и ноги, вступая в ряды рыцарей?! И несть таким числа: Александр Невский, Дмитрий Донской, смутьяны Болотников – Разин – Пугачев, Гарибальди, Ганнибал, 300 спартанцев из Лоокии и до древнего Марафона... забыл других и память неблагодарная не пробивает всех тех, кого надо упомнить!
Да, молодым и матерым самцам от рода человечьего, класса «приматы» по Чарльзу Дарвину, всегда не хватало своих вторых, третьих и четвертых половинок. И не заменят им, особо тем, кому за тридцать... – не заменят женщин ни вино и лошади, ни шампанское и скачки с бегами, ни карты и русская рулетка... Они – женщины, и не от мира сего, их надо содержать и лелеять на караты, иначе сдадут и продадут с потрохами.
...Что? Сам знаю, под свои 60. Это еще раньше не хотел знать. Женщина – вещь дорогая и насквозь стекло-бриллиантовая... За нее бить надо по морде конкурентов по молодости, пахать «оторви» в постели... Кому нужны Петрарки. А потом понимается, что они гроша ломаного не стоят. Но это уже потом. Свои женщины и свои родовые бриллианты – вещь дикая и редкая, в упор не вписываются ни в какие каноны... Алмаза в роду нет, а свою вторую половину надо еще сыскать, обнаружить, выкопать в жизненной помойке, где соотношение максимально «Один на один». Удачи вам! В сём нелегком труде и пути... Не вы первый и не вы последний из дураков...
— Борисов, я похож на дурака?
— Весьма, Шеф. Не ты первый. А что спросил? Да и зачем... есть смысл? Совесть замучила?
— Да пошел ты!
— Ужо иду... Жалко нету гадючки, да, Шеф?
— Нету. И не надо. Меньше рвать душу будет.
— Вот о ней-то и разговор... про душу мятущуюся...
Конечно, хорошо вести «душе – щипало» после литровой забулдыги: душу греют «сорок и рыба», всё съеденное под черенок.
— Слушай ты, Борисов!
— А и внимательно! Ты, Шеф, никогда не задавался глупым вопросом – почему тебя обскакали «твои же люди»? Ты же хотел коммунистом быть?
— И не хотел, Борисов.
— Твое счастье. Иначе бы урыл тебя сразу и на потом. Я ведь «сидел».
— Спасибо, придурок, мог бы и не порадовать.
— Расскажи, Шеф, что тебя мучает...
А мучило меня только одно «мучило»: когда шел мой батя в свои последние бои – не заработал тогда своего канди-партийного стажа, не успел, дурак, подорвавшись на мине-лягушке немецкой, противопехотной, так бы и сдох беспартийным и меня бы оставил без Нашей Управляющей Рулевой... Мудёр был мой батя, оставшийся потом без ноги (слава богу, не без двух) и посигналивший мне после своего 45-го: думай, будущий комбат, капитан в запасе и командир батареи 122-х гаубиц – быть ли тебе коммунистом за номером пятнадцать-двадцать миллионов?
Не успел. Спасибо, батя. Но ведь тоже хотел, мне место там было...
— Там ли? — Борисов хлебнул остывшей ухи. — Шеф, ты умный, да и я не дурак. После Чернобыля вся наша экспедиция пойдет в труху, останутся колечки... Тебя же, Шеф, подсидели все кому не лень – все млады коммунисты Зейфизов и Дроздов, тебя кинул старый партиец наш замначэкс – тебе этого мало? Тебя же не пускают заочно и специально в те ряды... Ну а в «наши» тебе рановато... Тебя же уважает народ... Тебе этого мало – Константинов, Карелин, Меньшиков... десятки фамилий за «твое я», не разменивайся по мелочам; геологи – они люди-деятели смутных времен... и все равно – Сухова тебя любит, Югов тебя благотворит, пусть Волкова и ненавидит.
— Откуда ты такой, Борисов?
— От верблюда. Был, Шеф, в Средней Азии?
— Доводилось.
— Вот и мне. Всё это знаю и ведаю... от верблюда.
— Знаком с таким, Алексий Пешков-Горький.
— Не пора ли нам на покой?
Костер утух, не видим и ненавидим друг друга в этой странной ночи, как те НКВД 35-го и КГБ 60-го... Мне много и здорово рассказывала моя мать про Берию... да и, видно, Борисову пошло впрок – он же постарше меня, много знает... Может, ведает и про 58-ю... вряд ли (Меня спрашивают порой сейчас: а немцы воевали за нас?)...
Молчу, как шведы под Полтавой!
Да никто, тупые наши потомки, – никто не воевал за Нас, только мы и вся наша незабвенная Русь – Россия, от времен Владимира и до Николая Второго! Гордитесь.
... Сам себя ненавижу в свои 60. Кто поймет придурка с костылем; если взял костыль, то надолго и до старости, только горбатого могила исправит. Знавал и такое! Не помереть бы раньше. А мне надо – в свои 60! Еще шесть лет впереди под богом...
... Мы успели – в гости к богу! Старичье хоть и тупое, но мудрое, шевелится, за упокой... Когда ж они сдохнут? Успеется. Все они мечтают, и мое гребаное потомство! А я им шанс не дам, придуркам... и почему ж я их так ненавижу... мой военный пахан как ко мне «греб»? Да. По-иному. Правильно.
Правильно. Всё очень правильно.
Соплей и пентюхов нам не надо... свои имеем... Дальше греби, командор, через десятилетия, под свои поганые 60! А уж дальше – твое паршивое Каплино в твои незабвенные 66! С Богом, старичище!..
Простился Шеф со своей молодостью, со своими «35»! Черт бы их побрал, да и были ли они когда, эти 35? Я знаю... Шеф знает – все мы помрем и будем старыми дураками – вот только вопрос: когда? Не все ли равно: в 35 или в шестьдесят... Фортуна наша слепа, с глухой повязкой на глазах; да и зверь наш, именуемый Удача, тоже не всегда рядом гуляет... Не волнуйся, Шеф, твоя удача – на твоей стороне, не хорони себя рано. Да и упрямый ты слишком, такого и горбатый не поломает.
Ну уж упрямства у нас, уральских, не занимать. Если мне задают вопрос – ты упрямый или упорный, отвечаю прямо: я – упрямое хамло и быть таким останусь по-уральски, всё остальное, ваше хваленое упорство – побоку! Мы, именно мы пробили дорогу в будущую Сибирь, Дальний Восток и Сахалин – шли опосля Ермака крутые гос-казаки, несли государеву службу и творили «край Российский» Хабаров, Атлантов, Дежнев, Чита или не-Чита... Угрюмые горы открывали Черский в Сибири, Таймыр был бело-пятен... продолжить? Беринг, Челюскин... А знаменитая Земля Санникова чего только стоит? До сих пор в ушах стоит из кинофильма: «Есть только миг между прошлым и будущим... за него и держись!»
И не всегда по дороге мне с ним!
Философ, однако, ты, Чиф! Крепко вбили в тебя институтскую паршивую науку... ты ж Гегеля от Фрайер-Баха не мог отличить, сучий ты отрок! А что? Еще могу знавать их: Фейербаха, Канта и Ницше из-под Кенигсберга, Гегеля и Софокла... да мало ли кто попадется на мой путь грядущий! Всех переварю и съем, не побрезгую... Батя же мой не подавился Гитлером, Бандерой и Польским Черчиллем. Если уж ему «не слабо», то и потомки его «должны»!
Что? Тошнит вас, аристократы? Ну так, ну дак блюйте и ковыряйтесь как в том анекдоте: салат ел, оливье кушал, винегрет пробовал (жрал, скотина!), а вот как эту кошку, которая жрет вашу блевотень – «как я ее и когда съел – что-то не припомню».
Я тоже не припомню, ибо анекдот сей про новых русских и уже из девяностых годов... Я тогда уже мимо стола уходил. Судите и рядите сами, а я в ваших играх не пытался обрядиться под те нехорошие две буквы...
... Все будет потом, но клинило уже в том далеком 86-ом...
Но не жалею, не зову, не плачу...
Все пройдет, как с белых яблонь дым!
Увяданья голосом отхвачен! – никогда не буду молодым...
Паршивый бестолковый и любимый наш Есенин, которого угрохали как сельского растленца наша славная НКВД! Заодно и других – Маяковского, Фрунзе, Котовского... откуда знаю? Не зря же жили мои предки в те годы – поделились тяжким багажом.
Несу. Хриплю. Надрываюсь под тяжким грузом голодовки 30-х (сам-то я – послевоенный), но знаю и атомного отца Берию, незабвенного Лаврентия Палыча: «Иосиф Виссарионович, нашли похитителя вашей трубки – шестнадцать расстреляли, тридцать два проходят по делу как английские шпионы». «Добре, Лаврентий! Ты уж здорово и особо не свирепствуй... трубку я свою нашел, завалилась за коробкой «Герцеговины Флор».
Как плакала моя мать в марте 53-го, когда осталась «без царя в голове» - три тысячи безвинных людей намертво удавили в тесноте на площадях Москвы. Это еще хорошо, что я рано созрел по тем годам – всё-то я успел, рано читал и много услышал, имел отличную память, помнил маевки и запрещенное рождество... Пацанишкой ходил в тайгу и ставил силки и капканы, казенку под сургучом видел и тупые сигареты под махру и «Красная Москва» с ее «Звездой». Врубилось... врезалось, зашпилило – мои 50-е! Вот так прыгаю по жизни: 50-е, 80-е и другие (хламье горбатое и хвойное и не беру в учет даже!)
Так что, Борисов – куда нам, богатырям, податься: налево, вправо аль прямиком? Везде один кнут: мертвым ляжешь, коня потеряешь, жену не найдешь, да и вообще, лучше поверни свою задницу в другую степь, рос-богатырь. Кстати, откуда наше российское слово «богатырь» – не оттого ли, что он «бога-тырил» в восьмом веке, позже бы ему не позволили на Руси после принятия Ольги Незабвенной нашего христианства...
— Слушай, Борисов, а и пошел бы ты спать...
— Уже собрался! Время – четвертый час утра... вахта моя заканчивается скоро. Продолжения не будет, товарищ майор?
— Собака след не берет. Тебе, Борисов, не предстояло бежать из Бухенвальда?
— Бог миловал. А ты, Шеф, еще сделаешь побег... оттуда, тебе бог твой так повелел.
— Ну и иди ты...
— Уже пошел, Шеф.
Встал Чиф рано, через два часа. И начал нарезать болотные круги. Всё правильно – высадился толково и правильно, без копейки в кармане; но вляпался в болотину не хуже Сусанина. Везде – все эти три «км» до трассы – гниль и перехват, и как туда и оттуда пройдет караван твой, Чиф, дабы отгрести «86-ой груз»?
Утро. День. Вечер. Снова утро и день... Чиф торопился, не такие уж они тупицы, чтобы так долго засылать караван...
Всё правильно, Чиф? Один раз его чуть не избили у остановки на реке около долгожданной трассы на Тобольск – ему надлежало отмахаться против троих; другой раз он нарвался на любителя стеклоочистителя и попросил у этого бича в темноте попить после долгих часов блуждания «вокруг да около»; в четвертый раз он увидел марево, и на пятый – свой караван.
Помолился. Неужто в Бога уверовал – сомнительно, как говорила про него его маман; «чтобы тебя заставить поверить в чудеса небесные», — маман не успела договорить, как зарычал мой тихий и военный отец: «Все по местам! Мать, не забивай сыну мозги, он не из твоих «пациентов» («любимчиков» – может, так хотел сказать батя); ты, мать, иди молись на своего Бога, а мы с молодежью (то есть со мной, я правильно, отец, понял...). Еще бы не понял: «Зря, что ли, я вам, шнуркам моим четырем, давал «образования» – техникумы и институты… Вы на фронте воевали? Разведку топтали… — Да не доводилось, батя! — ... Ну, а тогда что спрашиваете и мать бестолково забили – пошли все вон: жена в комнату, сын на кухню. Клавдия, дашь поесть?» «Ну а как же!» — посмиревшая его жена, моя маман Клавдия Егоровна, мухой подсуетилась. Не узнавал я своего отца. «Батя, а так можно?» «Только иногда и изредка. Тебе не советую. Свою жену – твою мать – я сильно уважаю... кто бы меня пригрел, однокопытного... Хотя, конечно, вдов и молодух хватало после войны... Но она меня выбрала и добила... катаюсь сейчас как сыр в масле». Клавдия Егоровна уже что-то тащила на стол и спрашивала: «Вам налить по стопке? Ты, отец, не напивайся только».
Фыркнул мой Тарас Бульба: «Забыла, Клава, что ли – когда я в последний раз эту заразу потреблял?»
Клавдия Егоровна и на самом деле забыла, когда ее благоверный потреблял зелье: не пил и не курил на фронте, даже в Фергане в госпитале после тяжелейшего ранения не «сел» на госпитальный морфий и местную анашу... в начале пятидесятых запил, всё орал в бреду и полупьянье: «За мной в атаку! Пошли вперед... все мы хотим живыми остаться!» Через два года его бред отрубило...
Потом начнется мой, Чифа. Его сына. Всё аналогично: «Вперед, орлы! Пошли на десантуру! Кто сказал, что здесь нельзя? Нужно. Сам смотрел... Сначала я – вы за мной! Всех нас ждут жены и дети!» Через долгие годы, когда Чиф испинал во сне стены и свою жену – отпустило. «Успел» он: и сбежать из Бухенвальда, побыть в блокадном Ленинграде, где до фронта трамваем подать; был и в жарких Каракумах, где встретился во сне с покойным уже отцом.
Ты кто, сын? Журналист в командировке. Освещаю тему Большого Канала. А ты, Батя, загорел до красноты и тюрбан, смотрю, напялил на голову. Ах да, и забыл, что тебе здесь не впервой... «Приедешь еще, сын?» «Куда ж я денусь...» «Ты не торопись».
... Мне сейчас уже 60! И всё равно не тороплюсь. Бате было 80, только рядом сыновей его не было, разметала их судьба по Сибирям, только успевал кресты ставить на устаревших адресах.
Всё ж Чиф нашел круговерть от их места – от гнилой болотины рядом с погибшим теплоходом до жесткого выхода на тобольскую автостраду. Не зря паниковал и не стал впотьмах жрать азиатскую воду из «стеклоочистителя», прося у бича на остановке в темноте, когда страшно хотелось пить после многочасовой разведки.
Вот только одно помнит хорошо Чиф за последние «сутки», когда рвал и ожидал караван-баши. Стукнуло ему его 35! Где гости? Караван не скоро, где-то еще в пути...
Борисов – не вариант, водитель ГАЗ-66 – и без меня, непьющий, перебьется. Так кто «смелый»?
Со стерлядью под ножом, которую заказывал из этих мест Черчилль Сталину... с визжащими девками на браконьерском крутом катере... Где они?
... Он, конечно, еще не знал и не ведал тогда, что в очередной раз готовит ему судьба-индейка; это ты в свои потом 60 знаешь, что было и как в этой дикой и сжатой стремнине реки недалече от славного града Тобольск образца 1986-го; я вспоминаю всё сначала, уже давно убрали трап, на самом краешке причала стоит судьба моя, голову задрав.
Как провожают пароходы? За спиной у 35-летнего Чифа старый остов парохода, как скелет кита на берегу, впереди и у реки – тоска и отчаяние вечного одиночки, которого ждут ли дома?
По ночной реке, Тобольску славному и своенравному, прокатился магнитофонно-песенный гул; заорало круто, очень громко и «на-хайло», дробясь об скалы и крутояр одного берега и западая вглушь на другой, пологий... В ночь шли ночные хозяева Тобола: на катерах, с воплями и бабскими криками, круша течение и воду, стреляя из ружей и тащась от своей безнаказанности, шла волчья стая на предмет узрения своих вотчин. Готова ли хозяину, браконьеру с Тобола, его добы́ча (у горняков – до́быча, и у шахтеров так же; у зверобоев и рыбаков – добыча́): стерлядь еще живая английская, дичь подтаежная... И мало ли еще что там водится в нашей глухомани: шишка, смола, ягода, зэки беглые, тать гремучая иль тот же зверобой, грибник, старатель какой-либо – всё годится Патрону, что «купил» округу!
Десант катеров на Малую Землю Тобола завершился – грохот, вой, скрежет, визги. Запела надрывно гитара уже на берегу, рванула воинская гармошка. И пошла рвань старо-посадская, треснул берег под тяжелыми ботинками.
Так, что ли, крах подходит? Или долго крадется? Чиф заткнул уши – триста метров между ним и «ними» были не помехой звуковой оргии; население гео-лагеря в страхе забилось в свои конуры от греха подальше. «Так стоит ли доставать «последний огурец»?» — так размышлял Чиф у гаснувшего костра. Всё ж подвалило, дождался наконец. «Патроны – бар? Петька?» «Патронов йог, Василий Иванович». Ну и что, сдаваться тогда, что ли, будем?
Из чернильной темноты внезапно и бесшумно выплыли трое: один – впереди, двое за ним по бокам.
— Вы не из Лабытнанги, орлы? — спросил их Чиф.
— Нет, мы местные, сейчас... Ты знаешь Хорька? Такой...
— Низенький, смешливый и улыбчивый? Не довелось, но неделю назад не его ли видел под Хантой?
— Ребята, — передний громила сделал странный жест. — Пропадите. Мне этот парень из геологов... – а моя служба об ино-пришельцах не спит, докладает вовремя... Да, подайте-ка сюда стерлядь, гитару, бабу и водку... пошли, орлы – и мухой! Прекратите громобой в лагере, пока город не поставили на уши, приглядывайте за порядком. Обо мне не беспокойтесь, этот «друже» не опасен, и дайте мне шанс стать наконец человеком.
— Водку имеешь, Чиф? — спросил он.
— Да.
— Правильно. Не жмись. За день рождения – сам бог велел. Стакан на 250 есть?
Чиф всматривался под огоньки костра и черную темень реки в лицо пришельца. Что он ему напоминал цветом лица, бровями, статью и годами?
Годами – ну, под тридцать восемь максимум. Почти одногодок. Только вот звериный лик додает лишний десяток лет.
Брови мохнатые, как у нашего Ильича II. Жрет женские гормоны – видно пора, истаскался, орел гремучий. На пальцах наколотый перстень и точки, что там на груди волосатой – не вижу. Могуч и силен, ростом бог не обидел, годится в подручные сельского кузнеца.
Смущал цвет лица. Не белый – та кожа не видит годами благосклонного вольного солнца; не оливково-матовый – значит, потомок не из Восточно-Центральной Европы; но желтоватый, вроде как индиец после тропической лихорадки – болен неизлечимо?
— Изучаешь? Я знаю, кто ты! А ты вот знаешь, кто я?
— Нет, — Чиф достал стакан пятидесятых годов, сама Мухина – архитектор «Рабочего и Колхозницы» – изобрела такую вещь.
... Что, почему всем окружающим казалось, что Чифу не пришлось в жизни хлебнуть мелких страстей, больших переживаний и настоящих обид? Но тот, кто его знавал неплохо как человека, видел в нем потом яростного и неукротимого – до беспредельного упрямства – представителя звериного мира и по большинству не стадного, а волка-одиночку. Чиф знал, понял и думал так годами: дружба дружбой, но когда-нибудь тебя сдадут на утеху другим в этом неуютном мире, где ведь каждому нужно место под солнцем... Неуютно, конечно, – мир-то окружающий не без добрых людей. Но если дана тебе жизнь – доказывай... Что не растяпа, тебя не сожрут, не оттяпают «палец в добром рту», не станут смеяться заочно и не будут читать письма, «заглядывая мне через плечо». Добреньких много, барахлистых хватает везде, и рубль длинный любят... Но вот как это: сразу или же потом – как оно лучше и кому?
Пришелец Чифа отгреб в свою лапу стакан из его руки.
— Сначала старшим. Согласен? Нет возражений? Я же тебя старше, да? — он накатил водки в стакан под двухсотую полоску, «забив» его норму, и хватил сразу в свою глотку, будто вбив махом огненный гвоздь. Не крякнул и не закряхтел после своей первой чарки (а может, уже не первой за вечер?). Глубокомысленно изрек: «Ты «малиновский» стаканяк двухсотграммовый знавал такой? Не прет против «Мухи» – мелковат и скользковат в руках, ребрышек на нем многовато, да и мелковаты они.
— Так откуда, говоришь, знаю тебя?
— Да оттуда, откуда и ты Хорька! Давай пей, твой черед.
— Но ведь сотни верст от Тобольска до Хантов, и оттуда далеко до Лабытнанги?
— Дела у меня были и есть там. Раньше по молодости, попозже сейчас...
— Чем зажевать-то, командир? — его взгляд в отблеске тихого костерка в глухой ночи все равно бил холодностью, был пустой, без выражения, и проникал сквозь; видел ли он своего собеседника иль уж давно не зрит других смертных? Да не слеп ли он?
Чиф достал из дорожной сумки какие-то сухари, вяленую рыбу, овощную завалянь.
— Зажевать есть чем, но не густо.
— Не беда. Чудеса бывают только за счет других. Достойны хорошей зависти в этом мире только студенты, молоденькие солдаты и геологи – из-за их текущей неустроенности; а остальным – в гору, спеши за чудесами...
Философия жизненная у моего гостя, конечно, хоть и гнилая, но ведь логичная и какой-то левой правдой заколочена... обычно молотком бьют справа налево, а этот получается как «жизненная левша». Интересно с таким безлимитно потолковать. Как же, здорово интересно, его зовут: Шурик? Или Боссом? (но никак не Чифом иль Шефом, что однозначно, да и патрон – в нынешние времена еще не Патрон).
— Это твои два урки здесь обитают: один упорно рыбалит, второй что-то упорно кашеварит... мои сначала в грех на них подумали – не к нам ли подлые гости? А, ну тогда ладно, – покой останется... Вы, значит, люди мимоуходные, и мы тогда ничего: уходящие пусть уходят, вперед идущие да пусть резво не гребут под себя. Идет!
Из темноты незримо вытаял под красноватый огонек костра гонец. Он аккуратно и чинно поставил перед ними деревянный ящик («откуда такой? Явно не наш», — механически отметил про себя Чиф), бросил на него полотенце, сверху водрузил рыбу, что еще трепыхалась явно, и бутылку водки. «Как говорили, Босс! Чем смогли к настоящему...» — доложился гонец. На что его Босс осклабился недовольно: «И всё?»
— Девки пока заняты...
— Тебе, геолог, обязательно это требуется?
— Да уж как-нибудь, Босс, перебьюсь.
— Лады, устраивает... хотя ведь и обещал тебе.
— Передал твои команды ребятам и по лагерю. Вроде как тише загомонили...
— Понятно, Шурик. Где гитара? Тоже, что ль, занята моим обормотом Композитором... Ну, дождется, парень! Геолог, ты на гитаре бренькаешь?
— Мне медведь на ухо наступил, так что даже «случайно» не играю.
— Ну и ладно... сегодня я добрый «закон», а медведь – хозяин. Приступим к трапезе? Шурик, сгинь.
Босс достал из голенища высоких сапожек нож, похватал на куски стерлядь, плеснул по-человечески водки. Пили водку и закусывали кусками жирной хрящевой рыбы, по рукам тек янтарный жир. Вот это жизнь!
Что у тебя получается, Чиф? Печальная повесть или просто ничто?! Или же крутой Геологический Боевик Нью-86 – Борзо-горбатый выпуск страшилок-триллеров типа «Чернобыль»? Чернобыль – назвал же его кто-то и когда-то так – «черная быль»... Черная – она и есть черная, пусть даже Великая Быль! Предтеча черная и быль Японии, Тоцкого полигона и «Маяка Сороковки». Выходи, Горбатый...
Эх, где мои 17 лет?! Ныне я старше вдвойне плюс 1, полукругло-полуквадратно-юбилейная прошедшая дата... Знавал Чиф таких, некоторых (или уже многих): им возраст под 38-42 года, а они в ящик – это называется первый серьезный борт потопляемости в жизни... Следующий – через декаду, еще следующий – на новый цикл, если свои годы еще не «забортуешь» своими плаваниями и непотопляемостью... пройдешь и сие – и быть тогда тебе непобедимым, непогрешимым, недосягаемым, долгопамятным Предком! Аминь. Тогда и Бог не поможет – раньше всех канонов станешь святым в своем роду. Найдут у тебя корни и родословную, углядят дворянскую линию – и ты из коммуниста (деда твоего 25-тысячника) и ермаковского переселенца, солдат Первой и Второй, вольной Рязани и буйного Кавказа станешь бывше-будущим (Ну явно не перво-разгильдяйским купцом) дворянином с гербом и надписью на нем «Прорвемся!». Лозунг хорош... добавить бы «Погрузимся»; о том, что без балды – не стоит, – обречен доказывать... и рассказывать! Что?
Комары с болота дожали. Водка их не берет – зачем им пьяная кровь? Дым от них не спасает. Да они ж в своем родном болоте – комарином рассаднике, где для них всё, а для человека незакаленного – сумбур и крах... Я не видел в самом Тобольске (а их же тоже жрут комары по сырой теплоте) людей в накомарниках-сетках... В пойме и на реке Иртыш от гнуса нет спасения, кроме накомарника, репудина, костра, водки, ухода от берегов вдаль, огромной выдержки человека и его невосприимчивости к комарам. Но то комар, а гнус и мошка, тучами реющие над Иртышом, сожрут всех; при Тоболе – вредное и пакостное занудливое комарьё, когда не уснешь все же без москитки и дыма – стоять на страже топких мест или же крутояров Тобола мало кто сможет из непривычных, кроме обреченных таёжников, браконьеров и лихих.
— Жрут, собаки, — лениво поведал Босс. — Люди у меня из-за них как стадо бешеных буйволов после мухи цеце. Слыхал про такую?
Чиф не удержался от усмешки:
— Мы почему-то в детстве всегда думали, что огромные мухи, если они тем более черные, – значит, это цеце, тогда коровам конец... А цеце в Лабытнангах не водятся?
— Шутишь, Шеф! — Босс расхохотался, будто его усиленно, мертво-припарочного, пощекотали. — Там... да чтобы... они?! Да там и олени все сдохли в округе, кроме ездовых овчарок и злых краснюков-сержантов. А ты откуда? Кто тебе Хорек?! Давненько не видал... зубы как? Шрам? Облысел?
— Нет, Босс! Улыбка в 32 вставных, шрам на месте, не чернеет волосами.
— Узнаю Хорька... Мы с ним вместе как-то давно приборзели в тех краях, да подзасыпались... не стал бы с тобой крохоборить, но и ведь сказать охота – ты сейчас уйдешь и забудешь... надо забыть... а мне ведь дальше жить надо...
— Хорек шел в Ханты на свидание с ментами. Босс, у него постоянная «отметка» в органах, опоздай – добавят.
Босс глянул пустым отзывчивым взглядом...: «... И все же не пойму, как вас с Хорьком сторкнуло. Он же в могиле лежит, чуть ли не сам хоронил; не успел я до МВД-шников...»
Водка кончилась. Рыбу благородную от Черчилля съели. Ящик перекосился. Один единственный Мухин стакан на 250 мл лопнул, костер утух – а двоим рядом сидящим так было плохо не от водки...
— Ты знаешь, Чучело, я ведь не всегда такой был... был и хорошим! Вот ты тогда десятилетку свою средненькую доматывал, а я уже ЦПШ пошел проходить... Что, не знаешь ЦПШ?
— Церковно-приходская школа. Четырехклассная. Моя мать, нищета-сирота, перед войной ее еле-едва закончила, дальше не успела от голодухи, при сиротстве, от войны... Да?
— Да, старик. Только мое ЦПШ – это другая школа, не по Тимур-Гайдару.
— Слушай, Босс. Тоскливо... и нет более, а у меня сегодня горит! Я уж не говорю про «трубы», но всё ж именинник, день рождения...
— Вас понял, Барбос! И это учуял. А что – будешь сие? — Водка и свежая стерлядь оказались в его руках... откуда, из-под встряхнутого ящика?
... Знать надо людей, понимать: своих дружбанов и своих врагов, родных и далеко не родных, желающих грохнуть тебя (...вот хотели же тебя похоронить, пусть даже заочно, Чиф, а сердце материнское бы не выдержало, и остался тогда твой многоуважаемый батя-фронтовик вдовцом)... Вот ты жив, Чиф, а другие твои маются про твою судьбу – отец, братья, сестра... жена, дочь... друзья, родственники далекие жены – несть им числа! И тебе, оказывается, здесь легче на риске и в тупике, чем им там в их безызвестности.
Чиф «потом» (не в первый раз) всегда ворчал дома, успокаивая дочь и жену экзотичными подарками с прибавкой «да что со мной случится»... Оказывается, – потом он это понял, – на берегу ждать труднее, чем в бушующей стихии, откуда он не знал когда и как выберется живым ли и при памяти. Ждать и догонять – наука трудная, тяжелая, не сразу и не всем дается.
— Водку мы сейчас! Не против? Дефицит. Даже у нас в Тобольске уже такова стала – спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство, что хоть тогда постоянно «сургучка» была... и покурить что – Звезда, махра, Прибой, Казбек, Беломор, Герцеговина...
— Ты что-то успел, Босс, из всего этого?
— Немногое. Но успел. Навязали. Подсказали. Научили, сволочи, в конце концов. И Хорек, потом, где спас и подсказал, не оставив лазейки... Мне б ему спасибо сказать про свою шебутную шестидесятых – а не могу... Но не могу и другое... Он плох?
— Да не богат как царь морской. Но благодушенствует.
— Дай ему бог помощи... вот только узнаю и доберусь...
— И что тогда, Босс?
— Не твоего ума, человек. За всё сполна: мухи – к мухам, варенье – остальному. Сиди спок.
— А хороша водка! — воодушевился Босс, сожрав две стерляжки из-под ножа. — Да ты ешь, — пожалел он меня без ножа в кармане. — А то и жена по нищете не признает. Ты, поди, пока рыл недра – она тоже не опаздывала, а?.. Были у меня такие подруги; первая любовь! Всё ждала и недочухалась... сейчас вон всех девок Тобольска... Все рады под меня, только я эту «свою» тварь извел до низа – сдохнет синим чулком без единого матраса, караулят ее, падлу, мои орлы, дают паек горбачевский и ни-ни... Зря что Ленин, говорят, свою Каплан живой оставил!
— Не печалься, мой юный друг! Может, ждет тебя твоя жена... спорить не буду. Верь сам, старина! Вот тебе полдюжина живых стерлядок. Годится?
— Грустный ты у меня, геолог! А мне поговорить охота, в кои века недосуг. Но ведь со врагом глаголить опасно, с другом – некогда. Порадуешь семью хорошей рыбкой! Да? Не молчи. А то уйду. Пора. Империи страшно без короны...
— А хочешь, Чиф, нож тебе подарю? Мой. Таких в магазине не продают, да и Кавказ нам не чета – то благоухать, против горбатого человека и неуча... а наш – на зверя, на оленя, на человека, на красно-лычного, против лихого и бывших друзей, – смотри, ручка, сталь, кровосток, длина...
Чем не произведение от зэков на зоне по заказу?
— У меня есть старший братан. Тоже геолог, работает на Таймыре в северной глухой партии. На гео-изысканиях. Съемка.
— Так вот ему и подари. Такой нож, чисто изысканно-ручной работы чего-то и стоит: сталь! Ручка! Отбойники! Канавки! Изгиб «носика» и ширина лезвия... Бери!
И нож воткнулся глубоко в землю у моих ног.
Два-ноль?
— В гости ко мне идешь?
— А стоит?
— Н-да, ты там будешь лишней фигурой. И далеко ли тогда до греха. Мои орлы могут и не понять. А посему спрячь пока своих упырей до поры до времени, для их же блага. А то, глядишь, мои ребяты распоясаются, не всегда они так уж и управляемы – подай им кроме «работы» гитару, девиц, развлеченье!
— А нож тебе в спину, Босс?
— Это ты о чем?
— О них! Ведь и они могут так! — Чиф, метавший ножи в детстве с ходу и не забывший навыков...
Нож взизгнул плотно и коротко в узком стволе дерева рядом с Боссом, который и не повел бровью. Ослеп, что ли, дундук?
— Ну, я пошел, геолог?
— Один, что ли? На ночь глядя? Оглох?
— Не ЧП. Там в двух метрах, знаю, лежит в темноте мой Шурик... э-э, шестерка, катись до меня!
Странные люди. Козлы! (За козлов – отвечай).
... Ну, я пошел (Босс);
... Ты ушел, а я жду караван, когда рак на горе свистнет...
— Да, геолог, угости сигареткой на путь грядущий.
— Есть, держи, — Чиф бросил на звук свою предпоследнюю дефицитную пачку «Памира» – нищий в горах... – жуткие времена бестабачья Горбачева уже надвигались на страну (СССР) грозной тенью.
— Держи в ответ («Пэл-Мэл»). И не думай, что Горбатый оставил Тузов без махорки... Но учти, геолог – то ли еще будет, то ли еще предстоит в надвигающем бедламе-беспределе... (и это будет называться демократией, ускорением, перестройкой... куда?)
Вечером следующего дня Чиф вышел снова туда, где вновь было «место встречи изменить нельзя», – и увидел первую экспедиционную птичку: Камаз-длинномер с водителем-немцем, которого он отлично знал по предыдущим «дням»... Ну вот, вначале наши немцы-педанты пришли, значит порядок русский будет. Зам-нач (не зам-нач-экспо) – зам-нач-Гл. уже встал грозной спиной и грудью к Чифу! Вслед за старшим немцем появился его брат на «геофизик-ГАЗ-66»...
Всё! Темно... терпение лопнуло. Ждите друг друга. Встречайте. Тормозитесь. Все дела утром. И на свежую голову.
«Сусанин на ночь глядя через болота с караваном не прочухается...»
Много ли оставалось у Чифа-нищего сил и здоровья после почти пятинедельного «плавания»?
К утру, «на остановке» у твердого шоссе уже сгрудился и стоял готовый к бою остальной караван: КАМаз Волкова, горный тягач «Степанида», наемный бортовой «ЗИЛ» (громоздились в них бочки солярки и ДТ-75 «Алтаец»), буровая на базе ЗИЛ-131 и маленькая штабная машинёшка управления караваном – для кого? Не для меня ли, для будущих дел вырвавшего из бедлама кучу экспедиционного оборудования: бульдозерные ножи, отвал-лопаты, трактора, компрессор ДК-9, катера речные, балок, ГАЗ-66, дом-хоз-барахло, ящики проб-кернов, бочки, емкости для воды, автоприцеп, буровые штанги... И предстояло с утра... Состоялось краткое сборище-совещание, пока все вспомнили, кто они и зачем здесь. «Поднялся галдеж и лай, и только старый попугай громко крикнул из ветвей «вот это да» – ему видней!»
— А это что? — кивнул Чиф на ДТ-75 и бортовой ЗИЛ. — Понял; Наемники, своих сил маловато. С трактором правильно порешили – он и дорогу пробьет, и потянет, что может и надо, к твердой дороге, остальным – как бог повелит и мы сами.
На том и закончилась планерка.
«Почему этот Босс-браконьер не ограбил меня на стоянке у берега реки? — крутилось и отсчитывало в мозгах Чифа. — Странно. Непонятно. Ну не ограбил крупняк, мог и мелочью подручной поживиться... Но ведь не стал же – не до того было, не хотел нарываться? Мы ему мешали; помешали в тот вечер? Ведь на следующее «рано утром» от его лагеря осталось только пепелище костров. Кстати, мог бы, наверное, и купить кое-что у нас, заставив говорить опосля, «что пропавшее потерялось, разбилось, утонуло, усохло при хранении...». Какая хрень лезет в голову!» — Чиф матюгнулся в семь этажей, так что окружающая его авто-орда с восхищением и недоумением воззрилась на него.
— На Борисова рассчитывать «слабо»: его «конь» чахнет периодически, солярку жрет как сивый мерин и дымит; гидравлика на лопату сильно протекает... в подъемных штоках, масла не напасешься. Одним словом – поизносился, надорвался; что-то, конечно, еще могёт, но... — сказал Чиф.
Вокруг загоготали. «Конец Каналу приходит, и «техника вместе с Борисовым» пойдут в экспедиции на слом, как старый ненужный хлам, не подлежащий восстановлению... Может, на запчасти пустят или в «зеленый ряд» поставят». Поняв, что эта шутка может стать горькой правдой, затихли.
... Вся техника экспедиции в конце лета – начале осени ушла (как на распутье) по трем путям-дорогам: далеко, близко-недалеко и совсем рядом; угадайте с трех раз? Ну? Уже теплее...
Вот так резко и плохо, в напряг, пересеклись пути-дороги Атомной Энергетики в лице Чернобыля-86 и Союзгипроводхоза, «государства» в штате СССР, с его великим и амбициозным проектом Большого Канала, который уже начинали рыть-тянуть-строить из Средней Азии, политически прорывая Казахстан и идя в Сибирь на Север. Незапланированный Чернобыль ошарашил сначала тихо Киев: «Граждане, не выходите на улицы без причины, закройте форточки, первомайские демонстрации отменены». Чиф в это время был случайно рядышком, и не его вина, что он не попал из военных лагерей в отряды смертников... где-то и что-то подобное он уже видел раньше и сталкивался с «тихой смертью». Отголоски Чернобыля катились уже по СССР, Европе, а Наше Демократически-Ускоренно-Перестроечное правительство с его прежним Афганом еще не въезжало, ища в «тайге» свой же затерянный социалистический след и ими же оплеванный ради Нобеля уже не светлый коммунизм. «За державу обидно! — вызверился тогда, двести лет назад, один из великороссов сдуру... был он хоть и пьющим и табак-петровски-держащим, но чести не продавал и ради интересов государственных, конечно, не строил из себя агнца, но и попрека сверху не имел.
«А мне-то что? До них до всех? А им – до меня???» — озверел Чиф после «Великого Отбоя» – всё замораживалось, гасились стройки, жизнь приходила в упадок после катаклизмов. — Вот бабы и нарадовались, когда их мужиков оставили без водки и табака. То ли еще будет?
«Мы-то за что страдали, геологические «придурки» многих экспедиций СССР, работающие на трассе в две с половиной тысячи км на изысканиях будущего Большого Канала в двести пятьдесят метров шириной и восемнадцать глубиной? За что нас кормили сгущенкой, тушенкой, фаршем консервированным и мясом, врубая нам прививки чуть ли не от африканской цеце, награждая орденами, подрывая наше здоровье и даря нам долголетние болезни впрок?» — не этот ли вопрос задавали себе, всем и многим благородные изыскатели инженерно-геологических трасс? А и не страшно – есть Афган у военных, пусть его хлебнут и другие.
В бой против «Черной Были» бросали уже всех: героев, желающих, нежелающих и контрактников. Все меры и средства хороши при штурме Берлина-45 в эпоху Михаила-86. Гибли пожарники, умирали военные, медленно и верно дохли гражданские... а ведь были предупреждения «на авось не надейся», даже с водой не шути – просочится, а за ходом атомных реакций зрить да зрить надо... Слава богу, что «отцы» – Берия Л.П. и Курчатов И.В. – уже не видели позора собственными глазами, им хватало своих ошибок.
«Слушай, ты, атомщик Чиф, ты не отвлекайся от темы... Говоришь о высоких материях?»
— А и говорил. И говорить будут. Сам видел в 60-х на «развалинах» великого маяка Атоммаша СССР мутантов человека, животных, растений, рыбы, леса...
— Ну так и молчи! С тебя же брали подписку о неразглашении...
Но-но-но – это когда еще? Раньше или потом в никуда и никогда? А сейчас, что же счас наша экс-экспедицион-техника «являла, быть и есть» к началу осени 86-го? Правильно, о том и речь, которая течет «о трех руслах».
Пришла четкая директива и в наш «огород», где коротко и ясно, в приказном порядке указывалось, что «вам надлежит подготовить и отправить в район Чернобыля столько-то единиц и такой-то техники, полностью укомплектованной до образца новой техники и обязательно при ЗИПе, без возврата оной. К сему – приложить список добровольцев и желающих работать по контракту на ликвидации аварии. Без обсуждений и в указанные сроки. Отвечаете по полной программе гос-обязанностей; виновные в неисполнении понесут наказание, как...»
Как враги народа 37-го?
Народишко подорвал животы от смеха... потом туго затянул пояса на вольном брюхе; потом – из дерьма сделал конфетку, и потянулось вдаль: самоходом, на ж/д платформах техника, с «желающими» ее обслужить при здравом уме и контракте – водители, сварщики, крановщик, бульдозеристы и прочие; кого-то брали только для перегона, кого бросали потом в «огонь». Защелкали для тех-таких вновь дозиметры, облачали их как белых рыцарей и жрали они от тоски «огненную воду», означенную магистрами науки как средство от «криворота».
Не все вернулись с «поля» – кто жив, а кто убит. Сварщик наш, белый-белый, как с перепугу, загнулся через полгода; и деньгам рад не был; похоронили его по-царски; двое мучились потом и мучаются (или отмучились уже, герои?), не находя себя в списках ликвидаторов. А про тех, кто проходил «побоку», на «вспомогательных», – и речи быть не может... Ну, не тянут они на ордена, ранние пенсии, льготные путевки и ино-таблетки! Гречку и массаж в профилакториях дадим – а как же, пострадали.
Шла «укомплектация» техники и ЗИПов для Чернобыля – и вдоль бетонного забора базы экспедиции рос «зеленый ряд» – сюда «села» разукомплектованная и разбомбленная до неузнаваемости техника, уже никем, никому и незачем в свете великих задач: невостребованная, ненужная, горькая и заброшенная. «Плакали мы, плакали»... Весной там пробьется зеленая травка, такая свежая и потом малозатоптанная.
Но с упорством – вот ведь народ твердолобый и российский, до потери пульса и отупения, до окостенения в мозгах – туда перлись все кому не лень – водители, механизаторы, трактористы... туда не зарастет народная тропа, из искры возгорится пламя! То, что сдох Великий Канал, еще не говорило о том, что мелиорация и инженерная геология нигде не нужны и в них нет потребности – экспедиция жила, стала жить, не получая «прикупа» от своих бед и пропавше-возродившихся ЗИПов (инструмент). И впереди уже были – Синарское водохранилище Челябы, Алтайский нефтепровод, Пермские изыскания, Курганская мелиорация...
Но всё это потом – со второй половины августа 86-го... Всё это потом, ибо «та» жизнь Чифа остановилась в его памяти именно в первой половине августа и где-то там было его 35-летие!
Его, Чифа, потом долго будет мучить память – цивилизованного человека, которому не закон – тайга (в тайге вырос), а и где медведь – хозяин (и «мишку» видал)... Чай не из-под стола вышел, в тайге уральской рос. И все же... И все же – что же память услужливая и липучая подсказывает ему – «старче»; ведь хочет она что-то сказать, напомнить про дни прошедшие?! Али забыла, сволочь, как я с ней уживался, с тварью златокудрой? Так что, Чиф? Мают миражи, природные и прошлые; муляжи, все до одного – от музейных и героев – пошли и ушли прочь из твоего героического романтизма; «витражи» жизненные, марево пропащих или же пропавших лет; что гнетет – предчувствие, провидение?.. Да ты не отвлекайся, Чиф, упомни про свои 35, когда ты был сам хозяином своей судьбы и правил балом... Давно это было и неправда!
Зарычало под Тобольском. Грузился долгий караван. Целых почти двое суток. Пробили «дорогу жизни» бульдозером, на кою тропу вышли мелкоудавы из транспорта – и те чуть не застряли. Бульдозер, рыча, тащил, подтаскивал их на болотистое место к берегу Тобола; грузили толпою – что могли и как получится... Рыча, их выволакивал на твердь ЗИЛ-131 «Буровая», с двумя ведущими, с пониженной, с лебедкой, с подкачкой баллонов под болото. Пошел первый! Пошел второй! Застрял и не шел тяжелый компрессор ДК-9, сдох, чучело, в болотной колее – тащили, чуть не порвав оси, в «светлое будущее». Первый день погрузки-разгрузки для Чифа стал кошмаром; и когда тьма упала на тобольскую переправу «аэропорт – город», Чиф чихнул «хватит сего». Его послушались. В бой «длинномеры» посылать туда не будем – дохлое дело, как в Пинских или северо-восточных мокроусовско-курганских болотах, – будем рвать груз оттуда и грузить здесь, правильно? А иначе все счахнем. На том и порешили до утра.
Народ завял от вечернего отдыха, доволен, отдыхает. Все при своих делах: заваривают чефир, пьют чай, едят полу-сухомятку, курят сигареты и самокруть с придонцем, говорят весело и не горланя; вырвались от «верхов» – и ладно... Ладно ли гнать, Чиф? – Да мы все подтвердим твое болотное геройство и незыблемость веры в победу.
И Чифу стало смешно. Да, он торопился, рвал шкуру (но свою, и по ходу дела – чужую). Он сделал всё: семья его, хоть и небольшая – жена и дочь, которые его ждут всегда, – вновь потеряли его следы в бескрайности севера и не могут ждать от него обнадеживающего... Ведь он сам редко, при случае только выходил на связь – и только с экспедицией; остальное Чифа в его долгом плавании не колыхало. Надо – дождутся, надо – прорвусь.
Но утром, не слишком рано и не слишком поздно, вновь зарычало под Тобольском. Дело знали. В первый день их учил Чиф, бегая и тыкая, цепляя и ругая, матерясь и проклиная... во второй день, увидав «объем» работ, ему просто сказали: «Чиф, ты тощий! Пожрать бы тебе не помешало! Волков – своего чифиря дай Чифу; Костя, подгони чарку командиру».
Ведь уже всё ясно: что куда что тащит, кто зачем и почему, из п. А в п. Б... Чиф, да успокойся, взвод твой заведенный; да успокойся ты... Глянь, твоя Красная Армия уже подошла и ЧОН на подходе, банды сдохли!
С асфальтовой тверди смотрел мне в глаза Босс; его «тупые-бессмысленные» глаза в «упор-насквозь» смотрели весело и бесстрашно.
— Ну, здравствуй, Чиф. Я пришел. Ждал?
Потрепанный в делах Чиф разинул рот. Косая улыбка украсила лицо Босса. За ним стояли трое... с огнестрельным. И мой народ, близлежащий, не понял – шарахнулся прочь. Всё ж народ гражданский, законопослушный, хоть и изведавший подлые законы тайги. Остальные, дальние, пока ничего не видели.
— Да, Босс?
— И откуда ты знаешь мое?
— Догадался.
— Продашь? Многое! – на корню. Хоть чуть дешевле дам, но в обиде не оставлю.
Босс не шутил. Неизвестная экспедиция в неизвестных краях мало оставляет следов при неизвестных направлениях... Он много знает, северный Волк.
... Не успел я, Чиф, твое счастье, твое везенье, валяться бы тебе, опередил, обанкротил... Но и друга я себе оставил, да?!
Да! Друзей бы только таких поменьше (но с тех пор – а и не ранее? – почему-то липло к нему все такое – внештатно-уголовное...). Может, судьба такая, расклад жизни, а, Чиф:
* цыгане, которые сперли тебя в младенчестве;
* воры конца 50-х из лагерей, пытавшиеся из тебя сделать своего и потрясенные твоей наукой «нерукотворной»;
* участковые и др. «милицы», заворачивающие твои руки под наручники и пытающиеся бить именно в лицо, а потом...
* после института сватали тебя в уголовный розыск, и ты им где-то чем-то очень помог;
* а и ты стрелял как ас, весьма неплохо: без подготовки и упора выбивал из макарова и ТТ по 47-49 очков из 50;
* замки, которые я «вскрывал»...
Я просто был любопытен с детства. Подписываюсь – Чиф.
Вот поэтому и «не жалею, не зову, не плачу...» С остальным согласен: «Всё пройдет, как с белых яблонь дым». Из тридцати парней и пацанов нашей улицы города я остался один при памяти, с высшим образованием и живой: остальные живут тухлой жизнью, умерли рано, убиты, сидят долговечно в лагерях. Я редко бываю в родном городе и почему-то после 85-го всё чаще слышу: ... ... Но я там уже долго не был.
Пока я вот тут дергался, жизнь шла вперед, убыстряя ход. И к вечеру меряя шаги от болотины Тобола до тверди дороги, я понял за свои новые суточные пробеги, что всё удалось. И что удача, в которую я всегда верил, и которая никогда не покидала меня, – что она снова со мной.
А как же иначе. Прорвемся!
Конвой «ку-ку» собран, отгрузился. Ну и вперед, сволочи, что медлите?
Стоп, командир! Нам эти «твои» бандюги не помешают? Жить хочется. Выставим на ночь патруль, отдохнем, подождем? Добро, Чиф? От «команды» выступал водитель длинномера – КАМаза, с немецкой фамилией. Он знал всех и всё. Знал и меня, Чифа. Куда как тут не согласиться с Немцем моим, если я был с ним в разных дурных переделках не по нашей вине. Сам Бог велел; мы оба в него не верили. До утра.
Ну вот и прощай, озверелый и прекрасный Тобольск с твоим кремлем и Ермаком, недостроенным мостом и вертолетным отрядом! Ну, будь! Наш караван уже в пути, «запылив» трассу «Тобольск – Тюмень». Сколько там до Тюмени, столицы деревень... вроде как под двести пятьдесят.
Будь, Тобольск! Храни царя, тайны, Ермака, береги Мышкина-заговорщика, меха свои и рыбу, про дерьмо не забудь. Моему капитану – отдельный привет.
Вообще-то Чиф не профессиональный геолог, он – горняк, но только так уж получилось. И под долгие километры пути он всегда мурлыкал, не засыпая долгие часы, свои коронные песни. Их он любил и уважал как людей, своих и родных; как людей, идущих с ним в последнюю битву на переправе.
Здесь у нас туманы и дожди...
И как прекрасно возвращаться под крышу дома своего...
Под крылом самолета о чем-то поет зеленое море тайги...
Как-нибудь уж дотянем последнюю милю, мой лучший друг и товарищ мотор...
А снег кружится, кружится и тает, и поземкою клубя...
Есть только миг между прошлым и будущим... но не всегда по дороге мне с ним...
Край небоскребов и чудес... откройте двери...
Эти песни его баюкали и не давали отключаться в самолете, вертолете, аэросанях, машине, вездеходе, катере, на коне, на лыжах, пешком, в бульдозере, под прицелом, за баранкой и рычагами, за штурвалом, под волной «Белоснежного Парохода», в топях Прииртышья, на моторных лодках, в лазаретах партии... ведь не зря же он жил!
Быть может. Судьба покажет. Впрочем, она их, своих любимчиков, любит – как мать своих последышей... Вот только не был Чиф у своей матери последним... Бил судьбу своими руками... а зря: бить женщину-судьбу дело незряшное и неправедное...
Тогда скажите мне, Чифу: где грань между судьбой, удачей, случаем, фортуной, надеждой? Веру он признал и осознал, в любовь давно не верит. Понятно, что надежда умирает последней... Тогда кто – госпожа удача, или та же драная судьба (цепь случайностей и закономерностей)... Но вот, «поганый» случай? Это как...
Дорога от Тобольска до Тюмени – рай северный; для северных водителей, конечно. Для других, однако, она покажется булыжной – так и потряхивает на больших бетонных плитах, будто уложенных в студеную северную пору, которая вдруг отошла – и плиты дорожного перекрытия будто вдруг перекосило. А может, так оно и было на самом деле. Нам кричат: «Север – особенный!» – так и дороги, значит, должны быть особенными. Но трасса Тобольск – Тюмень – это еще не особенная северная трасса, скорее «дорога жизни» для блокадного Севера и Тобольской губернии. Вот дальше – Тобольск – Ханты-Мансийск, здесь уже пахнет северком, на Хантах клинится 58-я параллель, стоит он на ней так же гордо, как и его сородич Ленинград – Санкт-Петербург, оба города славны белыми ночами, только вот в Хантах чуть поморознее (холодно и в Питере, но только ведь это от Ботнического залива Балтики), да и сверкают Ханты порой разноцветными шарфами северных сияний. Такого зрелища не забудешь. В конце апреля зимник Ханты-Мансийск – Тобольск разбивается вдрызг, идти по нему узко и опасно, крейсерская скорость не более 10-12 км в час, и вечно эта канитель в кюветах и разъездах – то тебя тянут, то ты кого-то тащишь... Бросать нельзя, северные законы не разрешают – они благороднее и человечнее. Вот на трассе Тюмень – Курган никто возле тебя не остановится, хоть сдохни. Приходилось как-то Чифу «проплыть» со своим бензовозом из Хантов до Кургана по пропадающему зимнику (избитый наст снежный), потом по плитам, потом по бетонке асфальтно-толковой... встречный тяжелый бензовоз, закуралесив, чуть не взорвался в кювете; лопнул у нас ремень вентилятора, чихал мотор от северной заправки – и... ни души рядом, и ждать помощи незачем; уж как-нибудь сам!
Мой водитель, уж на что парень прямой, честный и не задиристый – таких еще поискать надо, – тихо и задумчиво сказал вслед очередной пролетающей как на авторалли машине: «Чиф, стоит ли в Бога верить? Нет? Нет так нет. А в людей?»
А что я, Чиф, могу ответить хорошему парню «не от бога сего» – мол, верь им, человек... на что водитель грустно ответил: «Верю. И этим экскурсантам по жизни тоже?»
«Да мать вашу за ногу! Что вы меня дергаете, как марионетку? Я что, за всех должен ответ держать? Ну, перед нормальными парнями – готов... Но вот кланяться идиотам и дерьму не собираюсь!» «Но приходится!» — усмехнулся мой водила, и мы поплыли – поплелись дальше... вдаль, в то же светлое будущее.
... Северный караван «Тобольск – Курган» двигался на трассе слаженно, плотным и чуть косым строем, не давая дурным лихачам ни одного шанса на обгон. А что? Скорость согласно дорожным правилам и знакам, идем на «Вы». Северные гаишники – да есть ли они на таежном зимнике «Ханты-Мансийск – Тобольск», а и зачем, скажите? – вытаивают в основном на перегоне «Тобольск – Тюмень», но тут и они гости и хозяева редкие, толковые и правильные. «Хорошо идут, — капитан ГАИ отмахнулся рукой от передовой машины каравана-конвоя. — Красиво. И главное – всё чин по чину!» Красные флажки габаритов на местах, интервал выдержан, передние фары рубят в глаза, скорость «не валяй», арьергард не дремлет. Но уже перед славной Тюменью стало понятно – въезжаем не в деревню, а в перевалочный северный пункт, откуда можно и убраться в любой конец Союза. Тут уже другой гаишник, в лихой подогнанной и ладно сидевшей форме, вопросы «кто, где, куда»... Глазенки бегают по «распоясавшемуся» каравану; зрят бдительно.
Колонна автомашин торкалась во впереди идущие свои же машины, и потихонечку умирала красота строя, клинила сзади чужих. Начала громоздиться большая, в сотни метров пробка. Хмурые и угрюмые бородатые люди высыпали из машин – водители, буровики, бульдозеристы, геофизик (старшой от экспедиции ответ-лицо за проводку каравана до дома), и все они надвигались на бравого гаишника, караулившего вход в «Тюмень-столицу деревень». Народ шел молча, без лозунгов и транспарантов, плотно подваливая к представителю авто-закона. Взвизгнул почему-то, оправдываясь перед милиционером, наш полпред. Чиф в этот базар без предела, в суровую толпу не торопился, не видел смысла – пусть уж геофизик до конца доупирается – авось и пронесет... Хреново принимала мать-отчизна своих героев. Стало скучно и грустно; и лапой некого вдарить... Я уж не говорю про ордена и «спасибо» не требую, не прошу считать меня коммунистом перед боем – прошу вас ради Бога: пустите домой, отпустите до хаты, вечность не был там!..
Кажется, что все-таки есть бог на свете. Так кажется, или же он есть все-таки? Засияла улыбка на добром лице офицера милиции, дана им отмашка и вроде как извинение за свои действия – «проверять приказано, у нас свои заморочки, с северов идущие».
Проскочив Тюмень, встали на дневку. Или скорее на ночлег? «Торопишься, Чиф, в родные пенаты, ухватив бабла (быдла?) кусок? — спросил Немец-старший. — Кроме горя ты там ничего не отхватишь. Слыхал я на базе, как тебя лаяли «верховные» за твой опаздун. Может, не будем... может, не стоит гнать лошадей, а, Чиф? Да и притомились кони! Глянь вокруг – какая природа и просторы, сосновый бор, а в нем, поди, полно грибов. Давно их не пробовал? Поди и вкус забыл... свободы?
— Свободы, Мюллер из «17-ти», хватало...
— Во-во! Так я про что ж говорю... Дай людям перекурить... это ты – «отдохнул» от друзей, семьи и начальства, а они – в бой рвались, навстречу тебе и под твою команду. Не подведи, Чиф, их ожиданий, когда еще будут у них грибы, чифирь, не рваный сон и благородное небытие? Остальное – гарантируем... чистоту в доме, порядок и предоплату квартплаты!
Посмеялись, разошлись. Братва загалдела, а Чиф свалился накрест под сосну и в благодатье забылся. Затерялся не в мире сём! И снилось ему, бедолаге, не рокот космодрома и не какая-то и где-то там марсианская зеленая трава... дрова у дома тоже не вошли в кадр его сновидений. Чиф во сне широко и расслабленно улыбался, что-то пытался в своем бреду шептать и даже зачем-то и почему-то заскулил напоследок.
— Поди, бабу свою трахает? — выдал версию Волков своему корешу Борисову.
— Натрахался он! — Борисов угреб суконной рукавицей сварщика жестяную солдатскую кружку с огня небольшого костерка.
— А ты, Боря-Горе-Борисов? Не соскучился?
— А что нам? Были б мы с тобою... — и Борисов запел елейно-идиотским тихим голосом придурковатую песню.
— Не стоит. Я говорю – не стоит строить из себя барбоса, Борисов! Ша. Другие нас построят, верно? Ты чифирёк-то жри сразу, не растягивайся, вкус тогда потеряется и... пропадет дымок тайги.
— Да уж...
— Не на уж! Слушай, пацан, старших!
— Ну-ну, крути, Волчара, дальше... зальешь своими коричневыми чернилами свои зенки – и выдашь правду-матку?
— Ну ты, лиходей-разбойник! — Волков отпнул пустую пачку индийского чая, ушедшую ровно на солдатскую кружку с варежкой, отобрал голой рукой жестянку с чифирем у своего дружаки. — Благодать божья! А то жрут некоторые сиренево-фиолетовую муть...
— Да, Волчара, — подковырнул его Борисов; знали они друг друга. — В тайге и друг не товарищ без дымка, и собака не ведает, что она друг прокурора и родственник хозяина тайги... тяжко жить без мохнатой лапы! Да, так?
— Но не эдак! — глубокомысленно отпарировал пожилой Волков, водитель, бродяга и «всё при нём». Хлебнул с маху из кружки и задумчиво уткнулся глазами в хмарь тюменской тайги, будто вспоминая иные свои миры.
Любопытный, интересный народ в геологии. Кто при чем и зачем... Вот, к примеру, братья Немцы – зачем они нужны в геологии вечно командировочными водителями из-за их надежности... Надолго ль их хватит? Но работают много лет уже. Нужны такие? Борисов, буровики, геофизик и другие – несть им числа, и что с ними будет к тому времени, когда «цыплят посчитают по осени «86»?
И понял Чиф наконец-то, что всё не свято под луной... или же наоборот – всё свято под луной? И услышал, что за стеной так отчетливо слышно, будто в бой подымают уставших солдат... кровь отхлынула с лица, покрывая его синеватой белизной.
— Ну чисто мамонтова кость! Не, точнее бивень слона, — Волков глянул на тихого Чифа, и вдруг взъерепенился: — Ослы! Атас! Чиф сдох!
Набежали вдруг тут орлы златоглавые... златоглазые? И явился из глубины туннеля святой Пётр, апостол и проводник геологов (ведь при возможности геологи всегда стараются заиметь себе в глухих местах и неизведанных проводника хорошего, желательно из местных... Чем плох под эти критерии Пётр?).
— Отвали, — спокойно сказал старший Мюллер, оторвав Волкова от бездыханного Чифа.
— И отвалю! — скрипнул Волков беззубо. — На нас повесят! Затаскают! Зачем ты его бьешь, козел?!
Немец бил по лицу Чифа медленно и сосредоточенно, с точно рассчитанной паузой, не медля и жестко, но без болезненных отжогов.
«А судьи кто? — спросил Чиф, открыв глаза нараспашку. И вдруг пронзительно понял, что в этом мире что-то не так, и не мир изменился – его сломали в этом мире и убросили в другой. Первый раз с ним это случилось на ринге в институте; второй раз – на практике после третьего курса в Балхаше, когда солнечный удар щедро хватил его по перегретой голове; в третий раз – тогда, когда, приехав на каникулы домой, он подхватил на руки свою мать – для нее он был уже, оказывается, похоронен другими, причем своими же родственниками, – их обоих, его и мать, еле успел принять отец. И вот здесь под тюменским городишком Винзили его хватило на четвертый раз...
... Не дрейфь, Чиф, будет тебе под 60 и тебя свалит дурная работа с ее дурным графиком – в пятый раз. Вот тогда как оно обойдется... Не знаем, и всем миром в той стороне тебя не подымем, не зная, что и когда поднимать... Так ты вытянешь в одиночку, уже без жены? А стоит? Ну, тогда вперед и вверх, а там... «Я пошёл».
Впрочем, он – Чиф – врет. Было падение с уступа – и колено в кровь до беспамятства; свалила лихая иностранная ангина-грипп прямо в столовой Златоуста, куда он приехал за «словом-делом»... Продолжать?
А и не стоит.
Броня крепка и танки наши быстры!
... Меньше чем через неделю спустя врач будет ему бубнить: «Вы отощали, молодой человек, до безобразия, и это при вашей «конституции»; такая роскошь не для гвардейского роста; как вы умудрились довести себя до такого состояния, уму непостижимо, непозволительная трата... Абсурд! Вы кто?»
Конь в пальто, докторам необязательно знать автобиографии их пациентов. Жалко доброго Айболита за мое хамство, но и спасибо им за их... нахальную правильность.
Я, Чиф, подошел к младшему Немцу с его ГАЗ-сейсмостанцией. «Володя, поехали в Курган. Караван и без нас дойдет».
Я, Чиф, подошел к «старшому»-геофизику: «Я уехал, невмоготу через пять недель. Ты ответственен за проведение каравана, да? Нет? Тогда ты зачем здесь, дубль серого кардинала... Слушай, дорогой, я тебя брошу и уеду сейчас от всех вас в Курган в одиночку. Ты «правильно» доведешь караван в эти сто пятьдесят километров до базы Кургана? Ты сумеешь удержать данную тебе власть в кулаке... или кулак у власти? Я ушел».
Я, Чиф, перекурил с водителем КАМаЗ-длинномера, закрутил окурок в землю, сказал: «Бди, Виктор! Не нравится мне всё это – но уехать надо».
... И он, Чиф, уехал, бросив караван, не доведя его до цели полторы сотни км цивилизованно-асфальтных дорог... сзади остались ухабы и бетонка, несуществующий летом зимник, а под колеса ложились навстречу ему новые беды. Обвинят? Да. В чем-то?.. Да. Он очень даже трудно предвидел свои будущие беды; нюх, что ли, отбило, или сгорел в отступлении?
— До хаты как, Володя?
— Смело, Чиф. Адреса не надо... поднимал и был около тебя не раз. Было бы сказано!
Укачивало. Младший Немец шёл ходко и красиво, с соблюдением всего, педант и правильно-быстрый скоростник. Даже на поворотах и виражах не валил с сидения недремавшего в полтора глаза начальника. «А ему попадет, Володе? За дезертирство и исполнение плохого приказа?» — подумал Чиф.
Теперь Чифу грезилось хорошее, красивое, успокоительное. Такое бывает, он знал, в железнодорожном вагоне под стук колес «на стыках жизни»; или же в плавании, когда другие не блюют от качки в стороне от тебя; взлет или посадка самолета – красивы, но душу рвут. Вот его встречают Петр и Павел... Ба, да что это? Продолжение поганых грез или правильное подсознание наконец очнулось от поганой спячки и запоздало порешило протелеграфировать мозгам Чифа устаревшее уже «бытие»?
Качнуло холодом. Чиф отер лапой (дурная сибирская привычка... на Севере так не делают).
— Окно открыто, Володя?
— Так жарко, Чиф. А тут прохлада, на скоростях. Родная сторонка! Она душу греет.
— И немцам твоим-нашим тоже?
— Не чихвость, Чиф. Я ведь тоже слышал...
— От кого и что...
— Язык, языки длинные – до Киева доведут.
— Ну и?..
— А вот шиш тебе, командир! И так седой, а туда же! Как люди говорят...
— Много знать – старость близка, а ин и смерть незаметна... так, да, Володя?
— Мудрено больно, Шеф. Попроще, по-нашему это так: много знаешь - ...
ГАЗ-66 долбанула дорожная кюветина...
Ну, здравствуй, это я. И я, Чиф, всегда верил в свою судьбу, в свою удачу – она меня никогда не бросит на последнем повороте. Только на следующем...
Есть четыре признанных стороны света: норд, зюйд, ост, вест (север, юг, восток, запад). И есть еще два направления человека: вверх и вниз... вверх – кому положено и кому всё мало «высоты», вниз – кому не положено и кому всё мало «тайн»... А на что «положено» – на то и судьбой заложено! Сам человек, не считая время, – и есть седьмое измерение галактик!
Ну ты силен, Шеф, в пробирочной философии. Не зря ж тебя удостоили твердым «удовл».
— Шеф, очнись. Местное время – два часа ноль пять минут. Мы уже дома. Около твоего дома!
Шеф скособенился до своей тощей спортивно-плечевой сумки синего цвета, выхватил мгновенно две крупные красивые рыбины и одну – малую и интересную. «Спасибо немцам». «Может, не стоит, Чиф?» «Всё того стоит, на чем стоим! До утра...»
До поганого утра, где и когда его обвинят в чем-то...
Он открыл дверь своей квартиры на четвертом этаже, тихо и без скрипа. Ему везло на «четвертый этаж», он за ним так и шел по пятам: Златоуст, Курган, Оскол потом будет.
Разбудить своих он не успел. Видно, знали, что он где-то недалеко, в 150 км севернее. Они тихо переругивались меж собой, тихо верещали их полусонные голоса в третьем часу ночи. Жене утром на работу, дочке в школу, надо собраться, одеться, ничего не забыть, позавтракать, наказать друг другу заботы, младшей огрызнуться, старшей чин «такой же» соблюсти... Да мало ли проблем у двоих «Ж» рано утром... да?
Дочь почувствовала первой, жена лишь навострилась против полуночных звуков.
— Папа!
Ну вот, «старик», и дождался ты светлого дня. Как говорилось в злыдни-исторические дни: «Вот тебе, бабка, и Юрьев день!», когда «холопы далекого тогда» имели право на Руси переходить в конце сельхозсезона в конце ноября от одного хозяина к другому. Вот только почему-то у тебя сейчас, Шеф, не пробилось ни одной слезинки...
«Не мужицкое это дело – раскисать». Грядет болото впереди, и вширь и в стать, неповадно будет оно будущим богатырям!
— Папа! Папа! — заплетаясь в сорочке, скатилась дочь поперед мамани с кровати.
— Ты?
(Я. Не ждали? Скучно стало. Вот я и подторопился...)
— Ну, ну, осторожнее... Устал! (боль пронзила позвоночник... но еще стоял).
— Папа, а мама...
— Тебя же ожидали только через день-два! — жена просыпалась.
— Папа, а она не может мне задачки решить. Ты мне поможешь?
— Какие задачки летом?
— Ну, ну... всякие! Нам говорили, что надо читать летом... что-то.
— После вашего третьего класса?
— Да. А что? Я еще и рисовать хочу.
Мир для него обрушился, точнее, он пришел в него, в нормальную колею. Ну, вот и всё? Ты ж к этому шел и убегал пять жестких голодных недель, Чиф... Поганенький Шеф для своей семьи, куда ты только ступил, а тебя оглоушили и ошарашили – и ты уже готов метаться прочь... Очнись, окстись, отринься, сволочь!
Сволочь какая, бродяжья, геологическая...
— Пап, купишь мне краски? Да не, не акварель. Это скучно. Мне надо настоящие, и кисточки из мехов, а? Да не гуашь, фу-ты, ты что, не понимаешь? Мама со мной ходит в художественную школу.
... Папа понял; и Чиф понял, что всё же не надо скидывать со счетов и «восьмое» измерение.
Не успел хозяин ополоснуться в ванной – ждут его за прекрасным и заставленным столом его родные домочадцы. Правда, их мало, раз да два – и обчелся: жена да дочь, да два неродившихся сына (из-за абортов), и далекие, за сотни и тысячи км, родственники. Но всё же потянет род Чифа еще пока и куда-нибудь! Не лыком шиты; тем более не из лапотной Руси, но да и вышли отсель.
— И как ее коммунисты пьют! — возвестил он, проглотив дозу озверина.
А там уже и дочь катилась переросшим колобком, кричала папе-имениннику. С открытки, что мне дала дочь и, как думалось им, что я должен лопнуть от переполнявшего меня счастья... День рождения ради дня рождения? С этой открытки с моим фото смотрел «Чиф» на своего юбилейного друга. Он не усмехался, не кривлялся, он смотрел зело и борзо на своего закадычника Чифа... не подмигивал, ересь не порол, не воевал супротив семьи и тевтонцев-начальников, он был серьезен и зол, карьерист до ногтей...
«А что? Разве это плохо?» — буркнул Чиф, уже глотая коньяк в четвертом часу ночи. Он знал: что встанет, отскребется, очистится на (за) пять недель вперед (назад) и войдет куда надо с соответствующим докладом.
— Что? Что-то не то? — заполошились за ночным праздничным столом. — Мама, я же говорила, что папе это не понравится?.. (Да помолчи ты, дочь, чем плоха рыба?)
— Папа, как я скучала... А мама говорила, что ты ненадолго, я дни считала и сбилась.
— Ну не печалься, дочь. Догоним. Какие наши годы.
— А и вправду, папа. Ты у меня молодец. Главное, что живой и невредимый появился.
— Это как, дочка? Кто ж тебе такое сказал... иль надоумили?
— Да мама всё сокрушалась. Я ее уж так веселила, так веселила – и в кафе-мороженое таскала, и на остров-парк водила... А мы с ней в театре были!
Шел пятый час утра. До разбора полетов для Чифа оставалось четыре шага.
Но вот и всё, финиш близко, и ленточка победителя маячит на горизонте. «Ну, кто со мной за горизонт?»
Утром, как штык, из минуты в минуты, Чиф – не в рванье, в парадном – при костюме, с галстуком, был не на базе – хрена он там забыл, а в конторе многоэтажного здания, где вторым этажом шла его экспедиция.
Первым, кому он попался на глаза и под допрос, был зам-нач-экс, который недобро закосил взгляд и упросил «отступника»:
— Явился? Почему бросил на трассе?
Чиф смерил его в ответ недобрым взглядом.
— Им нужна «нянька»?
— Не вижу толку и необходимости в таких. Ты знаешь, что «длинномер» пробил баллон, а Волков «сдох»?
— Ну и?
— Без всяких «и». Пришла директива кое в чем поторапливаться... а ты срываешь сроки. Ты знаешь, сколько они будут плюхаться «без надзора» с колесом и прочей херней? Иди, объясняйся с начальником экспедиции. А мне, как заместителю начальника экспедиции по технической линии, напиши объяснительную: почему ты допустил такое.
— Какое?
— Нарушение технологии.
— А не помрешь ты от этой объяснительно-пояснительной записки, как вы нас выпинывали за ворота базы колом, лишь бы у вас плавали «галочки» в графе «шито-крыто»... а потом чтобы я бился на Севере своим и чужим ремонтом? А Пэ-Пэ?
Схлестнулись недобрые взгляды.
Все правильно, на ловца и зверь бежит, да и коса на камень нейдет. Неудобно им жить при друг друге, лишний кто-то; а да излишен тот, кто молод и недавно. Тот, кто кому-то мешает и излишен своей щепетильностью службы.
Начальник экспедиции «урыл», прямо при пом-по-тылу и Чифе, все потуги и распри, тихо так и спокойно.
— Есть мнение. Зам. гл. инженера, наш куратор по изысканиям, счел нужным... одобрить действия начальника партии, считая, что со своей задачей он справился (орденов не давать; премий не выдавать... ибо грядет Ч-68).
С чем был жестко не согласен зам-нач-экс, требовавший приструнить человека к порядку, который обманул ожидания экспедиции и «невовремя» справился с заданием партии и правительства.
... Приструнили... наград и орденов никому не дали... напинали... спросили жесткие графики «Ч-68»... Не до того уже потом было...
Зам-нач-экс выгнал нач-парта на разгрузку подошедшего каравана, но тот с онемевшими ногами еле доплелся до врачей с помощью жены и там рухнул колом – обратно его везли на «скорой» домой сроком как минимум на две недели – травма позвоночника. Он получил больничный, путевку в профилакторий, где жрал дефицитную тогда гречку и не любил страшно массаж.
Вот, вроде бы, всё и благополучно: богову – богово, кесарю – кесарево. Но вот в чем загвоздка: Чиф плоховато понимал церковное... да что ж тут удивляться, если он был воспитан в духе «анти» времен тридцатых годов. Так он и остался нехристем в свои пятидесятые годы, а после удивлялся «церквям, шапкам и нищете народа», при всем при том, что служителям жилось очень даже не плоховато со времен разрушенных 50-х и до разрушаемых «опосля». Да и не был Чиф крещенным, в чем были его счастье и горе... не успели в полуразрушенном СССР окрестить его толково и по уму – вот он и сам покрестился и открестился. Открестился от Берии и Сталина, Малиновского и ЦК, героев и 58-ой... вот только не успел наложить на себя последнюю епитимью, не успел... не отмолиться его поколению от грехов тех. А в 35 – уже надо не только думать, но и задуматься о прошлом нашем.
Чифу «смешно» – откель узнали его студенческие клички «Зверь» и «Лютый». Всё, оказывается, просто и идет по цепочке, невзирая на расстояния: там знакомые маркшейдеры по институту – через годы где-то они там – и туда вдруг явился Зверь. Да и молва идет там, где Лютый работает: хоть Сибирь и пр. велика, зато родимый Урал тесен и благороден, и уважает он своих хулиганов, что идут чуть ли не рядом с 58-ой; чуть ли не «здрав будь, «Лютый», как его однажды ошарашили его северные буровики.
... Спасибо судьбе, что переклеила ярлык на Чифа – тут уж он благодарил своего рыжего ведущего (двухметрового) геолога («паствою из Перми»), в коем души не чаял, а потом здорово профессионально «ревновал» своего рыжего к его же жене, прекрасной геологине... которая мешала (работе?) твоему «рыжему», да, Чиф?
Не злись, Лютый! Твои звери давно уже вышли в большую тайгу и длинный север... Это ты учах.
... И сидит Чифара, посмеивается. Хрен что из него выжмешь. «Всё это далеко, — говорит, — и неправда». Где ж концы в этой истории найти. 58-я – это статья или параллель?
А и всё просто, оказывается. Через четверть века... через целых двадцать пять лет. Вот вы спрашиваете: надо ли возвращаться до первой любви? А и отвечаю: опасно, абсолютно нет смысла, никогда не заходи (как учат умные люди) на второй круг (читай Солженицына «третий круг»...) отношений, дружбы, любви... если чувствуешь, что уже другого не получится, что тебя дальше не пускают и не пустят, что ты уже мешаешь своим прошлым кому-то, даже своими будущими годами.
Получил «предупреждение» о нежелании и невозможности новых встреч и продолжений старых отношений... Ну и будь спок! Они ж тебя не предали, не бросили, не кинули... они просто о тебе забыли, как о «ненужном», твои уважаемые люди: из КСМИ Павел, с МДСФ Игорь, или та же Зоя-40? Эти люди в разное время и в разных городах дали ему понять, что он слишком про них много знает и что он им нежелателен на «сегодня».
... И они остались друг для друга никем.
Вот и упомни, Чиф, к месту, одну из своих рядовых историй... Встряхни болото! Как ты там, такой крутой, мудрый и бестолково-правильный, делал дело не за ордена!
Уйдут годы, четверть века. Россия отметит и ткнет «опоры» в истории про своих Михаила II, Бориса II, Влада Большое Гнездо... скажет и про своего Дмитрия (Донского? Лжедмитрия?)
Не поздно будет?
Я лично уже всё сказал, ровно 25 лет назад, во времена последнего смутного СССР!
... С днем рождения тебя, старик, с твоим 35-летием!
Всего тебе:
здоровья кроткого,
деньгу ухватить,
не упустить удачу,
фортуну схватить за хвост...
не сдохнуть у собственной хаты.
До встречи? На Синаре, на Алтае, на Курганах? И куда тебя только черт не занесет в ближайший год... Свято место пусто не бывает.
* * *
Врач сказал ему «не подымать тяжелее полунагруженного стакана (мухинский, да...), а то отниматься будет нога, потом пойдет костыль («в зубы»). Это ненадолго, но уж потом точно отнесут. Спасибо, успокоил.
... Грустная и злая история...
Северная малина
Если между начальниками разных партий возникал какой-либо существенный спор, то обычно для улаживания разгорающегося конфликта шли к нему. Или же просто «посылали» друг друга: «Да пошел ты! Катись к Главному, он рассудит». Их Главный Изыскатель, как заочно все звали этого человека, далеко не был Суворовым и не олицетворял собою прославленного Клима Ворошилова, но был он человек непростой и себе на уме. Лет под пятьдесят, весьма крупный и рослый человек, Изыскатель по молодости своей где-то бродил одним из начальников партий, потом выбился в люди и с некоторых пор занимал здесь должность главного изыскателя, на официальном языке она называлась проще и запутаннее, но опять же, все свои его просто обозвали для краткости и значимости именно так.
Так что, будьте знакомы – Александр Александрович Сотников, проще (и он это знал) – Главный Изыскатель их конторы, уже несколько лет занимающийся вопросами водных ресурсов на приличной по площади и протяженности территории от обского севера до казахских степей.
На этот раз Сан Саныч в начале марта привез на свой север – в один из маленьких поселков неподалеку от Ханты-Мансийска, где на окраине расположилась инженерно-геологическая изыскательская партия временным лагерем, – несколько представителей Главка.
— Для проверки хода идущих здесь буровых, геологических и прочих работ. Не дрейфь, — сказал Изыскатель «местному» начальнику партии. — Всё что надо посмотреть в бумагах и порыться в них – это они уже сделали там, у нас в конторе. Что делать тебе – я скажу; обеспечивай, чем надо. Понял?
— Да, Александр Александрович.
— Ну вот и молоток! Показывать и рассказывать этим московским гостям я буду сам, не твоего ума это дело, а если вдруг твой ведущий геолог потребуется – скажу, а так пусть он занимается работой, а ты побудешь рядышком, при нас, мало ли что и нам потребуется.
— Они профессионалы своего дела? — поинтересовался неугомонный начальник партии. — Или на экскурсию с их московской пропиской?
— Не ёрничай. И не таких видали, — насупился Изыскатель. — Что им делать и смотреть, где ночевать – ну, явно в Хантах, не здесь же... – это лежит на мне, а ты обеспечишь меня данными, техникой, фуражом подножным и прочее. Лады, Борис Ефимыч?
С Сотниковым трудно спорить. Не переспоришь, хоть разорвись – логикой давит и знанием дела. Под его патронажем геологи, гидрологи, топографы – каждого вида по две полевые партии да по камеральной (обработка данных и документов) группе, – огромная власть лежит на плечах Сотникова, и сотни (игра слов-то какая!) изыскателей, камеральщиков и полевиков с их начальниками подчинялись ему; не забудьте еще сюда рем-мех-базу, проектно-сметное бюро, лабораторию. Сотников карал и миловал провинившихся полевиков, не жаловал камеральщиков, сквозь пальцы смотрел на полевые многочисленные романы – но всегда разбирался сам, силой данной ему власти. Не любил выкать и не любитель, как говорят в народе, выпить – в общем, Главный Изыскатель любил совмещать толковое с приятным, «для пользы дела», говоря при этом. В личном кабинете Сотников работал «по мелочам» и текущим делам, часто выезжал хоть к черту на кулички на большие-важные-дальние объекты конторы, которая-то и по сути своей являлась филиалом мощного Главка страны. Ну как тут не зауважаешь такого человека, как Сан Саныч, у которого слово не расходилось с делом, и дела он решал текущие с перспективой, бодро и энергично. А забот у него – дай бог!
Это надо было видеть своими глазами и наяву – словами тут не опишешь. Глядя на них – представителей Главка, не спеша вытряхивающихся из фургона ГАЗ-66 на режущий глаза белизной снег, Главный Изыскатель заметил скептицизм и недоумение во взгляде начальника партии.
— Что, Борис, вытаращился? — Сотников добродушно и отчаянно покривился. — Да, у тебя, кстати, соответствующей спецформы не найдется?
— Есть дежурный комплект. На всякий поганый случай. Чистая одежда, не сомневайтесь, держим для таких, да по мелочи еще что-нибудь наберем – валенки, меховушки, портянки и прочее.
Несколько человек из вновь прибывших – элита для нашей конторы – одеты и обуты были изящно и шикарно, но явно не для нынешних мест: в костюмах и легких сапожках, в изысканных пальто и дубленках, при галстуках и модных кепи-шапках. «Ну что тут добавишь, — подумал, глядя на них, начальник партии, — хорошо, что мои буровики и геологи не видят такое чудо, успел разогнать поутрене».
А у представителей Главка (и здесь начальник партии явно ошибался, чего никак не скажешь про Сотникова) работы на территории изысканий хватало – здесь работали от севера до южных направлений Московская экспедиция, Тобольская, Томская, Зауральская, Челябинская, Казахстанская изыскательские экспедиции в виде разбросанных по секторам и участкам работ отрядов и партий, и всех их надо было направить в единое русло выполняемых задач; так что не судите всех их строго и да не будете судимы потом сами! А по такой географии не грешно знать и их историю, сами посудите про них, эти области.
В 1943 году из Челябинской области была выделена как сельскохозяйственная Курганская область – шла война. Новая область сначала носила статус Зауралья – все ж трудно отрываться от могучего и знаменитого Урала, но потом с годами и возрастом перекочевала в Западную Сибирь с ее Западно-Сибирской Низменностью, да и решайте сами, если в ее восточной части есть такие места и названия типа Мокроусово с дождями, полями и болотами.
А в царское время – давным-давно – была такая губерния, Тобольская называлась со времен своей исторической бытности, с центром Тобольск, который славен памятником покорителю Сибири Ермаку и тому, что в 1918 году здесь находилась в ссылке царская семья последнего из Романовых Николая Второго.
В 1944 году из отдельных районов Омской и Курганской областей была создана Тюменская область с Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким АО, простирающаяся от Северного Ледовитого океана до южных казахских степей.
— Так что, Борис Ефимович, уважь прибывших, — Сотников смотрел на выгружающихся людей с видом матерого мартовского кота. — Уловил? ГАЗ-66 свой с теплым фургоном и его водителем – кажется, Женей, – выделяешь мне. Так? Интригу и коварство мы учим опосля, когда соплей нема, а романтику и блажь ты для себя уважь! Как тебе мой слог, даже в рифму пошел... Ты, кстати, по юности не баловался стишками? А то смотри у меня, баснописец.
И с тех пор начальник партии эту «команду» почти и не видел – появятся на час, отметятся и едут дальше с Сотниковым куда-то в Ханты или куда рядом на ГАЗ-66, который и «дома»-то почти не ночевал – шофер Женька оказался напрочь прикомандированным к проверяющим. Так прошло несколько дней – чуть меньше недели, если говорить точнее. Но без «внимания и заботы» Сотников не оставлял своего Бориса Ефимовича – слал гонца в виде ГАЗ-66 и его шофера и передавал «пожелания», которые необходимо было сделать.
Евгений, а его просто обозвали здесь Женькой, появился недавно, с месяц назад, когда в конце января привез в партию нового геолога и кое-что из инструмента, оборудования и продуктов. Да так и остался со своим ГАЗ-66, видно приказ такой свыше был. Не сказать, чтобы он здорово прижился среди буровиков и геологов – эти относились к новоявленному Женьке спокойно и не третировали своим излишним вниманием. А то, что в партии появился проходимый ГАЗ-66, в партии отнеслись как к должному. Однако вопрос зависал – откуда он, Женька, такой свалился в этот северный глухой угол, кто его подсуетил, и не есть ли он для свободолюбивых буровиков подставная фишка и неудобоваримый информатор. «Вот присылают же с Большой Земли всех кого не лень, а ты тут голову ломай», — подумали про нового водителя. Женька представлял из себя невысокого округлого крепыша лет 24-х; как оказалось, после армии, студент-заочник, холостяк; так что его сюда занесло, недоучившегося студента – то ли по знакомству и блату, то ль на «легкие» заработки и для исправления, а может от греха подальше?
«Сотников просил подбросить консервы. По возможности. Передать со мной. Им так надо, на всякий пожарный, — сказал вечером Женька, приехавший из Ханты-Мансийска. — Я утром поеду к ним. За ними».
«А куда и на кого потом их списывать? — ломал голову начальник партии. — Впрочем, беда небольшая: ребятам объясню, что к чему, поймут и не обессудят». И рано утром небольшая партия консервов легла в машину ГАЗ-66. Полевики не обидятся – благодаря стараниям Главного Изыскателя они «дешево и сердито» обеспечивались консервами и мясом, так что в убытке потом ну никак не останутся! И Женька повез консервы проверяющим – для их вечерних бдений и разбирательств, для дневных холодных разъездов по объектам, «детишкам на молочишко»; были в банках тушенка говяжья и свиная, фарш колбасный, печень, сгущенка и кофе – в общем, есть где развернуться «бедному крестьянину».
— Как насчет рыбы? — поинтересовался нарисовавшийся незадолго до восьмого марта Сотников с «компанией». — Дела к концу идут, ребята просят немножко местной рыбы с собой увезти домой. Поможем?
— Думать надо, Сан Саныч!
— Думай, Ефимыч, думай! Три рубля не деньги. Есть соображения, Борис?
— Есть-то есть. Можно у местных поспрашивать, дадут из своих соленых и вяленых запасов немного, но только за водку или бензин, другой оплаты местные аборигены не признают. Но это будет накладно для нас и маловато для «главковерха».
— А что скажешь про рыбартель, что не так далеко стоит от нас на берегу? Лов, конечно, они закончили, потихоньку сдают соленую рыбу, что хранится под охраной в их леднике... Там же караульщики есть, что смотрят за оставшейся техникой, оборудованием, сараями и постройками, причалом и бытовкой. Вот у них и спросить...
— Если уж не осталось вяленой, берем соленую; а если уж нет и такой, то просим свежую из ледника-холодильника. Подсолить недолго.
— Правильно рассуждаешь, Борис. И тех рыбаков-вахтовиков интересует именно денежный обмен, рыбы и тишины они и так объелись. Вот тебе денежка, езжай и договаривайся. Так что мы можем у них заиметь? Деликатеса не дадут, пихнут сорную рыбу, но ты ее особо не бери, а вот насчет прочей – порасспрашивай, разведай.
— И имеем в наличии щуку, язь, мелочь; ценных пород не имеем. Годится? Кстати, они могут бить на реке кое-где проруби – для вентиляции рыбам воздуха; может, что и заимеем. Чуть что – добавлю им копеечку.
— Уважь, Борис Ефимович, не оплошай. Да и поторапливайся к рыбакам с визитом. А мы поехали дальше. Рыбу с Женькой отправишь, он знает, где нас искать.
Кто же в конце концов-то такой Женька и откуда он свалился на Ефимыча?
И пришлось начальнику партии ехать на рыболовецкий стан, куда он и отправился на вездеходе ГТС-71, стареньком и уже дышащем на ладан. На недавний вопрос Сотникова: «Ты знаешь Евгения хорошо? Как к нему относятся?» Борис неопределенно пожал плечами: «Как к нему относятся, спрашиваете. А никак. Рылом пока не вышел. Кадры ведь вы подбираете, я только с ними работаю: кого дадут, кого пришлют». На ГТС-71 был свой водитель, с самого начала, и его всегда знали как своего и безотказного парня, которому так нравились северные просторы.
Как старый добрый конь бьет мерзлую землю копытом, так и их повидавший виды гусеничный вездеход взрыл и заутюжил тяжелую береговую землю около рыбартели. Невесть откуда появившийся человек молчаливо и с усмешкой на лице наблюдал за бравыми маневрами геологов; он тихонько свистнул, и большая дымчатая лайка, добродушно виляя хвостом (вот же умеют так лайки), начала осторожно подходить к железному рычащему монстру. А вокруг стояла тишина, изредка нарушаемая пощелкиванием на морозе дальних кедров и потрескиванием во льдах реки; сверху по-весеннему светило заинтересованно солнце, но явно еще не грело – было прохладно, щипало, и даже весьма ощутимо тянуло резким холодом, Ефимыча аж передернуло от внутреннего озноба. Если бы рыбак сейчас заговорил, то он бы так ответил на молчаливый вопрос Бориса: «Откуда я появился? Обход утренний делал. Почему так вовремя встретил вас? Да вас трудно не услышать с вашей погремушкой, медведь и тот, наверное, подался подальше в урманы. Так вы к нам? И с чем пожаловали? Заходи, гостем будешь». Человек был без ружья, будто уверенный в святости северных законов «Не твое – не трожь» и «взял – положь на место»; обут в серые собачьи унты, которые издалека казались огромными и неуклюжими; на нем была меховая куртка, обычная мохнатая шапка-ушанка и меховушки-рукавицы явно на резинках, как у малых детей «непотеряшки».
Сторож-рыбак внимательно вглядывался в Бориса и его спутника, его бурое лицо, прокаленное зимним холодом, ледяным ветром, ясным солнышком могло и год хранить свой несмываемый багровый загар.
— Узнал, что ли? — хрипло спросил его Ефимыч.
— Тебя трудно не узнать. Изменился, правда, немного да бородой зарос. Здравствуй, начальник, вспоминай, как по улову заходил к нам в гости.
— Было дело. Ты один?
— Второй в бытовке, отдыхает, сейчас мое дежурство. А, вспомнил, командир, теперь окончательно – это твои люди здесь по осени наводили переправу?
... Был такой грех. Порешили перебрасывать буровые самоходки на другой берег, но как преодолеть по осени реку, это вам не ручей – речушка-протока...
Главный Изыскатель уверенно махнул рукой в сторону реки, начинающей понемногу «мерзнуть». «Здесь, — сказал он. — И более узко, и рядом рыбартель, которая практически завершает свои работы на реке; мы им не помешаем, зато от цивилизации будем находиться близко – наши люди временно перебьются у них. Установится окончательно лед – и поставим насосы для подачи воды в район будущей переправы, осуществим надзор и работы. Вот согласно данным справочника, чтобы лед выдержал тоннаж нашей переправляемой техники, он должен быть толщиной... не менее метра, что ли, а, Ефимыч? Да если с учетом крутизны поворота реки и силы ее течения по центру – еще процентов двадцать плюс, так? Ты думай, думай, Борис Ефимыч, читай литературу, произведи замеры – и лей воду!»
Ледяная переправа была почти готова и вроде как уже годилась для перегона техники (конечно, с помощью тракторов и жестких сцепок). Однако где-то в конце октября – начале ноября (призабылось, однако) из-за затянувшейся навигации по Иртышу-Оби для дальних северных районов по Иртышу до Ханты-Мансийска прошел ледокольный пароход и взломал лед для прохода на север опаздывающего каравана. И вздыбился лед на месте бывшей переправы большими глыбами и торосами, застыв до весны в немом укоре. Но работу изыскателям и зимой нашли, а по весне обещали перебросить дальше и на другой берег – как то будет, узнается в свое время...
Они поднялись на невысокое крыльцо, затопали по широкой деревянной палубе настила – а что, удобно для обзора, для дежурства и бдения-наблюдения: тут тебе небольшой колченогий столик, невысокие перила и сквозной «прострел» на всё хозяйство артели, а рядом бегают лайки – и чем плоха жизнь рыбацкого сторожа? Дружно сгрудившись, зашли в узковатые двери бытовки, где на удивление потолок на плечи не давил; слишком даже просторно на двоих, видно, рассчитано на полновесную артель.
— Как насчет чая? — спросил хозяин. — Желаете «копченого»?
Борис Ефимыч покосился на гудящую огнем печь-буржуйку, где стоял большой закопченный алюминиевый чайник, а рядом на столике кучно теснилась нехитрая кухонная утварь, вся небьющаяся – кружки, чашки, ложки (вилок не видно и в помине), охотничий нож, покачал в ответ отрицательно головой. «О, черт! — подумалось начальнику партии. — И что у них за жизнь такая: летом – в воде и рыбе, зимой – на собачьем морозе и без сна в глазу; отдыхать надо зимой от трудов праведных, жирок нагуливать, а не службу дальше нести караульную по договору!» И затем Ефимычу припомнились грустные известные строчки: «... вот мчится тройка почтовая по Волге-матушке реке. Ямщик, уныло напевая, качает буйной головой...»; так о чем задумался, дубина, здесь, на обском прииртышье?
Чифиря Ефимычу ой как не хотелось, даже с мороза и для встречи. Он кивнул водителю ГТС: «Принеси мою сумочку, лежит на пассажирской стороне в ногах». И обратился к рыбаку:
— Значит, ждали?
— Да мало ли кого задует в наши края. Лихого человека здесь не носит, местные спокойны и дело знают, да и собачки помогают нам службу нести. А где надо – и замок висит.
— Напарника будешь будить?
— А зачем? Чай горячий, водки нельзя – ему в караул скоро, мне на смену, да и не держим мы с ним здесь горячительного.
— Так вы ж нас ждали? — пошутил Борис Ефимыч. — Правда спасибо, что без винтовки. А где ж мой ходок, неужто не нашел «тормозок» в кабине вездехода... или у вас здесь проверяют на наличие товара?
— Брось шуметь, начальник. Не балуемся. Порядок чтим, вот только пришлые и проходящие не очень к доверию взывают... Но да вы к ним не относитесь. А-а-а, вот и живая вода! — обрадовался мужик. — С этого бы и начинал... спасибо, спасли, пригрели! А ну подымайсь, напарник, проклятьем заклейменный, весь мир голодных и рабов, – кипит наш разум... пора тебе на службу, собак до вечера не корми, особо рыбой, понял, шакалье племя?
— Сам выродок, — спросонья буркнул второй сторож и потянулся к чайнику на печке. — Дрова есть или принести? Топляк или сухостой?
— Ну, давай, начинай, начальник. Да ты наливай, не стесняйся. За рыбой ведь? А ни хрена не осталось! За деньги найдем, из остатков. Не перебирай и не ройся – на днях остатки увезут и закроется наша лавка на время.
«...Хорошо посидели, земляк! Наливай. А як же! Який афганец не любит сала. Что, уже закончилась? Ну и ладно, вот и хорошо, что продолжения не будет, караулить дальше надо. Забирай свою рыбу, на тебе еще щук мороженных на посошок... да бесплатно, бери пока дают», — хрипел рядом сторож рыбартели.
— Не боись, перед всеми отчитаемся. Не пора ль тебе, начальник, в обратный путь? В светлое будущее во имя водяной науки и во славу рубля!
Да уходящий – пусть уезжает.
Жмем руки, пьем чифирь и водку на прощание, загружаемся, рычит мотор и –
«...Только пыль, пыль, пыль из-под сапог,
Отдыха нет на войне солдату».
Рано утром седьмого марта начальник партии как обычно встретился в своей небольшой комнатушке арендуемого дома-казармы с ведущим геологом партии. Всё как обычно и как полагается – утренние разборки и препирательства, канун праздника, уточнение итогов и планов работ.
— Начальник, проверяющие скоро уберутся?
— Как только – так сразу. Им-то какое дело?
— Интересуется народ... Да тут еще 8-е марта.
— И ты туда же! Знаю, знаю, что бригады по полмесяца без выходных. Насчет завтра как?
— Сомневаюсь, начальник!
— Сегодня и сейчас всех в поле, без потачек и сожаления – народ уже поднялся, закопошились. И чем раньше уберутся, тем лучше для всех; кстати, не ставь сегодня на новое бурение и дальние маршруты – пусть добуривают, мелочь добивают, керны хорошо описывают. Спроси, есть ли желающие из буровых бригад поработать завтра – а вдруг?
— Дурных нема.
— А вдруг найдутся?
— Да ты сам поговори с ними. Геологов своих беру на себя; если надо, потребуются – найдем «желающих».
— Говорил я. С буровиками. Еще буду говорить.
Борис Ефимыч мечтательно и бездумно смотрел в окно, за которым слышался рев заводимых буровых самоходок и лязг металла; к нему иногда заходили, уточняли, что-то спрашивали, ехидно интересовались «пришел ли аванс с Большой Земли», жаловались геологи и трактористы на буровиков.
Видел в здешних местах Ефимыч разную природную живность, интересную, но в основном мелочь пузатую – рыбу, куропаток, зайчишек, зверушек мелких. Да и где здесь обитать им, расти и кормиться – что возьмешь с иртышского приобья, с пойменных его берегов и чахлой береговой растительности, с прибрежных болот, буераков и проток, затапливаемых и засасываемых песками. Но вот если вглубь отступить от берегов Иртыша и его воды – начнутся гордые сибирские леса, встанет на пути северный голубой кедр – вот там явно и зверь пойдет покрупнее. А здесь? Тьфу, ни зверья толкового в округе, ни дерева приличного; хотя топляк – мощные стволы деревьев с сучьями – несет же иногда по реке, «мертвяк» ловят у берегов, тащат по дворам, год промораживают, пилят бензопилой на кряжи и чурки, рубят колуном – кто когда успевает, с учетом возможности и правильности заготовки дров. Если есть местные урманы – дикие путаные заросли леса живого с сухостоем и бурелом, – должен быть и медведь. Правильно? Этакий небольшой серо-бурый медведь; да, конечно, не белый медведь, тот ничего здесь не забыл, на то он и зовется полярным, северным, приполярным.
Да, но есть ли тут в иртышском приобье леса и бурые медведи? Местные говорят, что имеются, указывая на соседей-охотников, и рассказывают байки про их подвиги и своих дедов. Медведь – существо всеядное, потребляет от мяса и рыбы до травы и ягод, очень уважает малину – на десерт. Так, значит, серо-буро-малиновый медведь всё ж обитает в здешних местах. Да мало ли, что ты, Борис Ефимыч, его не видал; тут и аборигены-то не имеют особого желания с ним встречаться: медведь дикую малину любит, но встречаться там с ним – бог ты мой! Тебе нужна медвежья болезнь? Есть медведь, есть малина, но подождите – здесь есть клюква на заболоченных местах, знают про морошку и голубику... но малина, извините, не слыхал и не видал. Северная малина? Не знаю про такую! Так есть ли и какая она, малина, на Севере?
Знаем, «знаем» про ягоду-малину. В морс не идет, без кислинки, зимой на морозе не сохранишь; малина есть дикая, культурная. Есть малина лесная, таежная, северная. Есть «малины» и притоны воровские – отсидеться, отдохнуть... А северная малина, какова она?
... Зарулил на «посадку» ГАЗ-66 и оттуда начали выгружаться Сотников и «другие». День – а еще утро даже, – начался! «И погнали наши городских в сторону деревни», — пропел Женька, проходя мимо Ефимыча. Начальник партии ждал дальнейшего развития событий; он и сам подустал за последние полмесяца беспрерывных работ и мечтал выспаться, вылежаться, поесть жареной картошки и запить ее спиртом из местного магазина, плюнуть на своего вездесущего и грамотного ведущего геолога партии, избавиться от вездесущей комиссии Главка и Сотникова, забыть о кромешной тьме раннего утра и местной дизель-электрической станции, которая обеспечивала этот богом забытый и близкий к Хантам поселочек электроэнергией только днем, а с полуночи и до шести утра хоть глаз выколи на улочках, благо, что ярко «светит» блестящий белый снег в сугробах и трудно заблудиться среди собак-лаек в этом крутояре и редких деревянных кондовых домишках.
«Приезжие» и приглашенные для собеседования начальник партии и его геолог часа два копались в бумагах и планах, подводя итоги.
Наконец Сотников встал и поманил Бориса Ефимыча, мол «пойдем покурить на свежий воздух». А по тесной комнатушке плавал сизый дым, так что пришлось приоткрыть дверь в холодные сени – миниатюрная форточка мало давала внутрь свежего морозного воздуха. Некурящий ведущий геолог только морщился, да один из приезжих кривился – видно, тоже из той породы. Геолог круто заторопился и вскоре уехал на последней буровой машине, которую специально «тормозил» для своего побега подальше и попроще от этого дымного и муторного смрада и «разбора полетов» партии.
Основательно приложившись к низкой дверной переборке – а как же Сотников не впечатался лбом? – Ефимыч вышел на улицу и закурил свой «Беломор-канал». Сотников не курил, будто ждал чего, только сигарету с фильтром мял.
— А теперь айда в дом, кличь Женьку – дело есть, Борис. Как ты думаешь, Ефимыч, можно ли Евгению доверить такое дело, как покупка авиабилетов в Ханты-Мансийске для отъезжающих. Надежен Женька?
Начальник партии в ответ пожал плечами. Понимай, Главный Изыскатель, как знаешь.
— Отправим его сейчас. Прямо сейчас. Часик-два дороги туда, авиакассы сегодня работают, пусть даже под обед попадет – и к вечеру, смотришь, будет здесь. Не посылать же туда твой гремучий гусеничный вездеход, там же местные городские автоинспекторы поди тоже за порядком смотрят, а?
Сотников хищно улыбнулся, протянул подошедшему шоферу ГАЗ-66 деньги и паспорта: «Поедешь, Женя, за билетами в Ханты. И чтобы мухой туда-сюда. Ждем не далее вечера. Тут правда один паспорт просроченный... Ефимыч, дай временно свой – если вдруг не проскочит, потом разберемся. Давай, дерзай».
— А мы, пока он ездит, порезвимся в твоем штабе ожидаючи, — это уже Сотников начпартии. — По коням, други мои.
ГАЗ-66 уехал; компания во главе с Сотниковым «загудела», благо никто не мешал.
Когда Сотников разжевывал Евгению «что куда», Борис Ефимыч и «рылом не вел», в одно ухо влетало, в другое вылетало – ему это надо, куда дальше отправятся эти пришельцы из другого мира: в Тюмень или же через Тюмень дальше – в Москву, или же в Курган, к примеру; в общем, до фонаря и до лампочки было Борису.
Отведенное Женьке время истекло, но «ходока» с билетами не было видно. Снова ждали, лишь Сотников заерзал от нетерпения, да мыслишка противная у начальника партии зашевелилась – уже не началась ли для него «северная малина», больно все складно начиналось. Наступивший поздний вечер изменений не принес – начали возвращаться буровые бригады, но ГАЗ-66 с его шофером не появлялся (Сломался? Заминка какая?).
С грохотом и шумом заходили изыскатели в дом, удивленно затихали, услышав гулкий нестройный шум из комнатушки начальника партии – что, еще не уехали? И затихали, тихо крались к себе в огромную комнату.
— Всё, — не выдержал Александр Александрович, — пора уезжать. Давай нам свой вездеход ГТС-71, пусть подбросит нас до Хантов и вернется к тебе. Похоже, что не будет Женьки? Ты тут, Ефимыч, поспрашивай вечерком у своих – может, кто видел и знает о Женькиных явках и «малинах», а утром до меня... комиссии этой я пока ничего не скажу, незачем пугать народ раньше времени.
Они «сгрузились» и уехали, не ведая или же не догадываясь.
Вот тебе и северная малина!
Но и на утро долгожданного гонца не было. Что почему-то Ефимыч и ожидал с ощущением нарастающей тревоги. Но, как говорится, на «нет» и суда нет. Однако предыдущим вечером начальник партии успел поговорить со своими работниками и узнал многое, кое-что даже нелицеприятное про Женьку, про себя и своих геологов и вообще.
Буровики-бурильщики и их помбуры – народ кастовый, к себе просто так не подпустят – берегут свое сословие, рубли и общественное мнение о них; в душу к ним, рабочей элите изыскательской партии, просто так не влезешь, да и к новичкам относятся настороженно: мало ли что, ляпнет раз-другой где-нибудь по случаю (потом греха не оберешься), да и чист ли, как агнец, тот молодой да ранний – не стащит ли у тебя зубную щетку или из карманов что, где свободно лежат деньги, документы и всякие интересные вещи.
— Начальник, ничего не знаем. По работе мы с ним почти не общаемся, работает у нас недавно, да и последнюю неделю вообще не при нас. Это твой кадр, ты с ним якшаешься. С ним что случилось? А эти проверяющие скоро уберутся? Пропал, говоришь... Да ты с трактористами пообщайся, те должны с ним накоротке быть, да и поинтересуйся у водителя вездехода; может, что и подскажут любопытного...
Н-да, буровики – народ интересный, своеобразный. Вот заходишь к ним и видишь на столе пачку «Примы» – можно, конечно, спросить разрешения закурить на халяву (сигареты с фильтром, дорогие с магазина, обычно лежат в карманах), а можно и молча закурить их сигарету без фильтра – лежит пачка сигарет, значит можно брать, без спроса и не «за ухо про запас». А вот один из трактористов курит только махорку (и где ж он ею обзавелся; впрочем, в местном поселковом магазинчике такое продают, что уму непостижимо).
— Женька?! — то ли утвердительно, то ли вопрошающе протянул тот тракторист, что рьяно баловался махрой, за которую его и гоняли без зазрения совести на свежий воздух. — А тут и так воняет чесноком, портянками, табаком. Что, начальник, воззрился на мою самокрутку? Буровики на меня жалились? С них сбудется, еще не то скажут. Хочешь курнуть? Донника в махру добавляю, да она и сама вонючая, видно из старых армейских запасов.
— Крученый он какой-то, Женька, — продолжал тракторист, раскочегарив свою «козью ножку» размером с... (ну, сами понимаете). — Щас попрут на улицу, а запах-то какой! Так вот, о Женьке. Хвастался как-то, что зазнобу нашел, поит-кормит, голубит. У него, у Женьки-то, не все дома, что ли? Рвать надо от баб, да еще с ребятёнком, подальше; это его холостого так развезло на женские прелести – знаю по себе, дважды женат был, и дочка уже подросла, мамке на смену. Так вот, есть небольшой поселочек где-то рядом под Хантами, домики там казенные и то ли это совхоз с молочно-товарной фермой... Пропал что ли Женька? Натворил делов и концы в воду, а говорил, что на кого-то учится, да? Да объявится он, никуда не денется, вернется из побега, жизнь пресная и без бабы наскучила – вот и потянуло его на вольные хлеба. Надейся, начальник, на лучшее. А эти уехали?
«Да, — мелькнуло у Бориса Ефимовича, — потянула вольного воля – с деньгами, и паспорта так пропадут. Вот мне будет на мои седые волосы! Однако знаком мне тот поселочек, забредал туда случайно – когда, уж и не припомню, – что-то искал в округе Ханты-Мансийска. А городок этот не мал, растянут и поразбросан, вместе с пришлыми тысяч под тридцать населения потянет. И где еще Женьку искать с его машиной да чертовыми документами в этой шири?! Ладно, поутру на вездеходе поеду до Сотникова, может, что и придумаем на пару».
Наступившим утром 8-го марта начальник партии встал по привычке рано, но в комнатах работяг было непривычно тихо – еле слышный разговор да шумок небольшой; над поселком стояла тишина, изредка брехали собаки да брел по улице редкий путник – на работу или, скорее всего, по своим делам. В командирский «бункер» ввалился ведущий геолог и с порога, не забыв сильно пригнуться со своим-то ростом, понёс:
— Начальник, люди по штату должны сегодня одыхать, а мы чем хуже? Негры, что ли?
— В красные дни белые люди отдыхают. Да не те, кто белокожий, а те, кто график работы свой имеет с красными датами; остальных это не касается.
— Начальник, отдыхаем на сегодня? Одна буровая поедет на работу, «добровольца-геолога» я для нее нашел.
— И, конечно, это не ты?
— Обижаешь, начальник! Но для бумажной работы этого дня мне хватит.
— Ладно. Будешь здесь под боком у всех; и за порядком смотри, а я должен быть по делам у Главного Изыскателя.
— Комиссия уехала? Или нет еще? Не томи душу.
— Пока еще нет, — Ефимыч усмехнулся. — Вопрос времени...
—... Кругом праздник, — Сотников покрутил головой, будто впервые видел этот северный, прибитый до земли и снега город; недовольно сплюнул, — а мы тут крутись без дела и без цели. И где его искать, а, Борис? Куда он мог спрятаться, пакостник? Ну что, поехали? Что я сказал этой толпе проверяющих – да они еще толком не очухались после вчерашнего и не созрели для мысли, что они «люди беспашпортные»... Я им там подбросил «горючего», чем закусить – найдут, пусть жрут из личных запасов и домашних припасов, так? А авиакасса вчера «не работала», а сегодня посмотрим, ждите результатов – так я им сказал, уходя, а они уже садились за стол.
— А у тебя разрешение на проезд твоего вездехода ГТС-71 по городу есть? — спросил Александр Александрович у начальника партии, сидя с ним в кузове под тентом. — А то я твоему водиле сказал, что для начала заедем в милицию, то есть в ГАИ, уточним. Ты туда не лезь, я сам; а то сегодня праздник и нашу громыхалку вдруг повяжут на улице.
— Да есть у нас пропуск на зимнее время, там утром и вечером разрешено, по обочинам; по центральной улице и асфальту нельзя в любое время.
— Все равно заедем, уточним... — и Сотников вышел оттуда примерно через час, весьма довольный. «Толковые ребята. Вникли в наши беды; я им, конечно, не обо всем рассказывал, сигаретами угостил хорошими. В общем, имеем «зеленую улицу» на несколько дней поиска. Мотаем отсюда подобру-поздорову, пока при памяти и эти не прочухали. Куда? Примерно на середине между Центром и Пассажирским Портом находится магазин «Геолог», мы туда недавно заезжали затовариться, а потом Женька заезжал рядом куда-то ненадолго к своим новым знакомым – я запомнил, покажу.
С «геологической малины» Сан Саныч вышел недовольный и с перекошенной физиономией, буркнул: «Поехали обратно в Центр. Здесь он давно не был. Уже гуляют, сволочи, прямо с утра...»
Недалеко от Центра, в одной из подворотен на их вопрос из ближних щелей вдруг полезли сине-красные рожи, группируясь около небольшого костерка и кучки деревянных ящиков. Явно могли зашибить, но Сан Саныч сунул им на пузырек бормотухи, поздравил с праздником и потянул обомлевшего Ефимыча прочь от дальнейших нелицеприятностей.
Заехали к хозяину бывшей съемной квартиры в одном из бараков – он их принял по старой памяти, вздрогнули за тех, кто в поле. Но «шофера Женьки, или как там его» у него не было, да и не знают они друг друга.
Начинало смеркаться. «И куда теперь?» — с унынием подумал Сотников.
— Ну и куда, Ефимыч, что молчишь? Вроде все малины-притоны объехали в северной столице, чуть даже по мордасам не схлопотали. Ты своих-то о Женьке расспрашивал? Ну, и? С этого и начинать надо было, с информации от твоего тракториста. Всё ж повеселей будет. Твой водила знает «это где»?
Еще б водитель с вездехода не знал, намотавшись за сезон по окрестностям и далям Ханты-Мансийска. Да это от центра города в сторону аэропорта, не доезжая чуть в стороне. Что уж тогда они с начальником партии там искали – один черт знает, не пост ли метеостанции; так сама метеостанция в городской черте, а этот молокозаводский поселок далеко в сторону, ближе к правому берегу Иртыша. Но да то ли еще видал водитель гусеничного вездехода-транспортера ГТС-71 (не шофер, заметьте, за баранкой крутись; за рычаги надо дергать и по снежной дороге двигаться) со своим сумасбродным и нахрапистым начальником партии.
... вот помнится, геологов с маршрута забирали. Согласно времени и точке встречи – там-то и там, и место встречи изменить нельзя. Геологи пройдут за световой морозный день маршрут на лыжах с комплектом ручного бурения – и ждут на итоговой точке. А тут и мы, вот они, явились и снежной порошей не запылились. Но только в тот день промашка вышла – сломалась буровая на скважине, еле успели забрать экипаж в тепло, а время «икс» с геологами истекает... Ну и рванули мы с Ефимычем чуть ли не напрямую, он только успевает за карту свою хвататься, а я за рычаги – и только снег, снег из-под вездехода; ну и заблудились среди проток: в объезд больше десятка километров, напрямую – в разы короче и время сэкономим. А впереди – протока с крутыми высокими берегами, и неизвестно, что в ней там – промерзла ли до костей, или вода там чуть прикрыта льдом и снегом. Гадай! «Давай», — цедит мой командир. «Даю». Сползли вниз, удачно прошли понизу узкий створ протоки, теперь газу, иначе на эту страшную крутизну не заберемся. Ефимыч аж глаза зажмурил, мне нельзя. Но от самого верха мы медленно поползли вниз, и вездеход задом начал крошить лед в протоке – начало топить кузов. А? Что? Да вылезли мы тогда. И успели...
Интересно, а Высоцкому В.С. памятник поставят, успел же он умереть уже; и где улицу в его честь назовут и когда?
(... тебе, Б.Е. – для справки из будущего – в 91-ом в городе Свердловск... А что, помог он тебе в своей бродяжьей жизни?)
— Хватит жути нагонять. Да уймись ты, — осадил Сотников водителя-механика. — Рули давай, дергай свои «кочерыжки» и педали жми.
Жители малых поселков, что расположены не так далеко от их соседей-городов волею своей предрасположенности к ближайшей цивилизации (близок локоть, да не укусишь), обречены на болтливость и словоохотливость (коммуникабельность называется), на суровую северную (неприглядную) приветливость к случайным заблудшим в их поселочек путникам. Но первый же встретившийся мужик ответил им что-то невнятное, с любопытством покосился на вездеход и целеустремленно двинулся в направлении главной дороги жизни – то ли в аэропорт, то ли до города. Однако им повезло, на вопрос «бывал ли у вас здесь в поселке ГАЗ-66, машина с фургоном» сердобольная женщина с хитрой усмешкой ответила: «Да, заезжал несколько раз. И последний раз совсем недавно; да вы в тот домик зайдите, он на двух хозяев, там и ответят поточнее». На что Сотников ответил: «С праздником вас, женщина», Ефимыч ляпнул невпопад: «Найти нам тут надо одного», а водила сказал: «До свидания. Удружили».
Они постучались и вошли в прохладную комнату, где их встретила молодая женщина, укутанная в шаль. В квартирке было небогато, но чисто и уютно, стол на кухне чистый, в маленькой комнатке – слышно было – незабвенно играл в свои бирюльки ребенок-малыш.
— Вы про Женю? Приезжал вчера, чуть выпивши; напокупал всего – и куда нам столько! Где он? А сегодня днем ушел куда-то, не в духе был с утра. Может, где в поселке? Вы к нему, случилось что?
Да, случилось. Но этой молодой и безмужней женщине лучше и не знать того. Тем более завтра с утра на работу на ферму, праздник-то 8 марта заканчивается, пора и честь знать. Кукушкам тоже.
Сан Саныч что-то тихо расспрашивал молодку, а Ефимыч бестолково и бесцельно ходил по прибранной кухне. Печь была еле теплой, жар от нее не исходил, но Ефимыч руками потянулся до нее и заметил на печном выступе тоненькую пачку книжечек, они были еще чуть теплыми. Взял, перебрал – то были паспорта приехавших из Главка, чуть покореженные остывающим печным теплом. Но его, Ефимыча, паспорта в той кучке не было – он знал его на память по серой обложке.
— Так где сам-то Женька? А машину где оставил? Вечером подъезжал к дому, а сегодня днем уехал на ней – так? И как искать иголку в стогу сена! Но да ладно, сегодня не до того, — спрашивал женщину и рассуждал сам с собою Сотников.
«На сегодня поиски завязываем. Поздно и темно, — заключил Александр Александрович. — А пока домой: меня – до московских, порадую их и завтра отправлю самолетом до своей конторы – пусть там дальше с ними разбираются, у меня уже ни денег, ни сил не осталось; а ты, Ефимыч, завтра дальнейшие Женькины поиски организуй – может, что прояснится в этом странном поселке, а вечером до меня. Что у нас сегодня-то? Восьмое марта заканчивается... Но удача пока на нашей стороне. Ефимыч, а есть ли здесь все-таки медведи, водятся по местным малинам? Ну, поехали, что ли, дальше, кушаком подпоясавши... Трогай, водила!»
... После праздников и выходных смурной народ бредет на работу и по делам или же мечтает. Наверное, не лучшим для всех участников тех событий был и тот день – 9-е марта того года...
Сан Саныч полдня провожал в аэропорту своих проверяющих, отстегнул им деньги из своих казенных (с пропащими Женькиными деньгами потом разберемся) на самолет до Тюмени, благо туда днем летали ЯК-40 через каждые час-два. Пустынное и просторное двухэтажное здание аэропорта было малолюдным и непривычно гулко-тихим. Пожелали друг другу хорошей дороги и «счастливо оставаться, господин Сотников; жаль, что были здесь мало», на что Главный Изыскатель добродушно заметил: «Хорошего помаленьку. Не обижены? Подарками затоварились? Вот и прекрасно, и вам того желаю – не болеть, будете еще в наших краях – не забывайте в гости и стороной не обходите. Вы с Тюмени-то куда? Один до Кургана, прочие в Москву домой, так, – прекрасно; а в Тобольске вы уже были до нас; вам главное сейчас – по Северу ход работ, но конечно в Челябинск, Томск, Тюмень вы сейчас не поедете... ну и ладненько!»
Сотникова Борис Ефимыч нашел (как и договаривались предварительно и ориентировочно вчера вечером) курящим в пустом и сыром скверике перед зданием аэропорта.
— Улетели. Проводил, — с ходу пресек поползновения Александр Александрович. — Довольны. А правда им не обязательна. Ефимыч, меня заберешь к себе – у вас обитать буду, хватит с меня бестолковых пенатов Ханты-Мансийска, голова аж гудит. Вот Евгения где найти – тогда можно и мне домой, да и финансы поют романсы, зависли в пустоте и глупостях. Ну а у тебя как успехи, Борис, говори, не тяни душу. Есть просветы?
... Выяснилось, что 8-го марта днем Женя пошел к работающим тут в поселке на шабашке строителям из Западной Уркаины – тут они снимали маленькую комнатку, чисто переночевать вповалку, а табор их обитал в нескольких километрах отсюда на переправе зимника с правого берега на левый Иртыша в двух ба́лках-вагончиках около съезда на заснеженный лед реки. Вот в этих ба́лках ютились женщины из бригады, несколько детей, здесь обстирывались и были в выходные строители из поселка, то есть здесь была их основная база, а в самом поселке – место работы и временные ночевки. Заодно табор, на правах договоренности с местными дорожниками, присматривал и за состоянием переправы.
... Далее, Сан Саныч, могло быть примерно так. Этот дежурный строитель на съём-хате обрадовался новому лицу – простаку со стороны (однако, шапочно знакомому), потом на машине ГАЗ-66 поехали в город за добавкой, вернулись и встали на глухой окраине поселка. Ибо далее – уму непостижимо, проще такое увидать и обозреть, чем рассказать и описать словами; печальное то было зрелище!
Логика поисков двух старых изыскателей (одному под тридцать, другому – за тридцать; один брился, второй был с бородой) была проста и избита как весь древний мир – сначала должны быть логичные поступки, затем идут нелогичные действия – при панике, поганом случае и прочих непредусмотренных случайностях, да и лев страшен во хмелю. Значит так, по логике – они, эти искатели приключений, должны подъехать недалеко от блат-хаты строителей, поближе, так сказать, к дому, к кормушке. За домами, однако, стояли непроходимые низкорослые чащобы – тут не то что пешком, как И. Сусанину с его шляхтой, тут и на технике-то страшно ломиться в эти гиблые места. Только часа через два северные бродяги напали на след, который повел их в такую глушь, что и охотнику местному стало бы не по себе; они сузили кольцо поиска и пошли пешком по танковой колее (иначе и трудно назвать). «Да, — глубокомысленно изрек водила ГТС-71, — я своими траками не смог бы нарыть такого... наберут по объявлению». На что начальник партии философски заметил: «Куда уж тебе со своими гусеницами да по верху снежного наста до четырех ведущих колес армейского ГАЗ-66!» «Ты прав, — удовлетворился в ответ водила, — танки грязи не боятся. Куда уж нам...»
ГАЗ-66 стоял перекошенный на глухой непросматриваемой поляне. По уши в грязи, кузов зацарапан во многих местах, зеркало заднего обзора со стороны водителя разбито, со стороны пассажира – вообще отсутствовало. Дверцы кабины наглухо не закрыты, стоял неистребимый тошнотворный запах от перегара и десятка пустых бутылок под ногами в пассажирском отсеке; тут же, в кабине на капоте двигателя, меж сидений валялась нехитрая снедь – закуска и огрызки хлеба; в округе никого нет. Пока водитель делал круг почета, Ефимыч залез на место шофера и тупо осматривал погром, пока не увидал под своими унтами серый грязный квадратик – то оказался замызганный, сырой, в пятнах его родной паспорт. Вот и поставлена последняя точка, теперь он не «беспашпортный», а по-прежнему гражданин своего великого и могучего СССР!
— Давай к делу. Осмотри двигатель, проверь свет и бензин; ключа зажигания нет, но это, я думаю, не беда. Скаты не дохлые. Что еще?
— Ну, — заныл водила, — просто так с наскока и нахрапа этого зверя не возьмешь. Масло есть – проверил. Бензина нет; кончился или скачали западняне? Бензонасос работает, фары горят. Не, давай на завтра всё – возьмем шофера с буровой установки, помбура, и пусть он в нашем присутствии проверяет работоспособность этого настрадавшегося агрегата. Ведь правильно? И лучше. А сюда щас и черт не сунется... Нам ведь еще за Сотниковым в аэропорт, да оттуда домой тащиться. Поехали, Ефимыч, по делу, остальное все на завтра, на свежую умную голову, да?
И вечером того же дня, то есть девятого марта (идет время), в бункере начальника партии, уютно устроившись за узеньким столиком, сидели сам Ефимыч и грозный Сан Саныч, никого к себе не допуская и никого из страждущих не принимая.
— Александр Александрович, выпить хотите?
— Никакого желания не осталось. А впрочем... А есть? Ну тогда налей немного. Есть чем зажевать?
— Хлеб мы по дороге взяли, есть. А вот и консерва из моих личных запасов, осталось еще что-то у меня – колбасный фарш называется. Подойдет?
— Потянет. Что у тебя там, Ефимыч, ко всему этому благолепию – водка или спирт питьевой о 96 градусах?
Заглянул в командирскую рубку кто-то из полевых геологов. Завидев двух начальников – оба и сразу! – отмахнулся как от наваждения и исчез из поля зрения. В дверном проеме потом показался один из трактористов, на него (как на старого знакомого) Сотников беззлобно шикнул: «Пошел вон, не отколется; маловат столик сей нищенский и полупустой на троих. Исчезни, исчадие ада! Это ты навел на Женькину «малину»?». Зашел, топоча, ведущий геолог партии, поздоровался.
— Александр Александрович, уехали проверяющие?
— Урулили. И пусть земля им будет пухом. Злоупотребишь?
— Не-а, не хочу; да и в бумагах надо поковыряться.
— Во-во, геология! Молодец. Я сегодня обитаю на твоем топчане, а ты иди работай и отдыхай с буровиками – есть там где посмотреть бумаги и переночевать? Во-во, с богом. Организуй на завтра работы – кто, куда и с кем, а мы с Ефимычем твоим завтра по делам на ГТС-71 не-рано утром рванем. Доступно и понятно разъяснил? Теперь так, братцы, кого пошлем на выручку «шестьдесят шестого» – бригаду надо толковую из бурильщика и его помбура, геолога необязательно. Рвачей, неумех, пьяниц и молодых коммунистов не предлагать – не потянут. Ну?! Кого... Принято. Все свободны, кроме нас с Ефимычем. Предупреди тот экипаж буровой самоходки с ЗИЛ-131, что с утра идут в наше распоряжение...
«Что ж ты стал невесел? Что ты голову повесил? А эта водка у тебя откуда, чья? Из добровольного фонда партии, говоришь; скидывались, значит, к встрече проверяющих. Ну-ну, неплохо, однако. Не пора ли спать, на боковую? А то завтра, завтра какое – уже десятое? – на штурм пойдем».
На штурм – так на штурм; эхма, и не такое видали.
А утром, как и полагается, всё перекрутилось, перевернулось и закрутилось хоть и в нужном направлении, но толком все равно не туда. Ведущий геолог партии что-то там намудрил, насупившийся и расслабленный Главный Изыскатель довольно смотрел на разбушевавшегося начальника партии (так, так их, Ефимыч! В хвост и в гриву, не жалей – на шею сядут; крой дела по-своему, на свой лад и усмотрение). В итоге получилось: на штурм ГАЗ-66 должна будет поехать бригада буровиков из категории малоудачливых; один из геологов простудился сильно (и где он так измудрился); тракторист пытался захандрить, но толковая бригада буровиков пообещала лишить его обеденного перекура; еще одна бригада скривила недовольно губы на предстоящий метраж бурения. «Как же ты тут без меня управлялся, ответь, мой ведущий геолог партии?!»
В итоге выехали «караваном смерти» поздно, цель – помочь машине ГАЗ-66 (спасти) и всё же попытаться найти душу грешную в облике туманного и неуловимого Женьки. «Всем всё ясно? Тогда по коням!» — и за вездеходом ГТС-71 двинулась самоходная буровая установка на базе армейского ЗИЛ-131, чем не дурной караван в два тягача и пять человек (приказ: посторонних не брать).
Не доезжая до бурелома, кавалькада остановилась, и дальше все потопали на своих двоих. Присвистнули буровики от удивления; бурильщик начал обход вокруг, а его помбур не медля задрал кабину ГАЗ-66 и полез в двигатель, ибо помощник бурильщика в бригаде согласно штатному расписанию является и шофером самоходки на своем ЗИЛ-131, и по незаведенному порядку (негласному закону) всегда утром встает первым, а «корабль», уже на базе, покидает последним. Впрочем и сам бурильщик имеет шоферские права, так как родом выходит из помбуров – вот такой расклад для буровой.
Дела шли медленно, плохо и с недовольным ворчанием («Нет чтобы бурить и деньгу заколачивать северную, так изволь поработать бесплатно, на дармовщину; да будь ты проклят, 66-ой и Женька-недотепа! Как он, кстати, здесь оказался?»).
Залили бензин с грехом пополам. Опробовали – безрезультатно, и тогда в движок полез сам бурильщик. С натугой, тяжело, но несчастная машина заработала и ее начали «мудрить» – вытаскивать из тупика, пробуя поочередно то вездеход, то буровую. Но видно склеился грязью и подмерзшей слякотью 66-ой и выходить задом никак не хотел с потайной полянки, а тягачам туда и добраться трудно. За рулем ГАЗ-66 сидел помбур, а его тянули тросом с вездехода, а потом лебедкой ЗИЛа-131 – «сирота» наконец сдернулась и нехотя поползла на выход из своего тупика. «Буровая потащила 66-ой домой, — заключил Сотников, — а мы с Ефимычем на ГТС-е пока сопровождаем их до основного зимника. А потом...»
В поселке Женька не появлялся (проверили – мин нет).
Где переправа – они знали, там на самом деле, чуть в сторонке, стояла пара вагончиков. Тормознули не вплотную, от греха подальше – в сторонке и поодаль. Налетела орава бесхозных и бестолковых мальчишек откуда ни возьмись и с криками взяла вездеход на абордаж, так что водитель еле успевал от них отмахиваться и грозить словами. С опаской двое командиров начали подходить ближе к вагончикам, поздоровались, спросили: «Где здесь ваш главный, старший? На месте?». Одна из любопытных женщин ткнула пальцем: «Там они. Все. Сегодня отдыхают еще».
Сотников и Ефимыч вошли в балок. Просторно, чисто, тепло, посредине небольшой стол, за которым чинно сидели трезвые распаренные смуглые люди и спокойно играли в карты. «Вы кто?»
Среди играющих сидел и Евгений – ну прямо ангел! Херувим во плоти, безмятежный душой и безгрешный телом. Самообладанию его при виде вошедших можно было позавидовать, не повел и бровью, чистенький, свеженький, в нательной рубахе и с картами в руках.
— Так вы кто? — здоровый мужик с черной щетиной и темным лицом привстал из-за стола.
— Вот этот работает у нас. Пропал как несколько дней назад. Потерялся. Ищем, — как можно доходчивее объяснил Сан Саныч.
На них было любо-дорого посмотреть: на человека с Западной Украины, державшего здесь свой табор в ежовых рукавицах и заправлявшего на правах старшего строительной бригадой, с недоброжелательным взглядом и напрашивающегося на внезапный скандал; на Сотникова, не заискивающего, но и не обрадованного такой встречей – а ведь тоже не хил, крупный и рослый человек есть; на Евгения – тихого, спокойного, которого, казалось, не трогала суета сует.
— За Женькой приехали? Забирать? А мы вот сейчас его спросим, согласен ли он с вами уехать? Да и заняты мы все сейчас. Будете ждать?
— Чего? Ответь. Ты же здесь за главного. Он что, пришлый, так уж и необходим вам?
— Ты, я вижу, тоже не подарок. За бригадира обретаешься? Женька нам нужен с его машиной.
— Так она уже «уехала». В свое стойло, в экспедицию. Он теперь безлошадный. Ну и? Женька, собирайся, домой поехали. Почудил – и будет.
— Никуда он не поедет. В карты играем, он пока в проигрыше, но деньги еще имеет. Так что пока до конца не доиграем... Будете ждать, пока живые и при памяти? — игроки со своим бригадиром зашевелились за столом.
— Я не поеду с вами, — тускло произнес вдруг Женька. — Меня там у «вас» могут зашибить. Езжайте без меня, а я пока здесь останусь, с ребятами.
— Не дури, Евгений, — вскипел Ефимыч.
— Вы уходите, а я завтра сам приду. Даю слово, — и билась безысходность в его словах.
«Что, вляпался в капкан? Пора и лапу отгрызать, освободиться чтоб. Да ведь перед смертью не надышишься». И изыскатели позорно ретировались.
Домой его ждали до следующего утра. Но и утром 11-го марта Женька так и не появился. Сан Саныч мерил шагами маленькую комнатушку, тихо и свирепо матерился: «Ну куда я без Женьки? Мне без него появляться ну никак нельзя. Какими глазами я посмотрю на его мать?»
Появился он только на следующий день. Рано утром 12-го марта. Явился, не запылился. Молча и тихо прошел до своей лежки и улегся, не поздоровавшись с народом. Доброхоты тут же доложили Александру Александровичу, который с облегчением вздохнул: «Значит, говоришь, на работу Женька явился? Теперь мне с чистым сердцем и домой можно убираться. Пора! И так задержался».
... Женьку забираю с собой. В Контору. Что делать с его 66-ым – порешим в дальнейшем, будем готовить для перегона домой, да и зимний сезон ваш подходит к концу, зимник через месяц поплывет, потом потоп у Иртыша в мае пойдет – в общем, ждем-с. До первой звезды. Ты, Ефимыч, про деньги свои не беспокойся, не боись – бухгалтерию поставлю в известность, чтобы денежный северный расчет Женьки мимо меня не прошел, тогда и тебе перепадет, да возможно перед руководством походатайствую о твоей премии – за выполнение особого задания. Так что не обессудь – прорвемся, погрузимся, жить будем. Проводишь нас?..
Они смешно смотрелись рядышком – грузный могучий Сотников и невысокий округлый крепыш Женька. В тот же день Борис Ефимыч посадил их в аэропорту в самолет, и они улетели с глаз долой, из сердца вон.
Инженерно-геологическая изыскательская партия продолжила работы в обычном ритме и порядке на своем Севере, где и у местных уже кончались зимние запасы клюквы...
Юрий Чекусов
СИБИРСКИЕ СКАЗЫ
- Хозяин водоотлива
- Подарок
От автора:
Увлекательны «Уральские сказы» Павла Петровича Бажова, которые вводят нас в удивительный и неповторимый мир народных умельцев. Реальность там граничит с вымыслом, ярко отражая народные мысли и чаяния мастеров Урала.
В основу предлагаемых читателю «Сибирских сказов» тоже заложены события, которые могли бы быть былью, и соприкасаются с легендами. Действие происходит в настоящее время, в Сибири. Автор не преследовал определенной цели при создании сказов, они родились сами. Сказание ведется от первого лица.
ХОЗЯИН ВОДООТЛИВА
Сказ первый
1.
Хозяин водоотлива. Смешно звучит. Правда? Хозяин водоотлива – это я. Зря смеетесь. Вы, наверное, просто не представляете, какой это важный участок горного производства. Не будь его в карьере – и всем тем, кто мнит себя столпами горного дела (я говорю о буровиках, о горном цехе, шоферах БелАЗов, то есть о рабочих карьера), пришлось бы плохо. И всё же отзываются о нём снисходительно. «А, с водоотлива, — смеются они. — Ну как там? Еще не затопило нижний горизонт? А то так, смотришь, вода до нас доберется». Ты лишь отмахиваешься: «Отстаньте! Жива еще «десятка». Работай спокойно». «Десятка» – это экскаватор под номером «десять», работает в самом низу. Вскрывает новый горизонт. Поэтому-то для них особенно важно, чтобы вода не заливала подошву уступа. Да и шоферы очень недовольны, если воды много – трудно крутить «баранку». А воды бывает иной раз много – закрывает треть колеса машины «БелАЗ-540» (махины грузоподъёмностью в двадцать семь тонн).
Я – студент. Приехал сюда на практику после четвёртого курса. Издалека, тысячи две километров отсюда до моей родины будет. Вы не подумайте, что я романтик – дескать, поэтому-то так далеко и забрался. Один машинист экскаватора, молодой парень, меня предупредил сразу: «Не пойму, что ты сюда приехал? Хорошего здесь мало!» Но дело совсем не в том; я хочу видеть мир наяву, а не в кино и по телевизору. Облазил Урал, побывал в Казахстане, был в Центре. А теперь куда? Конечно в Сибирь. Вот так и оказался здесь.
Неделю я проходил стажёром. Наконец сдал экзамен и получил допуск к работе помощником машиниста экскаватора. Но не проработал я на своей «пятерке» и двух недель, как мастер – начальник смены предложил перейти мне на водоотлив. Сделал это он довольно-таки хитро. Под предлогом того, что там в нашу смену не было человека, начальник смены послал меня на водоотлив. Две смены – дело было в ночные смены – я «отпахал» там буквально ничего не делая, с надеждой, что всему этому скоро придет конец. Но я просчитался. Мастер без обиняков попросил меня поработать на водоотливе «недели две-три, пока не найдут замены». Отказать было трудно: просьба больше походила на приказ. Что ж, мое дело маленькое – шеф приказывает, надо выполнять – я согласился. Лишь осведомился: «Эти две смены, что я работал там, двадцать девятого и тридцатого июня, мне зачтутся?» «А как же. Загоним их по тарифу!» «А в дальнейшем, — осторожно поинтересовался я, — как будет? Ведь мне надо зарабатывать на обратный билет, не считая денег для «господина живота». «А так же – по тарифу. Плюс коэффициент, у нас с июля месяца он будет тридцать процентов». «Конечно, премии не видать, — продолжал горный мастер, — зато работа там «не бей лежачего», разве что иногда насосы переключишь. А заодно и над смыслом жизни подумаешь!» Последнее мне что-то не очень понравилось – этого еще не хватало, чтобы я ломал голову по такому вопросу. Есть учёные мужи – им и карты в руки, пусть разбираются. В философии я слабоват, имел по ней тройки.
Так я попал на водоотлив. Водоотлив – «важный» участок горного производства (мои проклятия на его насосы) – находился на дне карьера и был представлен сараем, крепко сбитым и не пропускающим дождя, где и укрывались две пары рабочих насосов. Через две смены я неплохо освоился на новом месте – без посторонней помощи заливал насосы, включал их для работы. Старожил водоотлива, с которым мы как-то сразу подружились, несмотря на большую разницу в возрасте – ему было под шестьдесят, а мне лишь перевалило за второй десяток, — настойчиво вдалбливал мне «сию науку». «Во-первых, — говорил он, — веди учет времени работы каждой пары насосов. Есть журнал, куда и записывай время включения и отключения насосов». «Вот эта, — он стучал по корпусам насосов, — первая пара. Запомнить легко, они ближе к входу. Дают давление до восьми атмосфер. Однако этого мало. Потому для более интенсивной работы и «отдыха» первой пары имеется вторая пара насосов». Старик перешел к другой группе. «Они более мощные. Гонят воду наверх под давлением, достигающем одиннадцать атмосфер. Однако долго они работать не могут – греется привод». «Ну что тебе еще сказать?» — покосился старик на меня. Я лишь пожал плечами. «Насосы центробежные. Высота подъема столба воды в карьере – 65–70 метров. Сброс воды в реку. Понял?» Я кивнул. «Тогда скажи, почему первая пара насосов малопроизводительна?» — задал он вопрос. Я усмехнулся: «Да, наверное, потому, что велика высота подъема воды!» Теперь старик с восхищением смотрел на меня. «Правильно, — он хлопнул меня по плечу. — Из тебя, парень, выйдет хороший машинист водоотлива. Молодец!» То, что из меня получится хороший машинист водоотлива, я сомневался, но, чтобы не огорчать моего покровителя, согласился. Поймите меня правильно: после года мытарств по книгам и с учебниками, да еще после бессонных ночей двух последних сессий я не слишком горел желанием снова окунуться в мир знаний и науки – хотелось отдохнуть.
Старик часто задерживался со мной. На водоотливе, считая и меня, работало в тот период четыре человека. Отсюда вытекал следующий график работы – скользящий, после трех смен на выходной. Первым в списке стоял я, вторым – мой шеф, вследствие чего первые две смены из трёх сменял его я. Вот и сейчас, покряхтев, он садится рядом со мной. Пытаюсь гнать его домой, он сердится и мне – обиженно: «Я тебе мешаю, что ли?» «Да нет, — пытаюсь я загладить вину. — Но вы же отработали свое, пора и домой». «А может быть, ты мне нравишься?» — спрашивает он, хитро глядя на меня. Слабый ветерок колышет его короткую седую бороду. «За меня не беспокойся: я здесь знаю всех шоферов, вот кто-нибудь меня и подбросит наверх на своей технике». «БелАЗе!» — поправляю я его. «А, — машет рукой старик, — какая разница. Главное, что довезет до «раскомандировки». «Конечно», — вынужден согласиться я, зная, что «десятка» даёт руду, а дорога на дробильно-обогатительную фабрику идет мимо «раскомандировки».
От старика веет стариной, чем-то необычным. Он и на самом деле необыкновенный: много колесил по стране, бывал в переделках, знает много историй. Иногда он затравит такое, что у меня, видавшего виды непробиваемых переплётов жизни студента – захватывает дух. Я оглядываюсь на насосную, чувствую, что там всё в порядке, и опускаюсь рядом со стариком. «Скажите, Петрович, — уважительно обращаюсь я к нему, — вам столько лет, а вы всё работаете. Удивляюсь, как вас ещё не списали за борт». «За борт? — удивляется он. — Ты что, был моряком?» Я объясняю, что у меня такая манера разговора. «А тельняшка на тебе? — перебивает старик меня. — Ведь она настоящая, флотская. Откуда?» «Мой брат, старший, служил во флоте, — терпеливо объясняю я. — Вот после дембеля, когда нам удалось увидеться, он и подарил мне её. На память». «А-а-а, — разочарованно протягивает старик. — Вот оно что!» И вдруг встрепенулся, будто что-то вспомнив: «Жаль, жаль, что ты не был моряком. Море – оно делает человека Человеком. Вытравливает страх, отдает концы слабым, помогает стать сильным и мужественным!» Я внимательно слушаю старожила, но все-таки напоминаю ему свой вопрос, на который он так и не ответил: «Почему работаешь до таких лет?» Он вздыхает, рассказывает: «Один я живу сейчас. Дети разъехались, забыли. Старуха померла. Пенсия мала, поэтому и работаю. Да и дома нечего делать, брожу без дела как окаянный. А мне людей надо видеть, говорить с ними. Вот и сижу сейчас с тобой, может и помогу тебе научиться уму-разуму. Я ведь сам рано остался без родителей. Работал. Потом попал в армию. Определили меня во флот. И нашёл я на море своё призвание, не каялся, что избрал такую участь. С тридцать третьего года мотался по морям и океанам, воевал в Отечественную. А в сорок пятом году, тридцати одного года возраста, списали меня на берег – за борт, как ты выразился. Сошёл я на гражданку капитаном 2-го ранга с кучей орденов и медалей. Но какой прок в мирное время, да еще на гражданке, от моего звания. Кинулся я в Сибирь. Хоть и был я списан с корабля, но здоровье у меня еще было. Спустя несколько лет попал я сюда, в С-к. Так и осел здесь. Понравился мне карьер – я ведь на нем работаю почти со дня освоения – и стал работать экскаваторщиком. Но случилось несчастье – грохнулся на машине с уступа, – и перешел я доживать свой век на водоотливе. Вот так!» Старик замолк.
Я молчал, потрясенный рассказом. Сколько всё-таки приходится испытать человеку, пока он властен жить. Недаром говорят, что пути людей неисповедимы. Мое раздумье перебил Петрович. «Слушай, студент!» — обратился он ко мне. Я насторожился – уж больно интонация его голоса интригующая. «Что?». «Ты веришь в нечистую силу?» Нечасто в жизни встречаешь такие вопросы; я был ошарашен, глаза от удивления полезли на лоб. Что это с моим стариком, уж не спятил ли он на старость лет? Но Петрович вдруг свернул разговор на другую тему. «Ты считаешь себя хозяином водоотлива?» Я удивился еще больше: «А как же иначе? Если я где работаю, то считаю себя хозяином своего рабочего места. Ведь мне доверена судьба чего-либо, доверена в мои руки. Иначе и быть не может. Так что, Петрович, я по праву считаюсь хозяином водоотлива!» Старик в ответ расхохотался. «Ну-ну! — проговорил он, утирая слезы. — А меня ты считаешь хозяином водоотлива?» «А как же, — ответил я, всё еще не понимая причину его смеха. — Конечно. Ты хозяин водоотлива в свою смену, я – в свою». Петрович растянул рот до ушей: «Но я-то, наверное, имею больше права называться им. Как ты думаешь?» Я согласился с таким доводом. Но старик, посуровев, сказал, что отказывается от такого звания. Теперь я был запутан вконец и приложил все старания, чтобы выяснить суть его отказа. Старик что-то пытался мне невнятно вразумить, начал мямлить. Уже рассерженный таким исходом дела, я раздраженно прервал его и задал вопрос в упор: «Ответь – почему?» Петрович вздрогнул как от удара и поднял на меня свои глаза. «О, ты еще молод, чтобы понять всё, а я уже многого насмотрелся на этом свете, многое повидал. Ведь недаром тебя спрашивают, веришь ты или нет в нечистую силу». Я чистосердечно признался, что нет. «Да это полнейший абсурд, — вскричал я. — Парадокс времени. Это сейчас-то... и нечистая сила. Диаметрально противоположные понятия!» Заволновавшись, я совсем не заметил, что начал говорить совсем как на семинарах философии, и оборвал себя лишь тогда, когда наткнулся на ехидный взгляд старика. «Вот-то и оно, что вы, молодые, не верите в нечистую силу, — печально усмехнулся Петрович. — Ведь вы живете бешеными скачками. Начитались про шпионов, индейцев, пьяные деретесь, хвастаетесь про свои любовные подвиги. Близко смотрите...» Старик поднялся: «Ну ладно, пойду я...» «Куда вы?» — хотел задержать я его – уж очень не хотелось мне прерывать этот разговор, не узнав той тайны, которую пытался тщательно от меня скрыть старожил водоотлива Петрович. Но старик был уже далеко. Повернувшись на прощанье, он махнул рукой. Ветер донёс до меня обрывок его фразы: «... а хозяин водоотлива здесь Водяной!» Эхо ударилось в скалы и растаяло.
Потрясенный, я еще долго стоял, открыв рот, и смотрел вслед удаляющемуся старику. Сказанное им было невероятно, но нервы в предчувствии недоброго сжались, как стальные пружины. Уже с опаской зашёл я в насосную, но там было всё по-прежнему. Прошло еще часа два, и я, забыв про страх, успокоился окончательно. Выключив вторую пару и подключив для работы первую пару насосов, я с удовольствием растянулся на лежанке. В мыслях было хорошо и наблюдался полный порядок. Посмотрел на часы – шёл восьмой час вечера, через пять часов (даже меньше) меня сменят. А впереди ждёт выходной – двадцать четыре часа отдыха, после чего снова на водоотлив, который – надо сказать правду – мне уже порядочно надоел. Я прикинул в уме следующую дату моего выхода на работу. Получалось в ночь с десятого на одиннадцатое июля, до восьми утра. «Но это всё потом, — с удовольствием подумал я. — А сейчас до конца смены можно поспать». Глухо шумели насосы, перегоняя воду наверх, тряслось как в лихорадке всё – вплоть до стенок насосной, а я, забыв обо всём на свете, крепко спал.
Проснулся я неожиданно, от странного тревожного чувства. Нетерпеливо озираясь по сторонам, стал шарить глазами по насосной – всё было спокойно. Но как будто неведомая сила толкала меня наружу, и я, не в силах сопротивляться ей и успев лишь включить наружное освещение, шагнул за порог.
Одиннадцатый час подходил к концу, и ночь вступала в свои права. Откуда-то сверху и сбоку били прожектора, но их яркий свет, доходя до низа, рассеивался и представлял слабый голубоватый туман. Лишь прожектор, укрепленный на крыше насосной, честно делал свое дело – его свет упорно дрался с наступающей темнотой. Тёмная, зеленоватая вода в его отсветах блестела стальным цветом, скрывая в себе что-то жуткое и недоступное человеческому роду. В глубине ночи рядом урчала «десятка», но от этого на душе становилось еще страшнее. Вновь непонятная сила толкнула меня к воде. Ближе, ближе... Камень попался под мои непослушные ватные ноги, и я взвыл от боли. Ушибленная нога вернула меня к действительности. Страх сразу пропал, но настороженность ночной приглушенности по-прежнему угнетала меня. Я шагнул ближе и опёрся руками на трубу всасывающей магистрали первой пары. Вода перед глазами качнулась. Я еще крепче прижался к трубе, чтобы не упасть вниз, в зумпф, и внимательно стал всматриваться. Вдруг впереди меня метрах в трех дрогнула вода.
Я встрепенулся, не в силах оторвать глаза от этого зрелища. Вода тем временем вспенилась, и две большие волны, необычные для тихого «зеркала» водоотлива, вздыбились в зумпфе. Пошли круги. Одним махом вода как будто раскололась надвое и, оставляя между собой мертвое пространство воздуха, снова взлетела вверх. Теперь я дикими глазами смотрел на впадину между двумя скалами воды, которая находилась прямо в середине зумпфа и почему-то не заливалась водой, непослушная всем законам физики. Впадина эта, словно пробитый шурф, дно которого четко проглядывалось, держалась некоторое время, потом вода вновь вскипела, забурлила и вот вновь представляла собой гладкую поверхность. Но и это длилось всего секунду: вода взревела, бешено завертелась, образуя глубокую и мощную воронку, доходящую почти до самого дна зумпфа. Вытесненная вода рванулась через каменную перегородку.
Я не понимал, что творится с водой. То, что происходило сейчас, опрокидывало все законы науки: уж не так сильно поверхностное натяжение воды, чтобы она не могла залить недавнюю впадину. А вот ведь что получается – не залила! Кроме того – откуда здесь появился водоворот? Почему вода кипит? Откуда волны, ведь нет даже слабого ветра?
Одно из двух: или я ничего не знаю, или ничего не понимаю. Я схватился за голову. Неожиданно воронка исчезла, вода успокоилась. Но я почувствовал, что это опять ненадолго. И верно – одним мощным гребнем по центру зумпфа, обнажая прибрежные камни, вода вознеслась на трехметровую высоту и... застыла. У меня на голове встали дыбом волосы. Прошло секунд пять – и вновь перед моими глазами спокойная гладь «зеркала» воды. Сон это или явь? Казалось, я бредил. «Нет, это невозможно, — решил я. — И с чего мне пригрезилось?»
Я смотрел в воду, и каждая истекающая минута лишь подтверждала моё заключение о том, что я бредил. Я постоял некоторое время, привел свои мысли в порядок и уже собрался уходить. Но... дрогнула вода, обдав меня тысячами искорок невесть откуда брызнувшего света, и вдруг из её темной и загадочной толщи вынесся трехметровый могучий торс великана.
Теперь вздрогнул я и застыл в леденящем молчании. «Водяной? Неужто Петрович прав?»
Темная громадина Водяного дрогнула, вверх взлетела могучая рука. И вот над моим водоотливом пронёсся гулкий грохот. То заговорил хозяин водоотлива – Водяной!
«Ну что, студент! Теперь ты, надеюсь, понял, кто здесь является настоящим хозяином?» И громкий хохот, от которого, казалось, даже насосы взвыли, раздался в подтверждение этих слов. «Ты понял? Ты понял?» — быстро отдавалось у меня в мозгу. Нет, я не понимал – мысли мои были парализованы.
А над водоотливом гремело: «Я! Я хозяин здесь! Что хочу, то и сделаю с вами. Затоплю-у-у-у!!!» Дрогнула тишина, разваливаясь на куски, и похоже что небо рухнуло на дно карьера...
Сколько прошло так времени – не помню. Лишь в ушах, постепенно затухая, пропадал шум. И когда я очнулся из того небытия – всё было по-прежнему: голубоватый туман, зеленоватая и спокойная гладь воды, тяжёлое и натруженное гудение насосов, довольное урчание «десятки».
А утром, как обыкновенно, меня сменили. Сменили рано – за полчаса до конца смены. Ну и что же? Хорошо даже – хочешь, иди наверх пешком, а хочешь – жди машину, она придет через полчаса, то есть в конце смены. Но это «лишнее» время сейчас мне было необходимо для другого – я побежал на «десятку» узнавать «подробности» ночи.
Машинист и его помощник тоже закончили работу и, на мое счастье (экскаваторщиков ой как трудно поймать в конце смены – они, словно муравьи, на всех подсобных и встречных средствах стремятся наверх; такая натура, что поделаешь!), шли мне навстречу. «Макарыч! — обрадовался я. — У меня к тебе дело!» Макарыч, этот плут, но, однако, хороший машинист, остановился. «Что надо?» «Слушай! Только честно! Ты сегодня ничего не слышал с водоотлива? Ну, шум или еще что? А?»
Я шёл, разбитый и с потерянным ощущением этого мира – ответ Макарыча был отрицательный; нет, ничего не слышал. Машинисту можно было верить – Макарыч даже полюбопытствовал, мол, что было.
Так что было? И все-таки это было.
2.
Три дня подряд лил дождь. Хлестал, не переставая ни на миг, хлестал, не обращая внимания на то, день стоит или ночь. Небо затянулось серой пеленой, которая поливала людей то дождевой мелочью, то жестким ливнем. С работы – дождь, на работе – дождь. Одно спасение – когда не работаешь – сидеть в общежитии, на работе – находиться в насосной.
И то, что должно было случиться, началось: вода начала прибывать.
Я заступил на смену в ночь с двенадцатого на тринадцатое июля, после смены должен был уйти на выходной.
«Ох и посплю!» — с удовлетворением билась во мне мысль, когда я, подняв воротничок спецовки и задраив ее на все пуговицы, шагал по дороге сквозь мглу полосок дождя. Но сменщица разом разбила мои радужные мечты. «Вода прибывает! — сообщила с торжеством она мне. — Так что тебе поспать не придется! Вот видишь эту тетрадку?» И она сунула мне тетрадь в руки. «В неё ты будешь записывать уровень». «Какой уровень?» — не понял я. «Уровень воды! — объяснила она. — А определять его будешь по рейке; она стоит в первом зумпфе. Ясно?» Я кивнул головой. «А теперь, — она потянула меня за рукав, — пойдем, посмотришь».
Мы вышли из насосной и сразу попали под дождь. «Ух, — рассердилась моя сменщица, — всё дождь и дождь! Нет ему конца, проклятому!» Я тоже понял, что дождь является и моим врагом – из-за него я вынужден буду не спать всю ночь.
«Работать только второй парой, — продолжала тем временем моя сменщица, — первая пара слишком слаба. Видишь, как вода прет? Приток воды больше, чем могут отсосать даже насосы второй пары. Так что смотри внимательней! Если уровень воды дойдет до «150 см» – это аварийный режим; за четыре-пять сантиметров до этой отметки сообщай наверх – мастеру, механику, дежурному слесарю или кому из начальства».
Сменщица ушла, а я в задумчивости остался у зумпфа. Наконец подошёл к рейке. Знакомая вещь! Это была геодезическая простая рейка. Я взглядом нашел аварийный уровень, потом прикинул отметку воды. Вода закрывала рейку на двести четвертом сантиметре (начало отсчета начиналось снизу – с места упора рейки в дно, от цифры 300 см, конец отсчета был на уровне «зеркала» воды). Так сколько же еще до роковой отметки? Ага, всего полста сантиметров, а потом надо будет бежать на экскаватор, вызывать мастера по рации; остальное начальство я еще не знал. А где рация? На соседнем – «десятке» – она не работает, на вышестоящем – «семерке» – ...Вот же чёрт! Оказывается, не знаю, работает там или нет. Впрочем, чего мучиться – когда припрет, тогда и будет видно.
А дождь хлестал и хлестал. Но несмотря на это тоскливое обстоятельство я бдительно нёс службу и каждые полчаса бегал смотреть уровень воды. Непокорная стихия пенилась от ударов ливня и, как потом выяснилось из моих наблюдений, ежечасно прибавлялась на 2-3, а то и на все пять сантиметров.
Утром напротив цифры 204 я вывел: «Уровень – сто восемьдесят три».
Приток воды в мою ночную смену таким образом исчислялся двадцатью одним сантиметром – рекорд за все предыдущие смены, во время которых шел дождь. И начальство всполошилось. Вы знаете ядерную реакцию? Так вот, их приказы – я имею в виду начальство – расщеплялись так же. Вот она: директор комбината – начальник и главный инженер рудника – главный механик, главный энергетик, начальник горного цеха – четыре горных мастера. И, наконец, последнее звено и самое малочисленное – слесарь водоотлива, решительная точка в данной цепочке. Чем ниже следовал приказ, тем больше он понимался и осмысливался. Ну и как вы сами понимаете, исполнительным звеном должен был явиться слесарь.
Да, там наверху отлично понимали, на кого положиться в данном случае. И слесарь взялся за дело – ведь это его поле деятельности. Первым делом он «выбил» машину у мастера утренней смены и подвез к водоотливу пару новых насосов. «Зачем они?» — полюбопытствовал я, заступая после выходного в утреннюю смену. «Пригодятся. Если вода «пойдет», включим их для работы». «Так для них придется строить помещение?» «Нет, не потребуется, — разбил мои опасения слесарь. — Они закрытые насосы, годятся для работы в тяжелых условиях. Вот так!»
Вода прибывала; хотя приток воды и спал, но она по-прежнему продолжала подниматься. Когда зеленоватая гладь воды ударила по отметке «168 см», пришлось поднимать вводные фидера на специальные подставки. Через смену вода плескалась уже на уровне 165 см.
«Так что же? — спросил я слесаря на другую смену. — Так вода и карьер может затопить!» «А что я могу сделать? И так бьюсь, как могу, — слесарь пожал плечами. — Новую пару нельзя никуда подключить. Что остается?» Он в задумчивости посмотрел на меня: «Остается только заменить «всас» на второй паре насосов. Поставить резиновый, короткий!»
Он так и сделал. Отключил насосы второй пары и длинная их всасывающая магистраль была заменена коротким резиновым патрубком-всасом. Но вода не дремала, и, пока производилась замена, прибывала. В конце моей смены вода затопила всё пространство вокруг насосной и находилась от ее днища в каких-то семи сантиметрах. Она хлюпала везде и всюду, покрывая собой всё дно карьера.
Но дело было сделано. Взревели насосы, с огромной скоростью засасывая воду, и под давлением в одиннадцать с лишним атмосфер погнали ее по магистрали наверх, выбрасывая в слив ежечасно до четырехсот кубометров.
Наступило равновесие: приток был лишь немногим больше отсоса. Да и кончились дожди, которые сыграли немалую роль в этом потопе. Наконец, на отметке «156 см», вода остановилась окончательно. Дело пошло на поправку!
Но в мою последнюю утреннюю смену (имеется в виду: перед выходным) вода еще пыталась рваться вверх, едва сдерживаемая работой насосов. Однако я был спокоен – вода остановлена. Теперь предстояло лишь откачивать ее, откачивать до уровня 300 см. Дело, конечно, трудное, тем более в первоначальный период «зеркало» воды весьма большое, но осуществимое. А всего по данным замеров гидрогеологов предполагалось откачать до двенадцати тысяч кубометров воды (этой цифры я не знал).
Я сидел, глядя на спокойную гладь воды, и курил. Мысли мои были слишком далеки от действительности. «Неужели это проделки Водяного? Да нет, не может быть. Дождь? Дождь – проделки природы. Но такое предсказание... Странно, весьма странно...» И снова, как тогда, в душу мне вонзился ледяной хохот Привидения. Водяной угрожал, Водяной действовал! Но не дремали и люди! Теперь они не те, что раньше... Теперь они могут всё... Они никого не боятся. Люди – сила! Сила, не боящаяся нечистой силы. Человек – уже не забитое, тёмное существо, дрожащее ранее при виде творений, которые были порождены его же собственной неграмотностью и бессилием перед могучей природой. А впрочем, может, несмотря на все наши знания и ухищрения, она, эта «нечистая сила», а точнее – незнакомая и неизвестная, есть, существует...
«Мечтаешь?» — вдруг донеслось сзади. Я, не оборачиваясь, буркнул: «А что?» «А работать кто будет?» «О, это уже интересно. Кто же там?» Я обернулся и увидел перед собой представительного человека: проседь в густых разлохмаченных волосах, черный галстук сбивается порывами ветра вбок, ворот белой рубашки расстегнут, а ее рукава подвернуты. «Важная птица!» Я встал, поздоровался. «Кто работать будет, спрашиваете? — усмехнулся я. — А вы не беспокойтесь, работа идет. Насосы-то ведь и без меня могут обойтись. Им только, по сути дела, нужен надсмотрщик... Это я и есть!»
Видно, человек этот – начальник, а создается такое впечатление, что ничего он не знает. Но, наверное, я все-таки не прав, всё абсолютно человек знать не может. А надо бы!
Он покосился на меня и спросил: «Как работается?» «Нормально!» — прозвучал мой краткий ответ. «А видно, что вы – невежливый человек!» Меня передернуло. «Невежливый?! А что ему еще надо? Во-первых, я его не знаю; во-вторых, ты мне, мил-человек, чем-то не нравишься; а в-третьих – ты мне не представился». «Еще не научился!» — ответил я. «Давно работаете?» «Нет». «Ну-ну, оно и видно. Так вы студент?» Я улыбнулся – какая догадливость. «Студент». Седой как-то странно усмехнулся, что меня особенно покоробило. «Учишься где?» Отвечать или нет? Впрочем, особого вреда не будет, если скажу. Сказал. «А специфика какая?» «О, это можно, здесь-то я тебя убью наповал!» — подумал я и ответил. По выражению лица и по тому, какое впечатление произвела на собеседника минутная расшифровка моей специальности, я был удовлетворен и заключил свой монолог одной простой фразой: «А проще – горняк-открытчик. Не тот, кто открывает, а тот, кто работает на открытых горных работах, то есть в карьерах, рудниках, разрезах и приисках».
Удар, по-моему, был неотразим. Но, видно, нашла коса (это я) на камень. «Я тоже по специальности горняк-открытчик. Только техникум окончил. Давно уж!»
Я смотрел на него и думал: «Слишком серьезный, не улыбнется даже. Думает, так лучше». А он, смотря куда-то вдаль, будто даже и не мне обронил: «Ведь времени у вас много свободного?» Я согласился – это факт. «Вот вы и сосчитайте, за сколько смен можно откачать воду». Я удивился: «Зачем?» «Как это – зачем? Надо!» Но что «надо» – я так от него и не добился.
Теперь он пошел на меня в атаку: «Ведь вы проходили технологию и режим работы насосов?» «Да. Но весьма короткий курс – стационарные машины и установки». «Как так?» «А вот так! Нам их не слишком надо, потому нас и не сильно обременяли этой областью наук!» Он покачал в сильном неудовольствии головой. «Но знаешь?» «Кое-что знаю». «А какие насосы, интересно, качают?» «Не поймаешь», — ухмыльнулся я и ответил: «Центробежные!» «Правильно! — он порылся в паспортах насосов (мы уже были в насосной). — А производительность какова?» Вот этого я не знал, не интересовался. Прикинув и собравшись с духом, я бухнул: «Двести двадцать кубов в час! В паре!» Откуда взял я такую цифру – ума не приложу. А он снова порылся и обрадовал меня: «Шестьсот с лишним. Не знаешь!» «Ну и что? Эка невидаль», — не огорчился я. Впоследствии я узнал, что и директор тоже был не прав; он назвал техническую производительность насосов, а эксплуатационная (рабочая) составляла четыреста двадцать кубов.
Он был доволен и предложил мне новую задачу – высчитать объем воды, которую надо откачать, чтобы осушить дно карьера. Я изумился и сказал напрямик: «Не хочу! Не могу! Нет желания!» «Как не можешь? Это же просто – путем простой геометрии». «Понятно и ребенку, что здесь надо считать геометрическими формулами. Но поймите – не могу! Целый год я запоминал формулы, старался их понять, забивал и засорял ими свою голову. Я устал! И приехал сюда, чтобы здесь, работая, отдохнуть. Да, отдохнуть, а не снова ударяться в учебу! А вы предлагаете мне снова что-то считать, предлагаете геометрию, которую я проходил давным-давно. Давным-давно, давным-давно-о-о!» Мой гнев вдруг куда-то исчез, и уже последние слова я, лукаво усмехаясь, пропел.
Он печальными глазами посмотрел на меня и, бросив «жалко мне вас!», пошел к шикарной «Волге», ожидающей его невдалеке на дороге. Я глядел в его широкую спину и невесело думал: «Не понял он меня! Простые люди доступны ли его пониманию?»
Всё-таки встревоженная гордость заставила меня подсчитать объем воды. Получилось две с половиной тысячи кубов (как видите, ошибка страшная). Но я не знал про свой грех и был спокоен.
3.
По моим расчетам вода должна быть откачана с учетом всех неожиданностей за пять смен, максимум за двое суток. Но я не учел одного факта – Водяного!
Прошли двое суток, трое. Я удивлялся, почему вода еще не откачана. «Петрович, почему воду еще не откачали?» «Ишь, прыткий какой! Быстро больно захотел... это двенадцать тысяч-то!» «Как двенадцать? — вскричал я в изумлении. — Почему так много?» «Сколько есть уж, – спокойно перебил меня старик. — Данные замеров». Я схватился за голову. Надо же так оконфузиться! Благо, что никому еще не показывал своих расчетов.
Пришлось пересчитать. Выходило, что в среднем срок откачки – неделя. «Нереально!» — окончательно запутался я в арифметике и бросил себя мучить.
Кризис миновал – вода падала. Теперь даже иногда подключали для работы первую пару насосов, чтобы вторая – более производительная – охлаждалась (точнее, ее электродвигатели).
Девятнадцатого июля я вышел в свою – после выходного – первую вечернюю смену. А под конец смены зафиксировал падение воды на 10,5 см. Во вторую смену – двадцатого числа – уже на 17 см. Когда заступил в третью смену – уровень был уже на отметке 263 см (это откачен со дня перелома метровый слой воды!). Вот такие дела. Победа была близка!
Но Водяной не дремал.
Перед началом моей смены в карьере был произведен взрыв. И надо же было такому случиться, что один из швов магистрали, совсем рядом с водоотливом, лопнул.
... И вода бешено ударила вверх...
* * *
Вода ревела, бурлила, сильным фонтаном била в отверстие, вырываясь на свободу. Дело еще осложнялось тем, что труба была наглухо завалена породой; лишь там, где лопнул шов, вода разметала себе проход.
Подходить было страшно. «Отключить? — подумал я. — Что толку? Вода поднимется тогда еще выше, пусть уж лучше сбрасывается в другую, соседнюю траншею».
Подъехал мастер – неунывающий, спокойный парень. «Ну что?» В ответ я пожал плечами: «Как видишь». «Ага, — мастер попытался подойти поближе к «скважине», откуда, дико завывая, била вода. — Дела... А заваливать не пытался?» О, дурень! Как же это я не догадался? И мы бодро взялись за дело. Начали с маленьких камней. Но они даже не успевали падать – рассерженная вода с грохотом выбрасывала их обратно. Один из них чуть не ударил меня в ногу. Я остановился, прекратил работу мастер. «Видал? — ухмыльнулся он и в задумчивости поскреб себе затылок. — Как бы нам с ней справиться...» «Да не с ней, — подумал я, — с НИМ! Это его, подлеца, работа! Мстит!»
А «скважина» продолжала реветь с бешеной силой, выбрасывая воду до десятиметровой высоты и изгибая ее плавной дугой. Конец водяной струи бил в землю в 50–60 метрах от места прорыва. И, пересекая всё это дело, переливаясь разноцветьем, в брызгах воды сияла радуга. Красота! А мы от злости скрипели зубами.
Снова полетели камни – уже покрупнее, чем в первый раз. Теперь рычащая вода ошарашила нас по-другому – сил, чтобы вышвырнуть куски породы, у ней, видно, не хватало, принимать, однако, их она тоже не хотела. Так и повисли они в воздухе, поддерживаемые снизу мощными ударами водяных струй. Это явление мы прекратили лишь тогда, когда сбросили в «скважину» один за другим четыре крупных камня. Вода немного стихла. Утирая пот и собираясь перекурить, мы отошли. Но не успели достать папиросы, как вода, издав могучий рык, снова вырвалась на свободу. Из «скважины» полетели камни.
Я с тоской посмотрел на мастера: «Что скажешь?» «Ладно. Вот тогда как сделаем: забросаем немножко «дыру» так, чтобы вода била только в траншею, а потом я съезжу за сварщиком и слесарями. Уловил?» Я кивнул головой. «Вот и хорошо. Ну, я полетел!» «Слушай, а их долго ждать?» «Вот чего-чего, а этого сказать не могу; кстати, не забывай, что сегодня аванс выдавали!» — мастер подмигнул мне и побежал к «хозяйке».
Ждал я сварщика и слесарей долго, и появились они только в десятом часу вечера. Сварщик аппетитно дыхнул на меня и популярно объяснил, что они-де приехали ремонтировать мой чертов водоотлив; я понял обстановку – быстро отключил насосы, открыл задвижку для сброса воды в магистрали. До сих пор я отчетливо не представлял, что водоотлив всё же важный участок карьера... Откуда ни возьмись приехал на «газике» главный инженер, за ним на «хозяйке» – мастер, потом лихо примчалась «аварийка», тащившая за собой гремящий как пустая кастрюля сварочный аппарат и высыпавшая передо мною толпу слесарей и сварщиков. Однако это еще не всё – под занавес примчалась машина главного энергетика, которая притащила еще один сварочный аппарат. И наконец, ко всей куче присоединился буровой мастер.
И вот собравшаяся толпа ударилась в дебаты – орала, шумела, кричала, доказывала истину. Правда, пока было не ясно – чью и какую. Ухмыляясь, я ждал, чем всё кончится. Особенно меня занимали в этой куче «низы» – слесари и сварщики. Они, плотно сбившись в кружок, казалось, обсуждали насущную проблему трубопровода – как заварить трубу, заваленную камнями. Но я догадывался, что проблема водоотлива сейчас их мало трогает – есть начальство, пусть оно и думает; скорее всего, они обсуждали проблему на завтра.
А мнения начальства разделились, впрочем, как и они сами, образовав две группы: в одной – главный энергетик, главный инженер и недавно появившийся главный механик (и как они здесь очутились – время близилось к полуночи), в другой – горный и буровой мастера. Но вот, кажется, главные пришли к единому решению; главный инженер подозвал к себе горного мастера и сказал, чтобы тот вызвал бульдозер.
Вскоре собственной персоной прибыл бульдозер, так необходимый для раскопки лопнувшего шва магистрали. Сейчас-то я наконец вздохну свободно, а то главный механик всё приставал к нам: «Ребята, пока не пришел бульдозер, давайте вручную. А то что без дела!» Слесари не выдержали: «Тебе бы всё работать и работать!» «А вы как думали? Копейка трудовая!» — пытался отшутиться механик. Но «орлы» не были настроены к работе так решительно, как их начальник. Они ограничились лишь короткими резюме: «Мы не дикари, чтобы корзинками таскать. Тем более это не земля, а камни. Да их к тому же много, а нас мало!» Из кружка кто-то гулко хохотнул: «А кадры нужно беречь!»
Взревев как танк, бульдозер, по габаритам и мощности и на самом деле не уступавший среднему танку, перевалил по ту сторону насыпи и приступил к работе.
Вот наконец вспыхнули и искры сварки. Все отошли в сторонку и спокойно принялись за папиросы и сигареты.
Наконец шов заварен, труба восстановлена. Можно включать насосы. Снова голос механика приобрел стальные нотки: «Эй ты, ты работаешь на водоотливе?» Я спокойно кивнул головой. «Включать насосы умеешь?» Мне оставалось на этот вопрос лишь ухмыльнуться и специально промолчать. «Я кого спрашиваю?» «Не знаю!» — и в этот момент в мой глаз попала соринка. Я старательно тёр глаза, а механик так же старательно засыпал меня вопросами, по-прежнему остающимися без ответов.
Ко мне подошел главный инженер. Усталым ровным голосом спросил: «Здесь работаешь? Пора включать. Сам сможешь?» Тут уж я поднялся – если ко мне с добром, то и я готов вершить доброе дело – и пошел в насосную.
Но водоотлив стал. Оказалось, что вода сброшена не только из магистрали, но и ушла из самих насосов – включать их было нельзя. Требовалась заливка водой.
Все, как быстро появились, так же быстро и исчезли. У «разбитого корыта» по-прежнему осталось нас двое – я и горный мастер, в подчинение которого входил водоотлив. А вскоре ушел наверх и мой шеф – за «водовозкой».
Дело близилось к концу смены и я уже был готов «на-гора», то есть наверх, но вышла промашка – воды от первого рейса «водовозки» не хватило. И теперь я не мог уйти, хотя сменщица уже пришла; однако и оставаться здесь мне не хотелось.
Вода не дремала. Незаметно, но она буйствовала, накладывая на «зеркало» один за другим слои воды, всё более увеличивающиеся по площади. И таким образом на огромной территории дна, насчитывающей сотни квадратных метров, вода только за мою смену поднялась на целую треть метра. Тридцать три сантиметра!
Для меня это было ударом. Ведь до победы оставалось совсем немного – всего 37 сантиметров, от отметки «263» до заветной цели «300 см». Но тут... вода от «263» метнулась к линии «230». Борьба вступила в новый этап.
Я догадывался, что это последняя вспышка сил Водяного. Его последняя агония. Я поклялся, что победа будет все-таки за мной, за нами. Она и будет за мной, ведь я работаю не один, а в коллективе, где каждый болеет за общее дело.
Дожди прошли, приток подземных вод спал. Всё предвещало ближайший конец «хозяина» водоотлива – Водяного.
А в мой выходной, 22 июля, выдали долгожданный аванс. Как не отметить такое событие? Потом я отправился на работу. Сошло всё хорошо: проскользнув мимо мастера, я сел в машину и отправился вниз.
Мутна была моя голова, но всё же первым делом я кинулся к журналу. Лихорадочно посмотрел его и уткнулся взглядом в показания трех последних смен.
Да, я был прав, вода спадала! Теперь я «обладал» полным правом поспать пару часиков – на водоотлив редко кто заглядывал, а тем более сейчас была ночь; ночью начальство обыкновенно должно спать («Могу я с них взять пример?..»), – но не ложился. Часто выбегая из насосной, смотрел на рейку и с тайной радостью отмечал хоть полсантиметровое падение воды, которое происходило, как показали мои дальнейшие наблюдения, в среднем за пятнадцать минут.
От томительного ожидания я схватился за карандаш и бумагу и начал производить расчеты. Получалось, что за час до передачи смены «зеркало» воды за мою смену упадет на пятнадцать сантиметров (что и было на самом деле). Зная производительность насосов и скорость падения уровня воды, я прикинул возможную площадь «зеркала» воды. Цифра получилась внушительной и равнялась двадцати двум с половиной тысячам квадратных метров. Внушительное зрелище – водоём 150 на 150 метров, если его представить в виде квадрата.
Под утро насосы взвыли тяжело и натружено. Я понял – им нужен хоть короткий отдых. Пришлось переключить эту пару на другую, более слабую. Сменщице я наказал, чтобы она переключила насосы примерно часа через два-три, когда те остынут.
Назревало что-то интересное, то, о чём я так долго и безрезультатно мечтал.
Вода стремительно падала вниз, к заветной отметке «300 см». Мерно гудели насосы, а я стоял на краю зумпфа и смотрел в воду.
Да, теперь Водяной не распростирал свои крылья на полторы сотни метров, а плескался лишь здесь, в этом глубоком зумпфе с зеленовато-серой водой и едва-едва видимым дном.
Так прошла моя вторая после выходного смена, и седьмая – с момента аврального прорыва.
4.
Двадцать пятого июля я вышел в последнюю ночную смену. Это была моя знаменитая, десятая по счёту смена.
Было уже светло, когда взревели электродвигатели насосов. Что это? Тревога! Я кинулся в насосную, припал к двигателям, насосам. Вроде всё нормально, но что же в таком случае? Значит, решётка патрубка всаса забита камнями. Я пулей вылетел к зумпфу.
... Зумпфы представляли собой две ямы, соединенные между собой неглубоким перешейком, дальняя – более глубокая. И вот сейчас, когда вода резко спала, глубоководный зумпф оказался отрезан от другого, более мелкого, в котором и стояла измерительная рейка.
Но не на рейку смотрел я сейчас, а на светло-серое дно, по которому металась темная тень. Чья?
Вот тень метнулась к перешейку, но, видно, поздно – глубина воды в нём не достигала и дециметра.
Чем ниже падала вода, тем серее и отчетливее становилось пятно. Теперь это было, я видел уже ясно, не пятно, а загадочная тень великана.
Чем дальше, тем сильнее ревели двигатели насосов, и тем сильнее метался великан в агонии. Скрестив руки на груди, я спокойно наблюдал за ним.
... Дрогнула вода, обдав меня тысячами брызг, и извергла из себя трехметровый могучий торс великана.
Дрогнула темная громадина Водяного, вверх взлетели его руки, и хриплый, надтреснутый голос разорвал тишину: «Отключи насосы! Отключи насосы! Отключи-и-и-и-и-и!»
Я стоял в прежней позе, и, хотя на моей голове в ужасе зашевелились волосы, я всё же разомкнул губы и глухо сказал: «Сознайся, что ты побежден. Сознайся!»
Брызги воды от ударов Водяного взлетели выше карьера (а карьер не мал, по замкнутому контуру глубина составляет около сотни метров); водяной вал, вырвавшийся из малого зумпфа, свалил меня на камни и прошелся по мне ледяной поступью. И как потом будут удивлены на «десятке» этой, невесть откуда взявшейся, прикатившей к ним водой. «Что цунами!» — пошутят они. Будут удивлены и все рабочие карьера, работавшие в эту смену – откуда этот кратковременный и непонятный дождь?
Минуты три я лежал неподвижно, потом встал и снова, скрестив руки, шагнул на каменный бортик зумпфа. Мокрый камень, не выдержав нагрузки, качнулся вместе со мной в воду. И в тот же миг могучие руки Водяного потянулись ко мне.
... Но нет, мне на роду не написано утонуть в воде – я мгновенно отскочил назад. «Сознайся, что побежден!» «Выключи насосы! — прохрипела качнувшаяся фигура Водяного. — Выключи насосы! Если вода дойдет до отметки «300 см» - я погиб! Выключи их, я прошу тебя!»
Давно взошедшее солнце уже начинало беспощадно палить, а в воздухе металось эхо: «Выключи-и-и! Я прошу тебя-я-я!»
Я кинул взгляд на Водяного, его серая тень в воде начала бледнеть и таять. А когда перевел взгляд на рейку, то увидел, что вода ударила по отметке «300 см».
. . .
И в заключение:
Люди не дремали! Ведь они не те, что раньше; теперь они могут всё! Они никого и ничего не боятся. Люди – сила!..
Я переключил насосы на более слабые. Теперь – надолго!
ПОДАРОК
Сказ второй
1.
Так уж получилось, что я дорабатывал на водоотливе последние дни. Это обрадовал меня всё тот же горный мастер, сказав, что в конце июля я снова смогу перейти на экскаватор помощником машиниста.
«Ну, а точнее? Когда это будет?» — поинтересовался я, зная и предвкушая ответ своего шефа. Тот мялся, что-то объяснял; в дополнение я его часто перебивал и поддразнивал. Наконец ему надоели столь длительные дебаты, и он решительно отрубил: «Уйдешь, когда замена будет. Ясно? Скоро ли, спрашиваешь? Ну, подождешь недельку, не больше! Ждал ведь...»
Ждать-то ждал, и хорошо, что моему ожиданию приходит конец. Надоело! Говорят, какой-то ученый подсчитал, что человек на ожидание – неважно, куда и на что идет оно – затрачивает более одной трети своей жизни. Всё верно. На водоотливе – «важном и стратегическом» пункте карьера я просидел почти месяц, или другими словами – треть производственной практики. Чувствуете? Да нет, не то, что совпадают цифровые показатели у меня и того гения, а другое – мне надоел мерный и монотонный, разрывающий мозг и скрежещущий в душе звук тяжко работающих насосов и та вибрация, которая непрерывно сотрясает хибару хозяина водоотлива. И пусть теперь другой занимает этот номер – вакансия имеется!
Появились дублёры-стажёры. И даже не один, как я того ожидал, а два. Одна – женщина лет под тридцать, вторая – ...О, эта заслуживала внимания, ибо была молода и привлекательна. Однако мои ухаживания были тщетными, пришлось отступиться. Но мысль, что скоро меня здесь не будет, успокаивала самолюбие. Скоро я буду на своём родном дребезжащем экскаваторе, который мне ближе и более понятен, чем эти центробежные насосы. А если вспомнить мой старт в области водоотлива, то жуткое состояние охватывает всё тело, и страх своей когтистой лапой залезает в душу.
... В ту смену я уже за полчаса до ее начала спускался в карьер: торопился на свою вторую смену водоотливной службы. То, что существует специальная машина для доставки людей на рабочие места, я как-то «упустил» из вида. Да еще в голове крутились те упреки, которыми осыпала меня вчера моя предшественница. Конечно, я мог бы оправдаться, сказав, что меня задержал мастер. Но я смолчал, и вот сейчас тороплюсь вниз.
Весело насвистывая, я широко шагал по дороге, то и дело залезая на боковой гребень, чтобы уступить проезжую часть её владельцам – мощным «БелАЗам», возвращающимся из карьера в гараж на пересмену. С этими стальными громадинами спорить бесполезно, да и весовые категории у нас различные. Хотите пример? На одном из криворожских карьеров, где пыль висит столбом, застилая солнце, рабочий попытался перебежать дорогу. Он был смят, вбит в дорогу, и всю ночь его утюжили автосамосвалы. Лавина за лавиной колёса расплющивали тело несчастного, и к утру от него осталась лишь одна тень. Поняли? Так вот, примите к сведению, что
Здесь вам не равнина,
Здесь климат иной –
Идет лавина одна за одной,
И камнепад ревет за камнепадом.
Здесь можно свернуть,
Обрыв обогнуть,
Но мы выбираем трудный путь,
Опасный, как военная тропа...
Вот эти две последние строчки меня и подвели... Заступать я должен был в первую смену в 24-00 (работать то есть с 0 часов. А, какая игра цифр?). Карьер был освещен скупо – впрочем, как и полагалось по нормам технического освещения, но я всё-таки решил срезать путь. Не идти по съездам, а прямо по уступу и вниз – и выигрыш в расстоянии и времени мне обеспечен. Внизу, у бровки уступа, темнота, но я отважно шагнул вниз. Мы же выбираем опасный путь! И... Темнота, уступ высотой 15 метров, угол откоса до 70–80 градусов, валуны и негабариты, бешеная скорость на спуске...
Я лежал внизу и не мог встать. О, чудо, ты, оказывается, есть еще на свете! Не будь тебя, то в итоге – переломы костей и пролом черепа. Когда наконец я ощупал себя полностью и пришел к выводу, что всё в порядке, то предпринял попытку занять вертикальное положение. Колено дико завыло, и я содрогнулся от боли.
Колено со временем зажило, однако синеватая широкая отметка осталась. А тогда мне пришлось ползать и «собирать» по всему откосу свои кости (Шутка. Студенты – народ веселый и неунывающий). Собрал, собрался и пошел дальше, оставив за собой клок мяса на колене, клочья материи с брюк и багровые ручейки крови. И в такт моим шагам в сапоге хлюпала всё та же кровь, медленно стекающая по ноге из рваной раны.
Тогда я успел вовремя. Но что-то не хочется мне повторять этот опасный путь, и теперь я хожу по съездам. Выигрыша здесь в расстоянии не наблюдается, зато безопасно, да и время на будущую жизнь приберегаешь. Вот так!
... Мне оставалось работать на водоотливе последние три вечерних смены.
Незаметно пролетела первая смена. Закатилось солнце, и темнота спустилась в карьер. На борту вспыхнули прожектора, и голубоватая дымка расплылась по всей огромной яме. Близился конец работы. Я взглянул на часы – в запасе еще оставалось полчаса, – не спеша переключил насосы и двинулся по съезду вверх, туда, где сходились пути на десятый и двенадцатый экскаваторы. И всё же оказалось, что пришел я рановато. Не оставалось ничего другого, как присесть на валун и ждать.
Немногим более полуночи. Карьер понемногу затихал, пустел, останавливались экскаваторы, тускнели их бортовые огни – впереди новая смена, которой предстоит работать до восьми часов утра.
Над головой горели звёзды, на борту карьера что-то гулко ухало. Изредка сыпанет с уступов лавина камней – и снова тихо. Вдруг мой слух уловил какой-то шум, но это были не падающие камни и мелкие оползни – это было другое. Снова шорох, еще. Но мне лень подниматься с камня. Для чего? Может, это идут с экскаватора, может что иное.
И вдруг невидимый удар чьего-то тяжелого и пристального взгляда заставил меня вздрогнуть. Медленно, подчиняясь могучей силе, я начал поворачиваться. И холодок страха пробежал по всему телу.
Над валуном, лежавшим с левой стороны, возвышался столб со змеиной головой наверху.
Это был ММ-Полоз, король и хозяин медно-молибденовых руд карьера. Его длинное и мощное тело извивалось между камнями и пропадало в тени уступа; гордая голова высоко взметнулась надо мной и на меня смотрели красноватые, немигающие и страшные в своей необычности глаза. Всё тело Полоза, серо-стального цвета, проблескивало тускло-золотистым оттенком, излучающим неяркий, но странный, с неповторимыми переливами свет. И эта окраска тела, и оттенок, казалось, олицетворяли богатства Полоза, которые заключались в молибденовых и халькопиритовых рудах. Его рудах!
Да, это был Полоз, король и хозяин руд, что подтвердил его громовой и глуховатый голос: «Узнал меня? Я – ММ-Полоз. Не бойся, нас с тобой никто не слышит, хотя эхо моё отдаётся на много километров – людям не дано слышать голос недр!» И могучее эхо ударило в скалы карьера: «Я – ММ-Полоз! Полоз! ...олоз! з-з-з!»
«Они слышат только его эхо. Эхо недр!» И снова эхо ударило по каменным массивам: «Эхо недр! Недр!.. р-р-р!»
Громовые раскаты, затихая, таяли в ночном небе, а я всё еще не мог прийти в себя. Нет, я не удивился, что голос Полоза не слышен людям – примерно с тем же я встретился немного раньше, – было непонятно другое – почему он здесь?
Огнём сверкнули глаза Полоза: «Почему я здесь? Не удивляйся, что я читаю твои мысли; это гораздо легче, чем ты думаешь. Ты нужен мне, поэтому я здесь! Я помогу тебе!» «В чём?» — наконец прошептал я. «Я помогу найти тебе твой путь!» «Но я сам его найду!» «Ищи! Для этого вы и живёте. Но вы знаете слишком мало, во много раз меньше меня!» «Нет! — вскрикнул я. — Мы знаем много, и мы покорим природу! Так будет!»
«Что вы знаете? Собираетесь покорить природу? И недра тоже?» «Да! Когда-нибудь доберемся вплотную и до них!» «Когда же?»
Полоз вздыбился надо мной.
2.
И страшен был в этот миг Полоз, хозяин руды. Такое впечатление, будто над тобою нависла голова древнего дракона; казалось, еще миг – и к тебе должны потянуться еще несколько голов. Ведь в конце концов не бывает одноголовых драконов. Совсем как в сказке!
Но это не было сказкой, это была явь, сама действительность, в доказательство чего надо мной висели красноватые глаза. Они были человеческие и в них, казалось, застыли те же человеческие чувства, что и у нас, людей!
«Он несчастен?» — подумал я. Он снова отгадал, будто прочитал книгу, мои мысли и рассмеялся. В отличие от голоса, его смех был звонкий и на редкость чистый. «Несчастен ли я, спрашиваешь?» «Разве я спрашивал?» — я встал с камня и хотел подойти поближе. Видно, он угадал мои намерения и глуховато повторил: «Не подходи – обожжёшься! Потом каяться будешь». Помолчав, продолжил: «Ты верно считаешь, что я несчастен. Но с одной лишь разницей – не я несчастен, а вы. И больно мне за вас!» Я вскинулся: «За нас? Чем же мы заслужили такое?» «Своим отношением к богатствам природы. Халатное оно у вас слишком. Доказательств, надеюсь, не надо? Помню, в старину платину выбрасывали как ненужный элемент до́бычи». Я был удивлен произношением последнего слова – как истинный горняк, ударение делает на первом слоге. А то некоторые люди своим произношением портят это прекрасное слово. «Или выбрасываете в отвал бедные руды. А потом, обливаясь потом, вы перелопачиваете спецотвалы и берёте эти руды опять. Или еще бестолковее – отправляете пустую породу на фабрику, а руду – в отвал? Это ли не возмутительное попустительство?! Согласись, что так бывает». Я покраснел и в эту минуту был даже рад, что сейчас ночь. Но я опять не оценил способности Полоза. Он усмехнулся: «Краснеешь? Думаешь, я не знаю, как вы с машинистом как-то раз так и сделали. И всё из-за того, что лень было взглянуть на указательную картонку. А водителю что? Что у вас написано, туда он и везет». Я не мог ничего возразить, лишь с присвистом вздохнул. «А что будет дальше? Лет через сто, двести, когда вы изроете всю земную кору?» Теперь уже усмехнулся я: «Что же ты предлагаешь? Если изроем матушку-Землю, то полезем к ней за пазуху, в глубину. Освоим космос. Будем добывать из воды». «Всё это не так легко». «Не спорю, но наши потомки будут так и делать». «Но не забывай, что одной из задач для вас есть именно забота о будущем, забота о потомках. На сколько бы вы отодвинули «каменный голод», если бы использовали полезные ископаемые в нужном направлении, для полезной цели, с лучшей его обработкой. А то уголь горит вместо того, чтобы служить в химии и металлургии; золото и редкие металлы – из-за плохих уловителей и такого же плохого обогащения тоннами вылетают в воздух! Так что?» «Сдаюсь, — подавленным голосом возвестил я. — Но откуда у вас такие факты?» «Я не один на этом свете, у меня есть братья по оружию!»
Мы помолчали, потом он снова ринулся в наступление: «А какова ваша разведка? Это же просто грубая работа, тонкая ниточка, которая часто рвется, и причём во многих местах. У вас всё просто, по принципу: ага, здесь руда. Копнули – есть! И вдруг, вильнув в сторону, исчезла. Куда? И вы хватаетесь за голову».
«Но мы еще молоды и учимся не делать ошибок», — попытался защититься я. Но тут же был опрокинут на лопатки: «Молоды лишь отчасти. Этот карьер разрабатывается столько же лет, сколько и тебе. Не так уж много, но и не так мало, и за прошедшее время богатства месторождения можно было бы определить получше и поточнее!»
Он много знал, этот старый, умудрённый в горном деле Полоз. И я удивлялся: «Откуда у него это? Он – что человек по характеру, но всё равно недостижим в своей высоте!» И не знаю, почему у меня вдруг вырвался вопрос: «Полоз, сколько ж тебе лет?» Его красноватые глаза вспыхнули, и мне показалось, что по его змеиному «лицу» казавшемуся сейчас отнюдь не противным, пробежала улыбка. «О, мне много лет! Немногим менее, чем горному делу». Я был озадачен таким ответом, подумав, что если горное дело появилось на Земле почти сразу же с появлением человека, то выходит, что Полозу уже несколько тысяч лет. И заинтересовался еще больше. Пришлось задать наводящий вопрос: «Когда же ты родился, Полоз, и от кого?» Он понял меня и мое любопытство.
«Стар я уже, мне перевалило за два с половиной века. Много ли это? А именно столько, сколько лет назад люди возвратили меня из небытия. И рожден был я именно ими, их легендами о таинствах горного дела и их мыслями о богатствах нашей Земли. Богат Урал, но богата и Сибирь! Необъятны её кладовые и не счесть здесь угля, руд, золота. И даже алмазов! Но всё это надежно укрыто непроходимыми завалами, глухой тайгой, болотами, дикой красотой гор. Человек, однако, пришел и сюда. Пройдя все преграды и невзгоды, он добрался до угля, руды и золота. Взял и алмазы. И я преклоняюсь перед ним, перед тем, кем я был рождён два с половиной века назад!»
«Полоз! А где ты живешь?» — я заглянул в его глаза. И тут же отвёл, ибо не под силу мне, простому смертному, выдержать пристальный и тяжелый взгляд Полоза. «Между небом и землёй! — раздалось в ответ. — Это – шутка, но в ней есть смысл. Я живу в умах тех, кто помог мне обрести место на земле. И буду жить еще долго. До тех пор, пока не перероют все горы и их недра. Тогда мне уже не будет работы, и я растаю от тоски. Но и потом я всё равно останусь в легендах и предстану в них сказанием древних лет. И... пережитком прошлого, потому что год от года люди становятся рациональнее и более привередливыми».
Полоз высоко вздыбился и его гордая змеиная голова торжественно застыла надо мной. Я напряженно следил за ним: «Что же будет дальше?» А дальше случилось неожиданное, впрочем, о чем я и догадывался. Потому что так и должно было случиться!
«Ты знаешь, на чём ты сидишь?» — вопрос громом обрушился на меня. Но внутренний голос чётко подсказал мне ответ: «На руде». «Верно. Но ты не догадываешься, на какой руде». «Самой обыкновенной. Какая она еще может быть?» «Обыкновенная? Может быть. Однако если войти в камень этого уступа, то можно увидеть несколько мощных и богатых жил руды. О ней не знают геологи и маркшейдеры и считают это место пустым. Его взорвут и вывезут в отвал, не подозревая, что тем самым они обделяют себя десятками и сотнями тонн руды. И виновата в этом будет разведка, которая не учла слишком сложную тектонику данного участка. Ты понял?»
Да, я понимал. Сотни тонн руды, а в итоге десятки тонн металла и килограммы редких металлов рухнут в отвал и будут завалены. Погребены надолго, если не навсегда. Но куда тогда смотрела разведка? «Нет, я не пойду к ним. Может, они знают?» «Нет!» «Может, считают эти руды некондиционными?» «Они богаты». «А может, к ним труден доступ?» «Они почти выходят на поверхность!»
Все мои доводы разбивались о каменную стену точных и конкретных ответов Полоза. Будто вбивая гвозди, он чеканил: «Ты сходишь и скажешь. Ты должен, обязан так сделать. Но только не говори, что видел меня. Пусть я по-прежнему останусь легендой». Я подумал про себя, что я еще не сошел с ума, чтобы говорить кому-нибудь об этой встрече – не поверят.
Вдали заурчал мотор пассажирской машины: ехали на смену нам. Вот блеснули фары, провалились в темноту и с новой силой вспыхнули уже на повороте.
Дрогнул Полоз, и резкий свист потряс воздух. И земля, моя родная земля, которую я, казалось, так хорошо знал и доверял ей, сбила меня с ног.
Когда я встал, то лишь золотисто-серый туман висел над тем местом, где был только что ММ-Полоз. И страшной жарой отдавало с тех камней, где покоилось его тело.
Вот таким он и остался у меня в памяти: гордый и могучий, восхищающийся нами – людьми!
3.
Но я не знал, каким образом довести до геологов ту тайну, которой одарил меня Полоз. Не знал, кому и что говорить. Да и времени у меня не было. Сами посудите: пришел работы в час ночи, проспал до одиннадцати утра; пока приводил себя в порядок, ходил в столовую, немного отдохнул – тут и время подошло ехать на работу. Конечно, я мог сходить к геологам и во время пересменки, раз не мог приехать к ним пораньше, но что-то мне помешало.
И я отправился на машине в карьер, совсем забыв наказ Полоза. Всё как обычно – принял смену, переключил насосы, – лишь в голове стучало: «Осталось мне на водоотливе работать всего две смены. Включая эту». Хорошо? Очень. И еще раз повторяю: «Пусть теперь другой занимает этот номер – вакансия имеется!»
Прошёл час, второй... Всё такая же скука одолевала меня, как и раньше. Ох, как я теперь ненавидел водоотлив! Всю смену один и один, никто не заглянет в гости; правда, иногда заедет начальство, да какой с него спрос? Сами знаете, для чего оно существует, получается наоборот – спрос-то с меня, а не с них (с них – особый). А сколько я за это время перечитал книг и журналов (так сказать, повысил уровень своего развития) благодаря специфичности работы на водоотливе. Одним словом – работа «не бей лежачего». Ведь именно в лежачем положении большую часть рабочего времени ты проводишь на водоотливе: рабочее место в насосной называется топчаном, на котором-то я и валяюсь в данное время.
За анализом таких мыслей я потерял ещё три часа. «Ну-с, — озарила меня гениальная мысль, — пора бы перекурить!» Я нехотя отодрался от жёстких досок топчана, сел.
«Ты сходишь и скажешь это! Ты должен, обязан так сделать».
Я содрогнулся.
«Ты должен, обязан!»
Я похолодел и начал лихорадочно озираться, однако в насосной кроме меня никого не было. Кто же это? Может, внутренний голос? Ну-ка? Я прислушался к невидимым ритмам моей души. Ага, меня не обманешь – так и есть! Внутри меня что-то заурчало, зашевелилось. Это он!
Правда, урчание весьма смахивало на революционное движение в животе, который, видно, был недоволен своей пустотой. Но ничего, голубчик, ничего, потерпишь. Я терплю, а ты, господин живот, чем лучше? Я успокоился, но в тот же момент вновь и еще более явственно раздалось в насосной: «Ты сходишь и скажешь!» Это уже слишком. «Нет!» — заорал я в ожесточении.
И мы крепко схватились. Теперь я понимал, что это не внутренний голос, а голос Недр, глас Полоза. А с ним не шути!
И снова я упал на топчан, свернулся в клубок и заткнул уши пальцами. Не помогло: низкий, всепроникающий голос Полоза достиг меня. И снова как удар по нервам: «Должен!». Что должен и кому должен – это я знал из предыдущей беседы с Полозом, но вот именно то, что я все-таки должен сходить к геологам – это я понял только в ту минуту.
Многократным эхом отозвался приказ Полоза в моих ушах. И уже не было места от него спрятаться. Я с трудом встал и шатающейся походкой пошёл к выходу. Толкнул дверь, в изнеможении сел на камни прямо тут же, рядом с насосной.
Казалось, насосы замолкли навеки – лишь где-то далеко-далеко слышался их умирающий шум. И была бы тогда кругом тишина, если бы не эти всё усиливающиеся отзвуки того слова-приказа Полоза.
Долго я сидел так, с поникшей головой и закрытыми глазами. Правда, уже не пытался зажимать уши – было бесполезно. И лишь к концу смены я начал приходить в себя. Всё-таки Петрович, сменивший меня, удивился: «Э-э-э, парень, ты что-то плохо выглядишь. Может, что случилось? Помогу советом или делом». Я лишь отмахнулся. Но старик не отставал: «Что-то сегодня неважно с тобой. Вот и физиономия бледная». И вдруг приказал: «А ну выкладывай, чего затаился!» Я взбеленился: «Не выложу! А если выкладывать, так это не тебе надо, а геологам. Ты всё равно ничего не поймёшь!» Приветливое и нарочито сердитое лицо старика сразу сникло, стало серым и скучным. Отвернувшись, он пробормотал: «Ну, как знаешь... Я хотел как лучше».
И я понял, что могу навеки потерять доверие Петровича. Хотя, впрочем, зачем оно мне, если через месяц-полтора я уезжаю домой. Но именно с такой философией жизни и нельзя мириться – ведь и после тебя остаются люди, и им не всё равно, какое ты о себе оставишь здесь мнение. Я потянул старика за спецовку. «Не сердись, я объясню. Видишь ли, я и сам не вполне понимаю. Ну, в общем...» И тут я окончательно запутался. А в стороне уже сигналила машина, что пора ехать наверх... В проблесках света фар отъезжающей машины я еще успел различить недоумённое лицо Петровича. Затем он пропал во тьме. Каким, интересно, я для него сейчас выгляжу?
А «он» всё преследовал меня – мылся ли я в душе, ехал ли в автобусе, шёл ли я с остановки.
Наконец я привычно зашёл в общежитие, взошёл на свой этаж и толкнул дверь. В комнате все спали. Не было лишь одного, который ушел в ночную смену.
Выкурена перед сном папироса, погашен свет, приятная усталость смыкает глаза. Но и ночью меня не оставили в покое – сон напоминал, что на водоотливе мне осталось работать всего лишь одну смену; и почему-то именно не позднее этого срока я должен сообщить геологам об их ошибке на «том» горизонте...
... Может ли человек поднять тонну? Трудно сказать. А две? Вот тут-то двух ответов быть не может – нет, конечно нет. Такой физической нагрузки человек выдержать не может. Ну а если десять, двадцать... сто тонн? Геологи глядели на меня с удивлением и странным любопытством: «Доказать ты можешь, что в этом многотысячетонном массиве есть руда? Смотри, брат, – это слишком тяжело. Мы, люди, которые в геологии собаку съели, потратим много времени на доразведку этого массива – и тем более, как ты сможешь доказать свою правоту? Да еще сейчас! Ха! Смотрите, он не доверяет геологическим картам! Молод ты ещё в этом деле, зелен. Ну, чёрт с тобой, предположим, что здесь есть руда. А оправдает ли она затраты на дополнительную геологоразведку? Не проще ли выполнять план, не вдаваясь в такие подробности? И учти, это еще не единственные «а». К примеру... Мы еще не убедили тебя? Надоел ты нам; тогда доказывай свою правоту!»
Я расхохотался дьявольским смехом и как игрушки начал расшвыривать метровые и двухметровые негабариты (камни, по размерам не проходящие в дробилку). Рты геологов открылись от удивления. Я метнул на них свирепый взгляд, и рты захлопнулись от страха. «Не верите?!» — загремело и заметалось моё эхо. Сначала в карьере, затем в сопках. «Не верите?» Я ударил ребром ладони по массиву, и он как по волшебному мановению раскололся. Схватив многотонную скалу, я легко выбросил её из карьера. Затем полетела туда же вторая, третья. «Теперь видите? — пнул я ногой в разлом. — Что поведали ваши скважины? Да они же мимо прошли – и разведочные, и сухие буровые. Лишь краешек захватили!» Я схватил глыбу и потряс ею над головой: «А руда-то вот она! Богатая, хоть и жильная. Много её, много!!!»
И многотонный камень, заблестев серо-свинцовым металлическим блеском, заплясал в моих руках...
Я дёрнулся в последний раз – сами посудите, ведь не так легко держать в руках здоровенные булыжники (даже во сне), – и проснулся. Что за чертовщина снится? Нашарил на столике пачку «Беломорканала» и с удовольствием закурил.
С первой затяжкой пришла мысль: «Что же мне надо было сегодня сделать?» Ответ не заставил себя долго ждать – сходить к геологам. За окном раздался гром, и ветер ударил в стекла; и сразу же передо мной возникли как будто висящие в пространстве красноватые немигающие глаза. Видение длилось секунды две и затем неожиданно, впрочем, так же как и появилось, исчезло. А из грома родилось слово: «Помни!»
В комнату вбежал мой напарник по практике. «Вот это да! — воскликнул он, заметив, что я уже проснулся. — Иду сейчас из столовой, вдруг как грохнуло. Видно, дождь большой будет. Но что-то сомнение берет – облаков мало, солнце светит. В общем, чёрт поймет эту небесную канцелярию! А ты что, не пойдешь в столовую?» Я с удивлением воззрился на него: «Как это не пойду? Что я, по-твоему, голодный должен ходить?» «Тогда что резину тянешь? Смотри, вот нагрянут сейчас стройотрядчики и создадут в столовой перебой. Вот тогда попрыгаешь!» «Всем хватит! — буркнул я. — Всё равно всё не съедят». И стал не спеша одеваться. Но мой товарищ оказался прав – не знаю, что уж случилось с горе-строителями-студентами, но их в этот день на обед пришло слишком много. И вот таким образом я снова не успел к геологам.
4.
Последняя смена на водоотливе! Долго однако же я ждал этого события, почти целый месяц.
Я привычно натянул свою робу, надел сапоги и, громыхая, вышел из быткомбината. У крыльца стояла машина, которая должна была отвезти смену наверх, в «раскомандировку». А вокруг неё толпились готовые к работе буровики, экскаваторщики, подсобники. Кое-кто курил, другие говорили или молчали. В общем – самая нормальная обстановка перед сменой.
Я стоял и смотрел на своих экскаваторщиков, которые над кем-то беззлобно подшучивали. В центре, конечно, Макарыч, машинист с «десятого» экскаватора. На его лице гуляет лукавое выражение, в глазах хитринка.
Вообще-то мой график редко совпадает с работой моей бывшей смены. Сами посудите: на водоотливе выходной через три смены, у экскаваторщиков – через пять. Так что сегодняшнее совпадение для меня удача.
В кругу рядом с Макарычем стоит его помощник, которого зовут Славка. Это невысокий паренёк, лет девятнадцати, белобрыс. Славка играет в футбол. Вот здесь-то его счастье с одновременным несчастьем. Счастье – в том, что он играет за сборную города; карьер оплачивает ему «пропущенные» смены. Ну, а несчастье происходит сейчас...
«Славка, а Славка!» — невинно вопрошает Макарыч. Помощник его наготове – сегодня он после трёхдневного перерыва вновь вышел на работу: «Ну, чего надо?» «Как успехи-то? Опять выиграли?» — последнее звучит с издёвкой. «А тебе-то что?» — огрызается Славка. «Ну как что? Не видишь, что ли, – болею за вас. Да впрочем, я вижу, бесполезно – толку-то от этого? Нет, Славка, ты честно сознайся – заодно и мне напомнишь, – когда вы выигрывали последний раз?» «Слушай! — не вытерпел наконец футболист. — Что пристал? Сам-то лучше играешь?» Макарыч хмыкнул: «Причём здесь я? Я ведь не играю, меня поэтому и не взяли. Ну а ты-то почему попал в команду, а?» «Значит за дело!» «Это за какое же? — усмешка осветила лицо машиниста. — С такой игрой, как твоя, я бы тоже мог играть. Ты хоть пять раз за всю игру пнул мяч? Больше?! Н-да, прогресс для твоих ног, Славка. Впрочем, твои разы со стороны не очень смотрелись. Точнее говоря, ты больше мешал мячу, чем давал ему скакать по полю. А, забыл, был у тебя один хороший удар». «Вот видишь!» — лицо футболиста угрюмо засветилось. «Это, знаешь, когда ты бил по пустым воротам метров с семи! — Макарыч захохотал. — И как обыкновенно смазал». Тут уж не выдержали все, и дружный многоголосый хохот заставил Славку покраснеть. Но вы плохо знаете Макарыча, если думаете, что он отказался от дальнейших попыток допечь своего помощника. «Ну ладно, Славка, чёрт с тобой! Играл бы ты хорошо, я бы ничего не сказал. Но когда посмотришь, как вы играете, да в довершение всего взглянешь на табло, то тошно станет!» Славка молчал («Скажи этому плуту что-либо поперек, так он вообще не остановится или замучает тебя за смену»). А «изверг», с любопытством взглянув на свою жертву, – не довел еще?! – продолжал: «Так вот, придёшь после вашего футбола на смену и с тоской думаешь: «Неужто сегодня опять буду один? Опять, что ли, этому никудышному футболисту пойдёт дармовая смена? Да к чему сдался мне этот кабель? Я что, должен машины грузить или его таскать?»
Так могло продолжаться без конца. Но видно Славка всё-таки родился под счастливой звездой, так как шофёр подавал знак к отъезду – все бросились к машине.
«А ты что, не едешь? — Крикнули мне из темноты брезентового кузова. — А, водоотлив?» «Скажите, пешком иду!» Раздалось чье-то недовольное ворчание: «Сдурел, что ли, парень? И охота ему пешком ходить». Из отходящей машины донеслось – выступили в мою защиту: «Дурак! Может, он решил так отметить свою последнюю смену на водоотливе. Ведь после выходного он пойдет вместе с нами». «Сам ты дурак, — раздался в ответ густой насмешливый бас. — Такое событие надо отмечать не ходьбой, а в гастрономе!» Из удаляющейся машины раздался смех.
Я улыбнулся: «Это, конечно, опять неисправимый Макарыч».
Смена на удивление прошла быстро и незаметно. Вылетев около двенадцати часов ночи из карьера на машине, мы спрыгнули с неё и забежали к мастеру – «отметиться».
Я с удовольствием потянулся – конец еще одному рабочему дню. Теперь вниз, в душ, а там – до «хаты». И спать. Долго спать, ведь завтра у меня выходной.
Вниз – это сказано не случайно. Как вы помните, карьер расположен среди сопок; вот и «раскомандировка» (другими словами – управление карьера) расположена на одной из сопок на борту карьера. А быткомбинат, управление комбината (в комбинат входят карьер и обогатительная фабрика) располагаются внизу, у подошвы. Рабочих на смену снизу возит машина; горные мастера, которые вынуждены приходить на работу раньше своих подчиненных, предпочитают ходить наверх пешком – по лестницам. С работы обыкновенно все ходят пешком, так быстрей.
Уже темно. Попробуй свернуть в сторону из бледных световых эллипсов – и чёрт знает, куда попадешь! Может, в кучу железа, или в камни, или еще хуже – в воздух, то есть с кручи, а что это значит – вы уже знаете.
Я прошёл по дороге и спустился к лестницам. За месяц я уже привык к ним; хоть и странно, но когда слышишь громыхание своих сапог по стертым и много повидавшим доскам – на душе становится легко и спокойно. И вдруг мой взгляд выхватывает в сумерках чёрное пятно. Что это?
Мы сближались. Он, оказывается, тоже двигался.
Казалось, темнота стала гуще, угрюмее. Да и рядом никого не было, сзади – тоже. Значит, один на один.
«Он» двигался рядом с лестницей, навстречу мне. А я, как будто притягиваемый магнитом, всё шёл вперёд, навстречу чёрному загадочному пятну.
Странный интерес охватил меня. «А если он встанет?» — подумал я.
Он встал.
Невидимый толчок, и я покатился по лестницам. В темноту ночи вплелись пёстрые звёздочки, засветившиеся в моих глазах.
Из пятна, будто откуда-то изнутри, выплыли два желтых пятна и уставились на меня. И голос: «Помни! Завтра последний срок!» Я машинально кивнул, занятый лишь мыслью – не разбился ли я о ступеньки. А когда поднял голову, поняв смысл услышанного, ничего уже не было.
Может, показалось? Как бы не так! Сзади раздался хохот, вернувший меня к действительности. А те двое умирали со смеху: «Гляди, как очаровательно упал! О-хо-хо! Ай, не могу! Слышал, как его кости загремели? Вот это стукоток!» Я лишь улыбнулся, услышав заливающегося Славку, который шёл сзади меня со своим машинистом. Правда, было что-то подозрительно – Макарыч молчал. Видно, поменялись ролями.
На следующий день, хочешь – не хочешь, я пошел к геологам. Вы помните, ведь у меня выходной.
Старший геолог выслушал меня внимательно, задумчиво кивнул головой. «Да-да, спасибо за помощь. Но откуда ты знаешь, что там есть руда? Мы, например, догадываемся об этом, но у нас нет доказательств. Ну, а вы...» — и геолог выжидающе посмотрел на меня.
Холод, казалось, сковал мои руки, но, подчиняясь неведомой силе, они двинулись к карману и вытащили оттуда образцы руды, а из следующего кармана на стол легла бумажка с небрежно набросанными геологическими разрезами «знаменитого» горизонта.
Геолог, впрочем, как и я (!), удивленно уставился на стол. В глазах его, поднятых на меня, блеснуло недоумение...
... Прошла неделя, вторая. Еще одна. Химическое исследование «моей» руды показало ее перспективность. Первое сухое бурение (при продувке скважин применяется сжатый воздух, без воды) доказало ориентировочную правильность разрезов. То есть руда была! И теперь она не пойдет в отвал или в спецсклад...
Как рискнул на такой шаг геолог – я не знаю. Ведь ничего толкового и внятного я ему объяснить и не смог. Но он поверил, проверил. И доказательства стали наяву...
«Где же ты взял это?» — спросил меня тогда старший геолог. Ответить я не смог, мне нечего было ответить – я и сам не знал. Но я твердо знал другое, что в карманах у меня ничего не было. Не было тогда, когда я шагнул в этот кабинет. Правда, я оставлял свой пиджак на несколько минут в коридоре. Минут на пять-десять. Так что же? Или...
Ошарашенный, я встал и медленно направился к двери. Конечно, как же я мог забыть – перед тем, как побывать у геолога, я ходил в буфет, а пиджак в это время, забытый, лежал на стуле в коридоре. Когда я вернулся, он по-прежнему висел на спинке стула. Стоп! Как это висел, если его я оставлял просто перекинутым на стуле? Да-да, перекинутым.
«Куда ты?» — остановил меня геолог. «Я, я вернусь!» — заикаясь, ответил я и выбежал в коридор.
... После тех событий – «вскрытия» руды – геолог искал меня, ведь я к нему после нашего первого разговора так и не зашёл. Но, видно, занятые своими делами, мы так и не нашли друг друга.
... Я выбежал в коридор и ринулся к стулу. Где он? Около стула стоял знакомый машинист и курил папиросу. Задыхаясь, я резко спросил у него: «Давно здесь?» «Давненько», — раздалось в ответ. «Сколько? Как давно?» «Я не засекал!» — спокойно парировал машинист. «Ты рылся в моем пиджаке?» — мой пристальный взгляд вцепился в его лицо. И видно это мне помогло: папироса в зубах моего собеседника дрогнула, он глухо спросил: «Правильно, это папироса твоя. Но я не рылся у тебя в пиджаке, не имею такой привычки». «Но я тебе не давал ее!»
Он тупо уставился на меня и, видно, подумав, что я спрашиваю, а не утверждаю, выдавил из себя: «Не давал. А что, тебе жалко?» Я внезапно успокоился: «Кто же тебе разрешил? — разгадка была близка, где-то рядом. — Так кто же?» «Твой друг!» «Какой друг? — я открыл рот. — У меня не было здесь никакого друга». «Ну-ну, заливай, — понимающе улыбнулся машинист. — Когда я подошёл, он вешал твой – если это твой – пиджак на стул. Я спросил у него закурить. Он ответил, что не курит, а потом, будто спохватившись, обрадовал меня – мол, у моего друга в пиджаке должен быть «Беломор». Ну и угостил. Я закурил, а он вышел на улицу, предупредив, что если ты спросишь его, то ищи на лавке в скверике. Ну там, знаешь...» Я перебил его рассказ: «Что он из себя представляет?» «А ты разве не знаешь?» «Говори! Да побыстрей, время не терпит!»
По описанию моего знакомого он был коренастым, среднего роста, в сером костюме. Однако эти описания мне ничего не прояснили, оставались одни смутные догадки.
Я стремительно выбежал на улицу. В сквере никого не было...
* * *
С тех пор прошло больше месяца. Властной поступью в этот край вступала осень, принося с собой еще более дождливую и прохладную погоду. В сентябрьском небе печально и красиво закурлыкали журавли.
Я взглянул на небо, долго провожал журавлиный клин. Ну что ж, пора и мне домой! Практика, продолжавшаяся для меня почти три месяца, закончилась, и теперь я стоял на остановке, дожидаясь автобуса, который увезёт меня на станцию. А оттуда поезд умчит меня за две тысячи километров, на родину!
До прихода автобуса оставалось еще минут десять. Народу на остановке было немного – мало кому надо ехать на станцию посреди недели.
Вдруг невидимый удар чьего-то тяжелого и пристального взгляда заставил меня дрогнуть. Стоп! Меня не проведешь, мне это явление уже знакомо, но медленно, подчиняясь непонятной могучей силе, я начал поворачиваться.
Пристально, своими красновато-немигающими глазами на меня смотрел парень. Был он коренаст, среднего роста; на могучей шее гордо посажена голова. Ветер трепал его волосы соломенного цвета, которые вспыхивали на солнце почему-то золотистым оттенком. Серо-стальной костюм плотно облегал широкоплечую фигуру незнакомца.
«Где же я его видел?» — тупо вспоминал я, уткнувшись взглядом в асфальт. Вдруг меня потянули за рукав. «А?» Мальчишка протягивал мне камешек. «Что это?» «Это тебе велел передать тот дядя!» — и паренек кивнул головой в сторону. «Кто?» — я повернулся. «А его уже нет!» — растерянно услышал в ответ. На остановке были все, кроме того парня с тяжелым взглядом.
Я разжал руку – серо-стальным блеском на солнце заиграл молибденит. Ведь этот камешек был рудой!
Бесшумно к остановке подкатил автобус.
Где бы я теперь ни был, повсюду я не расстаюсь с тем кусочком молибденита. Ведь его мне подарил Полоз. Разве нет? Попробуйте доказать мне обратное – у вас ничего не получится.
Новые рукописи
- Берегите мужчин! Автор: Шелейкова Нина Жанр: Публицистика
- Утки Автор: Виктор Верин Жанр: Проза
- Долина царей Автор: Крюкова Елена Жанр: Проза
Книжные новинки
- Владимиров А.А. "Формирование микрогеометрии поверхности при вибрационном точении" Автор: Информационная служба РОСА Жанр: Книги РОСА
- Истина Рая Автор: Карханина Валентина Жанр: Книги РОСА
- Монография О.А. Лазуткиной о концепция человека в циклах рассказов Германа Гессе Автор: Информационная служба РОСА Жанр: Книги РОСА
 Видеогалерея
Видеогалерея Фотогалерея
Фотогалерея Аудиогалерея
Аудиогалерея Магазин
Магазин