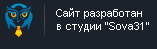Лирическая проза
Дата: 8 Апреля 2015 Автор: Чекусов Юрий
Содержание
1. Бить посуду
2. Деньги
3. Нервы, нервы, нервы…
4. Первый снег
5. Письма без судьбы.
6. Последний поворот.
7. Что ответит ЭХО
8. Я – грузчик.
Бить посуду
Правильно: коротко и ясно – бить посуду. Надо! Надо бить... посуду. Надо... бить... посуду! Случайно, специально, вразнос, вскользь, ударом, плашмя, боком, с размаху и без... Со злорадством и без... Выясняя отношения и без...
Посуда все выдержит. Иль вытерпит? Человек – нет, посуда – да? Бей и круши ее, непутевую, исчадие ада, отгул веков и проматерь грехов... Зашибу! Но все ли так плохо в фарфоре, фаянсе, тонком стекле, глине... Неужто сразу о пол, мордой об стол?
А и заслужило?! Что значит и имеет мертвое искусство пред живой плотью заумно-природной...?
Ничто. Ничего. Чмо. Заумно-бестолковое. Вредное это и ненужное – жалеть черепки, когда судьбы народов и людей распадаются на осколки и чужие бесправные зазеркалья.
Греков рассмеялся. Фамильё у него странное, так и мнится «ехал рак на греке». Но от таких смешинок Греков не стал юморным и дебильным, не хотел походить на шута и бить в бубенчики; Греков был не от мира сего – он был серьезным и нормальным парнем. А уж куда его потом понесло – то не наша забота; но «смешинки» Грекова удивляли и вдохновляли потом многих.
Когда Греков был студентом, посуда его не интересовала, не забавляла и не радовала. Но стоит оговориться, уже входила тогда в моду блистательная хрустальная эпопея в квартирках и мирах людей росс-сов... Да чего с Грекова взять? Не приучен пить финскую водку с кобальт-стекла...
Иногда Греков-студент попадал в мир иной – то есть к своим однокашникам-студентам, но живущим по правилам, при маме-папе-бабушке-дядьке. Поражало, удивляло, восхищало! Разносброд фигурных царских и заграничных бутылок, питие при них, и, конечно, отсутствие граненых стаканов. Последние Греков умозрительно уважал из-за своих родителей и своих пятидесятых годов!
Ах, где мне взять такую песню?
Граненый стакан, под ребро – 200, по горлышко – 250 грамм! Изобретение самой Мухиной и нашей ненасытно-ненаглядной Родины конца 30-х... Вплоть до 50-х. Малиновский стакан – весь в рубчиках мелких, будто архитекторы не были уверены, что сей стакан не удержит обитатель 50-х СССР-а – не пользовался уважением сей продукт из стекла в народе. Тем более, после 45-го пришла алюминиевая жестяная кружка, дань фронту, нищете и победе.
Не до посуды – быть бы живу. Пром-шлёп, спасибо им, на всю страну и на долгие годы вперед обеспечил боезапас для едоков простенькой, удобоваримой, легкой и добротной посудой – ложкой, вилкой, чашкой; из «люминия», чем раньше жрали короли, и из дур-алюминия, все проще для отечественной индустрии.
Уходят прошлые и тяжкие годы!
— А что, маман? Аль ложки не те?
— Ты посмотри, сынок!
Греков «посмотрел», понял, ухмыльнулся.
— Нержавейку, мать, желаешь? Я не ошибся...? И то не грех. Быстро ты настигла гон 60-х... А ведь не забыла поди еще ложки липовые и глиномиски, да?
— Есть мельхиор, нержавейка, серебро...
— Мать, чудес на свете много! И будет еще. И то ли еще будет!! Пожалей себя.
— А вот, сынок, соседи уезжают, предлагают по дешевке хрусталь... Че не взять? Ведь охота, чтобы все как у людей у нас было, да? Отец не возражает.
Да, еще бы отец возражал! Он, ветеран и инвалид Большой Войны, никогда не лез в драку со своей женой, даже по минимуму, а «максимум» вкладывал в своих Грековых-потомков.
— Отца, мать, еще раз хочешь обтрясти?
— Но не все же ВАМ и для вас. А мы?
Возразить Грекову было нечем.
Жизнь гребла, бодро и весело, навстречу светлым годам коммунизма. «Скоммуниздил чего-либо?» — спрашивали знакомые. «Не успел я, значит – другой».
Все были счастливы и радостны на закате мечты великого СССР-а. Пока было все – бесплатное образование, здоровье; платные деньги пусть даже при полупустых прилавках; карьера и рост профессионала, работа, долг гражданина.
— Слушай, Греков, мне нужен простенький чайный сервиз.
— Ну и бери себе на здоровье. Со старым что – исхудился, в чае пропил, аль поломался от нужды?
— Во-во! Моя мне такое сказала... Я ей извернулся ответить... Она мне блюдцем в лоб, потом стопку об пол, чайник об дверь, сахарницей промахнулась...
— И ты ей в лоб? — догадался Греков.
— Не! Я остатки чайного сервиза об пол, во!
— Н-да, тяжко!
— Так ты достанешь нам посуду?
— Кому – ВАМ? Бешеным? Не держащим мочи или мощи? Я же не блатной все достать, да и проживать здесь начал только-только, чуть...
Странно, но Греков никогда не раздражался на посуду во всех ее ипостасях. И не имел привычки отрываться на ней. Достаточно того, что посудой швыряют посудомойки в ресторанах и домашние хозяйки дома. А его, Грекова, отец на фронте, после скудных каш в котелке, даже перед атакой или в междоусобицу драил свой котелок от засохшей каши травой и болотом... Ибо знал: буду живым – снова жрать захочется из приличного, своего русского и никак не из немецкого, трофейного, так неудобного котелка. А ложка вот она, деревянная, за голенищем сапога.
В студенческих дешевых столовых на столах в те былые времена стояло все, что так до сих пор восхищает Грекова. Под чудо-стеклом стояли в малых «крохоборах» абсолютно бесплатные горчица-соль-перец. Был и уксус, а во времена свирепого гриппа полагался бесплатный опять же лук и хлеб. Ну чем не жизнь! Студенты потихоньку таскали из столовой до своих комнат ложки, стаканы, потом так же тихо возвращая посуду на место – или же шла по общаге жестокая столовская ревизия, и уж здесь пощады не жди.
Нищета столовая канула в лету.
Раскрыл поселе клюв двуглавый орел.
Но вот до него у Грекова хватило странностей о посуде. Ее он любил, не до восторга и трепета, но вынужден был уважать как таковую и сильную противницу (противнючую)... Уж лучше бы соперник! Когда Греков-младший, поумнев чуть годами, подкрался до своего отца «А ты мать любишь?», то получил коротко и ясно в лоб: «Уважаю».
То есть... Греков? Что зачумел? Любит – не любит? Однолюб, что ли, отец? Или вцепился в нее, будто она осчастливила его...
Тут надо разобраться... Значит, так – ! Впрочем, к посуде сие каким боком? А вот Греков помнит за свои младые годы странствий со своими родителями деревянные лавки, чугунки, ухваты, липовые ложки, жестяные кружки, керамические и глиняные плошки... Да разве мало ли помнит неблагодарный детский мозг.
За свои 15 лет после институтской жизни Грекову пришлось «нахлебать» много переездов... Переезд – два пожара, так гласят. И вот тут посуда отыгралась на нем так, что он зауважал ее потом на всю оставшуюся жизнь... Когда он ее, молодой и недавно женатый, заимел, он стал ЕЕ уважать: не баклажка все ж студенческая, не свинченный стакан и не пропащая алюминь-ложка... Что-что проснулось, не уснувшее, в душе Грекова. На следующей «переправе» крутой женатый Греков задарма «продал» тогда сверхмодную зелено-дрянь (красива!) дорожку, цепляющую все, что не лень, кучу стекло-бокалов (им потом цены несть!), кровать металлическую почти новую (сетчатую, а не панцирную), стол-тумбу кухонную... Впрочем, тумбу и кровать он бросил без денег – ему (и его маленькой семье) надо было хоть «что-то» напоследок перед отъездом – поесть где-то, уснуть... Его женщины спали перед отъездом на полуголой кровати, он дремал на голом полу (стол-тумба оказался коротковат, и оттуда с грохотом он свалился, чем разбудил свою любимую пока еще миниатюрную дочь.. Свою любимую, суть свою!).
Да то речь не о потомках – о посуде красивой: тонком стекле и толстых 250-граммниках.
На следующий пожар – а они, кстати, разные: долгие и длинные, короткие и разные, расписные и фигуристые... Темный лес в дремотье пожаров таежно-сиб-Урала. Так вот, на следующем «пожаре» Греков «утопил» на Урале десятки трехлитровых банок (которых ему потом не хватало в его благодатном будущем Черноземье!) и кучу ДСП! Когда он грузил пяти- и трехтонник (он-то, грешный, думал, что в пятитонный контейнер все влезет), то в другом, малом, уже не хватило места под 3-литровые банки и даже вроде как под фикус Россо-Мехико. Этот «Рос-Мех» выжил в трехнедельной глухой могиле контейнера – и как над ним потом трясся Греков, молясь и веря в его удачу... Кактус сей долго жил, фигу показал кому надо своими комочками.
Страшно! Страшно бросать своих зверей, растения... Ведь душу вложил, аукнется.
Любил. Возлюбил для чего-то он, Греков, посуду. Пусть и не особо разбирался в виноградово-росфарфоре...
Широк мой Дол! И Киев тот старинный. Не пропадет Русь, издалека начавшись.
Греков... Бедный Греков... То ли ты был дурак (ведь ты ж не говоришь, что такой есть), то ли... Зачем тебе чужая сторона?
А Греков доволен, как российский недоумок 90-х, как свинья украинская начала XXI-го... Вот только он с ними не был согласен... У него – свое!
Греков сейчас уже и не помнит; он ли все делал, или с подсказки своей украинской жены... Он ли рвал мимо кассы, или жена ему мимоходом и ненавязчиво подсказывала?
Потом. Уже потом все провалилось в доску (на Урале: береза, сосна, пихта, лиственница... На Украине – знаем! Знаем!! Знаем...!) А вот Греков тогда не очень знал, но хотел знать. И попадая туда, Греков попадал в мир иной.
— А поехал бы ты в Жмеринку! А сдал бы ты бутылки из-под «Нафтуси»! А не хочешь ли ты с моим соседом перекрыть шифером сарай?»
Я все хочу, я все успею.
Теща моя, я страшно уважаю вас.
Вы уж извините, что не называю вас «мама» – не могу, Вера Феодосиевна.
Грекову наконец-то подбрасывали посудный «шанс».
Вначале, на Урале, это были черепки со стоянки древних людей, потом вот проявилась Украина.
Да провались оно все пропадом. Греков редко был, но подолгу, здесь, на месте... Да и, кстати, не отсюда богатырь родом...
Может, предки зовут – вековой давности и дальности?
И Греков, буркнув теще, жене, дочери: «Иду», шел. Они не останавливали.
Бар, Жмеринка, Поповцы, Копайгород, Шаргород, Гнивань, кто еще? Местные украинские городки.
В Баре взял шикарный чайный сервиз – стоит!
В Жмеринке – не раз туда шарахался: кувшины изоцветные – где они сейчас?
И снова взял при Баре – синенькие и красивые полукружки (уже не осталось...)
Четко и зло вложилось в последующие неприятные и поганенькие годы: что-то еще?
А вы знаете, как нас встречали в ЦУМе города Винница времен СССР? Любого! Говори хоть на английском... Уж не говорю про русского или местного сельчанина. Тогда все мы чувствовали себя людьми, незабвенными.
Ты, Греков, чуешь?
Жмеринское – витое по хитрым стекло-крутоярам... Хитрые кувшины и их извороты... Остался последний битый на даче. Где все остальные? (таких уж нет...!)
Глетчики, макитры, миски, кувшины, красивое красное стекло, фарфоровые дивчины и парубки... Закончились, что ли?
Извините, подвиньтесь!
Сколько пришлось постранствовать Грекову – уму непостижимо. А ведь русский он, Греков, гордится своим Каменным Поясом. Еще бы!
Но ведь на то – и увидавши. Да и познавши. А оттянуло его чуть дальше, да вглубь, да в иные стороны... Большая Россия, идти и ехать долго.
Вот он, Греков, оттуда и родом, то ли быль киевская, то ли сила московская...
Греков любил ездить в Жмеринку, любил привокзальные магазинчики и маленький местный рыночек, почему-то даже не зная, за что уважает Жмеринку, ее узловую станцию... И при всем при том не понимал их параллельный мир – Шаргород...
Оттуда – и куда...! Греков вез «барскую» посуду, жмеринскую «стеклонить»; поповецкую «глину», винницкие «Статуи»... Вот только жалко что все сие загибло при разных переездах. Что осталось – Греков над тем дрожит.
На кухне он завинтил навесной, даже два шкафа (точнее – полки)... Годами висели, ну а потом рухнули прямо на глазах Грекова.
Греков рычал от бессилия, когда держал плечами падающие полки... И вокруг все отзвенело от 70-х... И он ничего не мог сделать, не было рядом никого; да и если бы были – ему же в укор горький.
Потом, при очередном переезде – переездах брошены были холодильник, старая стиральная машина, цветы, банки, мебель. Зато обзаводились новым кругом и гостями: по старинке – идешь в гости и в ус себе не дуешь, все будет; уже позже сложнее стало: поперся в гости – тащи с собою выпить и закусить, покурить на «халяву» или на авось не покуришь, но зато имеешь все шансы сожрать каплю риса из огромной хрустальницы и повидать слайды Парижа.
Хоть и холерик Греков, но они почему-то с женой при разногласиях не били местного производства или же японские тарелки, и все равно мало их осталось – японских, барских сибирских!
Нравилась им, бывшим студентам нищим, царская и красивая посуда. «Немца» и «Виноградова» Греков зрел в музеях; жене его вообще было наплевать на чудеса, кроме барских и житомирских... А потом она еще, молодец, взяла на последние деньги сервиз – суповой набор... До сих пор щи уральские, борщ казенный и окрошку луковую хлебаю с него; что мне нравится – в фарфоровой крышке большая прорезь под поварешку, млею не хуже гурмана и Сталина. Ну, в общем, моя мадам угробила свои деньги на сервиз, и мы сосали лапу с полмесяца... Дальше она поклялась, что возьмет еще красивей сервиз! А зря, что не взяла, сам не удосужился, так и остался при одном. Однако, не так уж плохо.
Любил Греков, что греха таить, ходить в гости. Молод был, крут и жизнерадостен. Чуть только из командировки всякой там мелкопакостной по заводам «своей» Новой Западно-Сибирской губернии, так и к жене пристанет, как банный лист. Красиво Грековы жили. Если его дома нет, то непонятен он, а семья его – при памяти: жена уважаемая и дочь подрастающая... Чего уж тут пожелать?
Уже потом, сменив «чудо на чудеса» и закруживши в геологии на долгие годы, Греков вез домой «все почем зря»: рыбу, консервы японские; шикарные вины, ювелирное, местное. Привозил оттуда и никому не нужные и бестолковые мини-чашки «кофе», огромные и бестолковые поделки манси; резьбу рыба-кость-морж.
... Местные его любили, не брезговали им, человеком белым, и спасли даже раз от погибели и дважды вывели на правильную дорогу. Говорили: их наказали десятки лет назад, за что – они не знают, их шаман давно почил, и они не знают – хорошо это или плохо?
Вокруг цивилизация, последняя четверть двадцатого века – а они... дети малые. Люди тундры и тайги... Нам бы такое.
Если Греков сам странный, так и его жена должна быть странной, да? Так ведь? А вот и нет. Не бывает среди двух умных людей придурков... Уж Греков-то знал про себя и особо точно – он не из этой породы. И быть не должно. Жена, прошедшая огонь, воду и сибирские трубы – до поры не предаст. Уже потом... Женщины они и есть женщины, не родная кровь, седьмая вода на киселе... Дочь – да! Прямое попадание, если твое!
Не успел Греков подрулить домой из одной своих муторных командировок, выбора у него уже не было. В гости! Рядом. Все взяла! А дефицит, закусь и я? «Все, вперед», Греков!
Греков вообще-то человек покладистый, еще пока не скандалист, хоть и бестолково упрямистый... Не таких ломали?
А что, бродяге понравилось! В гости так в гости. Закуток, отгороженный от тещи массивным шкафом – чем не гарантия счастья и утех от одинокой старой женщины, так гордящейся, что и она была в Париже... Это еще по тем-то временам.
В те далекие времена начала восьмидесятых годов удивить можно было многим. Удивить – что и почему, зачем? Греков, небогатенький человек, разинул рот.
Стол в закутке блестел хрусталем. Близ крутого хрусталя, высокого и недоступного, вершилась недоступной башней бутылка их вина, и в хрусталях таяли по три ложки вермишели.
Вот и все!
Когда Греков пришел с женой из гостей, он жрал на кухне часа три. Жена не возражала.
Они посмеялись, ухмыльнулись; «шеф» отъелся и обнял свою «нехрустальную».
Что? Хрусталь?
Чешский? Кобальт? Стекло?
Туда, в те времена, сваливали деньги.
Сейчас – в золото.
Но так как не было тогда хрусталя, и был он – издержки, дефицит, то...
Правомерно, когда в квартирах и их «стенках» блестела мечта – хрусталь!
Заблестел он и у Грекова. В те старые времена. Как это ни странно, заехал он как-то по малым делам в сельхоз-академ-городок и взял одну шикарно-резьбовую стопку... Не... Даже две! И подарил их своей жене. Одна при переезде где-то разбилась, а вторая – как ни дорожили они ею оба – потом; кстати, разбить тяжелый хрусталь не так просто. Но все равно – справились.
Тем более шел наплыв правильного и эрзац хрусталя. Поперло!
Вместо зарплаты – бери хрусталь. Порой даже не «просто гусь» – Гусь-Хрустального завода! И вот тогда, при конце двадцатого Великого века, Греков обогател?! И попер ему хрусталь, телевизор цветной, шуба женская, мелочи домашние... А потом за три цены из магазина фабрики кролик копченый, уксус, икра баклажановая, колбаса. Вот только чем оплачивать коммунальные расходы – вопрос, мало наличных денег и зарплату выдают в большинстве по принципу бартера – шило на мыло, я тебе то, а ты мне вот энто, чем богат.
До сих пор – и правильно – Греков не может без содрогания понять: зачем он бросил, как вещи ненужные или продал же их за пятак своим хитромудрым соседям, все те же дорожки, стекло-посуду...
Когда Греков обосновался где-то в Центральной российской Европе, чем так возгордился, бог его и лаптем российским наказал: средь бела дня, никого в округе, рухнули на него, Грекова, две метровые болгарские полки со стеклом (которого потом с огнем не найдешь!). Он, Греков, горбатился еще, пытаясь хоть на тормозах спустить «оное», но рушилось все «его», и не было спасения и помощи. И тогда он понял, спустил свои плечи из-под дерева полок – и все обрушилось вниз!
Это было на кухне, без свидетелей.
С тех пор Греков не зауважал кухню подвесную, осколки и свидетелей.
Да, попало!.. Жестко... ему! Жена наехала так, как будто весь их мир потух.
Может, права была? Вроде – память... стекляшкам этим, уже не имеющим большой цены против наступающего хрусталя? Страшно стало. Не за нее – не за жену и не за «хрусталь»... За себя.
Ты кто? Ну конечно не конь в пальто.
А вот видишь, как удачно тебя брякнуло – прямо по темечку. Уразумел? Понял? А пошли вы...
Много переездов предназначалось бестолковому Грекову... Значит, грешил, огрызок мира?.. Значит, понял, кто ему не бог, не царь и не судья...
Добьемся мы освобожденья
Своею собственной рукой!..
Париж! Европейский хрусталь! Чешское стекло!
«Потом» все это было и стало у Грекова, потихонечку занимая полки. К гостям ходил – в 70-е на халяву, позже – со всем готовым и уже не в радость... Потом, еще позднее, гость времен ельцинских становился в тягость при скудности госказны. Незваный гость хуже татарина, так говорили уральские предки Грекова (они что, знали монголов?).
Мать Грекова, помесь русского с башкиркой, была мудра и башковита – при ее глубоком сиротстве, четырех классах образования, после голода 30-х годов она составила счастье бойцу-одиночке после войны.
Да, впрочем, все-то мы не о том... Посуда бьется – жди удач, не плачь, красавица, не плачь! Знакомо? Да и когда у жены Грекова выпадала из рук случайно тарелка вниз, Греков почему-то усмехался и гладил жену... Не очень понятно для чего.
Много тарелок было в жизни Грекова. Видал он, когда в семье билась иногда и неправильно красивая посуда из дальних мест – с Сахалина, с Ханты-Севера, с Западной Украины, с Молдавии, из Японии и Китая.
Но все ушло. Как с белых яблонь дым! Остались графские развалины, и тогда вспоминается сказание о рыбаке пушкинском...
А знаете, я хоть и плохой археолог и не могу привезти со своего Урала древности, да и ту же красивую посуду – грешен, виноват, – но да и у нас были древние стойбища, татары, Колчак и гражданская война, сороковые «наждачные» годы.
Посуду Греков любил и уважал. Особо – древние глиняные черепки с фигурками странными... И посуду, черепки, кремниевые копья, жала, скребки! Кремний, синий, жесткий и крепкий, камень с простой формулой Менделеева как SiO2 – кремнезём. Ну?! Гну, так делал кто те изделия?
Н-да, посуду все мы любим и уважаем. А ежели без труда в «нее» вложить что-то и потом?..
Ранее, за неимением толкового и правильного сырья, во времена Древних Рима, Греции, Средневековья годилась вся посуда. Не ведая от нее страха. Применяли свинцовые трубы и медные кружки – не доживали и до сорока лет древние герои!
Бронза, слава богу, не травила своих героев и воинов.
Медь вредна в посуде, но доступна и нужна в древних доспехах – посуда медная, доспехи те же, уже потом были бронза, алюминий!
Безгрешна глина. Керамика. Обычное стекло (знали венецианцы?). А на Руси забыли, что ли, древний рецепт про «гусь-хрустальный»?..
Греков как дурачок. Все смеется и ухмыляется. А и то не может, своим ухом-рылом понять, что не так уж глупы были и есть люди российские!..
В гости к Грекову, оказывается, в те далекие годы последней трети XX-го века, часто напрашивались... Зачем?
— На халяву? Ибо добр был он.
— Не поймет? Не разгадает.
— Кинуть? Делать «это» побаивались.
Не-е-е... Мы к нему гуртом, кучей и оптом – всех примет, грешник, и обогреет, за ним не заржавеет.
Вот так и шел Греков, непобедимый и недовостребованный. Непробиваемый! Это вам не халява, не казенная жизнь, гражданская.
Пистолетом Чиф там не махал, и руки его... Случалось, скручивали; и стрелял он метко... по целям; пригодилось, однако, выбивал «от и до».
Сам выходец с Урала. Значит должен знать Бажова П. П. и его «Малахитовую шкатулку». Видел и наяву ЕГО серебряное копытце? Впрочем, кто из уральцев не знает Бажова... Разве что забыл Гайдар?
Знаете, Греков увозил в свое время с Киева, Бара, Жмеринки такую посуду!
Что и не снилась в Бухаре!
(Не был он в Бухаре – мечтал там быть, в гости приглашали, даже билет лежал в кармане)
Многое потом рухнуло на его «несчастные плечи», обрушились внезапно и полки на кухне.
Он не дрогнул,
Стоял как Атлант;
Не скулил, выгребал, держал
И рушилось вокруг!
Будто остались вокруг только древнегреческие и римские руины.
А мне плевать охота!
Ну и плюй!
Против ветра не попрешь?
А мне гулять охота!
Ну и гуляй...
Кто ж тебе мешает, хозяин-барин! Рванина духовная...
Посуда бьется – жди удач, не плачь, красавица, не плачь!
У него, Грекова, сейчас скромно в баре – так спокойнее: две водочных рюмки – стопки на 30 грамм и на 80 – пей, варьируй, крути-крутись лихо, в два оборота; есть и пивная кружка, есть хрусталь под минералку... Остальное загнал в «стенку» – зачем излишние заботы; вот придут гости «долгожданные» или «татарское лихо» – и кинем тогда на стол до звона хрусталя.
... Скучно без радушия российского и ныне скопидомства рос-демократического! Раньше, глянь, все люди – звери, а сейчас все звери – люди! Раньше – да, Греков? – маёвки, под 7-е – силком толкали и люди орали «ура» под звон стаканов в подворотнях – сейчас там в глухом переулке и татя не найдешь! Подмерла святая земля...
А какие люди были!
Богатыри! – не вы!
Посуда, конечно, ранее была! – нам ужо такая не по карману. Раритет. Зато сейчас – гребем хрустальной лопатой, забывая про ухваты, чугунные котлы и сковородки, глиняную утварь и «красный угол», куда били поклон при входе в дом (но ныне Церковь богата – бьет наклоны в сторону прихожан). Греков видел купола с крестом в 50-е, 60-е... Зрит он и сейчас – в XXI веке! Богатеем. Нищенствуем. Умом и складом. Историей и богадельней. Теряем душу как будто ненароком и случайно бьем от стекла до хрусталя с примесями...
Когда Греков бросал Златоуст и перебирался в ближайший областной центр Курган, он был вынужден оставить несколько десятков трехлитровых пустых банок – в контейнере места им не было, а и горевать вроде бы тоже не было о чем... Загоревал он об этой большой утрате лишь после следующего перегона на своем жизненном пути, Курган – Ст. Оскол, где так хорошо все росло, воткни в землю – и через пять минут в Центрально-Черноземном Регионе (не путайте с Центральным Регионом) будет все расти, от арбузов и дынь и до... Умей только и успевай быть юным мичуринцем! И тогда Грекову все до жути понравилось, и он успел завести САД Мичурина (а настоящий совсем же рядом, оказывается, в Воронежской области). Слали нам семена и саженцы и с Украины, «оброк» брали морозоустойчивый с Урала... «Посуды» стало не хватать.
Да и речь-то, впрочем, не о том... А о любви!
К посуде?!
Когда родители Грекова на Урале «повымирали» как мамонты, старшим «головой» там осталась его старшая сестра Тамара. Правила круто и правильно, карала всё и всех соседей... Слава богу, нам, ее троим братьям, жившим очень далеко от нее, не очень-то досталось... Мы ее любили, верховодилу в детстве.
Греков спросил как-то ее, свою сестру:
— Тамара, отдай мне «этих медведей» с отколотыми лапами, что звенят запчастями в их «пеньке-футляре»...
Она спокойно ответила, и ответ ее он знал... «Это не твои медведи... Наша мать подарила их твоему старшему брату к его дню рождения...» «Но это ж было ох как давно и неправда – дарить «медведей» нашему Михаилу-брату на его 12 лет?»
Только когда «успокоилась» мать, а через шесть лет и отец, Тамара-сестра отдала приказ после ее смерти передать «Михаилов-любителей малины» обязательно и лично в руки... Грекову, минуя права и законы нашего старшего братана и её (т.е. моих племяшей) детей.
Что уж она хотела... Хранительница нашего чадящего уже очага... одному Богу известно. Но лишь только через год после ее смерти он побывал на могиле своей сестры, и –
«Мама сказала передать эту статуэтку медведей тебе лично и обязательно в руки!»
Конечно, он склеил на клей БФ поврежденные когда-то лапы и ложки медведей... И удивился: а почему никто ранее не обеспокоился за 50 лет о «фамильных медведях»?? Что, с отбитой лапой и без ложки проще жить?
И еще одно почему-то вспоминается: уж чего-чего, а у тещи Грекова был ТОГДА большой выбор всякой разной посуды! Судьба или черт Грекова занес в 80-е годы в ХВАКУ (Хмельницкие арт-курсы), и он вырвался в увольнение под 1-е мая до тещи (тут рядом до Винницы), сгоряча нахватал довольно неплохой и обширный кофейный набор в подарок своей любимой теще – она еще поворчала на «далекого» любимого зятя, но осталась весьма довольной.
И вот, через несколько лет, а буквально – в ее год смерти, из ее обширной «посудной лавки» остались лишь пустые полки. Не ведал бы – не страдал, но когда много знаешь...
Любил Греков с Северов привозить домой посуду – от мини и хитро-заумной до загранично-японской... И надо же, за тысячу километров почти всегда привозил ее целой, невзирая на «ту – не ту» упаковку посуды тех далеких странных лет...
Греков никогда не был ценителем и сторонником «ее величества» посуды. И даже когда ему на голову рухнули полки с «раритетом» – он все же потом успел перед семьей «отмазаться» за «стеклянный грех»... И долго плакался потом сам перед собой про старое цветное стекло посуды и тонкие разнообразные фужеры... Сейчас дрожишь даже над граненым «мухинским стаканом» и граненым «маленковским»?
Оба стакана – с точно означенным пояском, и любили пить из них все – от 30-х годов до 50-х... Ну конечно, прошлого, и так уж далекого и ушедшего в пропасть для Великой России XX века! Но знавали и МЫ, послевоенные. Тоже не лыком шиты, стаканами не испорченные, да и «Красной Звездой» – папиросами балуясь!
Согласен с Окуджавой.
Впрочем: а причем здесь посуда и Окуджава?
А при том, что пошло все на «распятие»: раньше – слабо, а сейчас тем более ни-ни. Многие уж забыли с какой стороны в церковь входить и как оно там... Так неужто прочие от XXI-го вваливаются в жизнь вкрутую... Да быть такого не может!
Не поверю...
Осталось же что-то в этом мире святое, если уж не за советский народ, то за кого ж должно оно быть?!!
Эх, умели мы раньше строить церкви... Государственный и «яичный» до них подход был: раствор для кирпичей лепили на яичных желтках – и веками стояла Праведная Русь!
А виноградовский фарфор?
А глина наша русская, бело-богатая (... и название забыли? Каолин!), не чета еврам!
Но да прощайте, люди-русс, прошлые и настоящие, что бились в стекле и глинах на своих знаменитых Гусь-Хрустальном, заводах и мастерских – все-то вам зачтется:
пред нами;
при нас;
и на потом.
Посуда бьется – жди удач?
Вот только зеркала не бейте...
... В августе 2014 года 9-й Винницкий батальон карателей разгромлен Народным ополчением Юго-востока Украины... Это – через три века после СМУТЫ 1612-го, спустя 100 и 75 лет соответственно после начала I-й и II-й Мировых Войн, через 23 года после выхода из состава СССР. А 70 лет назад Киев был освобожден от фашистов Советской Армией.
ДЕНЬГИ
I. Военные алименты
Пришла как-то женщина поплакаться перед военкомом. Седоусый полковник внимательно ее выслушал.
— Мой муж все еще платит за автомат, некогда утерянный в рядах СА...
— Понял, мадам! — полковник одобрительно крякнул. — Поверьте, он – не сволочь... Я воевал в Той Большой Войне, а жена моя знает, что я до сих пор выплачиваю за Т-34, потому что он утоп, или сгорел... Я танкистом был в войну, механиком-наводчиком, потом командиром танка, был на Прохоровке... В общем, в общем... Как шарахнуло наш Т-34 под Одером... Берлином, до сих пор не могу расплатиться. Вы уж, мадам, поймите своего мужа... Он кто? «Афганец»...? Я посодействую вашему горю. За свой танк еще не рассчитался, но за АКМ – уж как-нибудь!
Это – анекдот. Былинный. На том и стоим. И горько посмеиваемся. Не все такие, только великоросс: беду поймет и обоймет руками. У других нет такого: обоймет руками, отведет беду. Только у нас - «отсталых российских полуазиатов» образца XIII-го... Да и так уж мы были глупы по тем нынешним «мифам»... Если корни вели свои аж с VI века сарматско-скифского... Древняя Русь! Ну а уж потом – держитесь, вороги!!
Что вам понравится в этой истории – так это сказ дальнейший. Анекдоты – хорошо, конечно; быль – еще лучше! Сказки – прекрасно!! Но явь? Явь – самое лучшее и неблагодарное в этом мире.
Мог бы и промолчать тогда на суде... Гражданский суд же шел над тобой...
Обвиняемый: имя – Геннадий... 26 года рождения. Иск – от его матери Натальи... года рождения...
Для «будущего зека Гены» запахло грозой – не криминалом, эхом войны 45-го... Обвиняемый, нет, по-другому – искомый; а его мать Н.Б. – угнетенная им, своим же сыном? Клин.
Как тут не вспомнить запрещенного Есенина 30-х... Когда и грамотешки маловато было у многих перед 41-м.
Да не судите.
И не будете судимы.
Ну, в общем, бедному Генке, одному из шестерых, грозила судебная кара алиментная... В пользу его матери.
Судья, полуседая женщина, спрашивает. Генка, прошлый старший девятнадцатилетний сержант особого батальона, и тогда-то не успел научиться улыбаться... А на суде – страх взял!
За что?
За что? Зачем угробила похоронку на своего мужа, моего отца, погибшего под Ленинградом в 44-м... Почему ты не хотела знать моих четверых детей... Хотя, конечно, внуков у тебя хватало – но я же не лез к тебе, своей матери, за сочувствием и помощью! За что ты проходила мимо моих любимых детей и не хотела понимать мою будущую нищую жену??? Ведь и я не богат... Не царь морской... За ранения и награды еще платили; когда-то, пока один хитрый наш правитель не решил: хватит, побаловались и будет! Спасибо, что ПОТОМ вспомнили красным числом 9-е МАЯ.
У-сунемся в даль светлую... послевоенную.
Генке повезло. Так трахнуло, что и костей не собрать. Впрочем, может слишком жестковато сказано. Но без нижних костей точно остался... Его по жизни потом обозвали, С Большим Уважением: Одноногий, что не сидится (на месте)!
Генка, 17 лет, прошел и ухватил с 43-го все, что можно и пожелательно... Его год был последним официальным призывом для Большой Войны... Он успел, отхватил... Генка у своей матери Натальи был первым, старшим в семье...
По молодости он ее оберегал;
после войны помогал ей вещами и продуктами;
построил дом – ей, только для нее.
Малые детки – малые заботы.
Старичье – очень громкие заботы.
В общем, горько, свершился суд над Геннадием... участником ВОВ и инвалидом, отцом 4 детей.
— Скажите, вы оказывали материальную помощь своей матери?
Это судья – Геннадию (Генке, обвешанному медалями и орденами, на алюминиевом ножном протезе).
— Да. Старался.
— И есть данные о переводах денежных? Квитанции??
Не вытерпела тут уж его жена, Геннадия... Она женщина была простая, четыре глухих класса образования и волки в сумерках. «Есть! Есть бумаги. Хранила от своего Геннадия. Вот они! Он все отмахивался, орденоносец...»
Орденоносец... Вот только не знал юный Гена и крутоярый Геннадий Евгеньевич, где все ж его «подстрелят»...
Странный судья...
Виноват, странная седая женщина-судья.
— То есть вы высылали ей, Наталье Б., ежемесячно двадцать рублей, так? (Это – по тем временам, деньги брежневские, периода с 1961, очень неплохие – сродни половине для пенсионной колхозницы тех времен).
— Да.
... Суд приговаривает Геннадия Е. к алиментам по отношению к своей матери Наталье Б. в размере 5 рублей ежемесячно...
Учитывая его детей, инвалидность... И? Вот так завершилась очередная эра далеко не праздника для бывшего солдата...
II. Стипендия
Сыны у Генки – заматеревшего после войны старшего сержанта ОБОНа – ой-ей-ей! Что надо были.
Среднего хотя бы взять, для примера. Для пристрелки, точнее, как мы говорили, когда били по квадратно-минометным целям. Миномет – это ж не пушка, бах – и прямой, пусть и далекий, выстрел; миномет тем и хорош, что стреляет и лупит пехоту в окопах, в квадратах наступления, за горой, на высотке и... И когда завоют в ответ тяжело нудные немецкие большествольные минометы – держись Паша-Гена-Иван...
Да мы ж говорили совсем не о миномете, и даже не о Геннадии Евгеньевиче... Сын его средний что-то хотел сказать, кстати тоже о «деньгах». Ну и говори, потомок Гены.
... Когда я начал учиться в институте (для страждущих – сверьте курс... год 1968), стипендия составляла собой «прекрасную сумму» – не сдохнуть и не выжить, и все равно это была хорошая стипендия для горняка-первокурсника в размере 37,5 руб. (мой старший брат имел 19 руб., моя будущая жена в горном техникуме – примерно то же самое). Я не знаю, какие сейчас стипендии, да и есть ли они на самом деле... Простите.
Но у нас потом сделали 42,5 руб.
Стипендия выдавалась обычно точно в срок, а именно 21-го числа с Большой буквы. Дипломникам – возвели до 55 руб. Чем не жить? Иль жить не можно? Невозможно в чем??
Первые полгода института я боролся с цифрой 37,5. Долгов не сделал, счастливым себя не почувствовал. Нужны и надо... Крепился: тетради, чуть шмотья, ни-ни проблем, ноу развлечений, да еще покуривать стал.
Братишка мой подрос. Мы все погодки – через два года. И он кинулся, по моей же опять наводке, в горный институт.
А куда же, если ЗАБИЛИ ему «буки»? Младшой хотел быть «спец-радио» и художником, но явно не геологом и горняком. Но ведь и я хотел быть геологом, потом захотев стать журналистом. Старший братан – ... А и не знаем, сдохла мысля...
А наша старшая сестра – нянька, это мы трое потом, после нее.
Накладка была в Семье «Гены» жесткая – не приведи господь! Чуть не уморили голодом старшего с его 19,5 в техникуме... подваливает средний – еле выдержал полгода... Потом катится в горняки самый младший...
Напряглись. Долго. Родители и старшая сестра надрывались. Конечно, пришло время, когда и у меня самым натуральным образом отняли мои большие деньги...
Я не знал студенческих сентябрьских каникул. Я оставался, меня «там» ценили здорово как замену (летом – все в отпуск, да? Студент годится?.. Я годился). То было в 70-ом на Балхаше, в 71 на Соре Хакассии (в переводе для горняка: медь и молибден).
Счастье я личное проспал, вовремя, как другие, не женился... Ну так работай, зарабатывай себе на трусы и майки!
Почему в сентябре я еще оставался?
Мне предсказали: если «дотянешь» – будет оплата-зарплата сдельная. Была. Пересылали. От больших денег я чуть не рехнулся, потом и кровью мною добытых. Но мне они не достались... Эта огромная по тем временам сумма...
Долги, оказывается, надо все же платить. И не важно, в каком ты «королевстве» находишься – в Балхашском, Сорском, Озерском.
... Я заплатил сполна, с тех пор возненавидев всякие разные рваные графики «работы» и свои «долги».
Да неужто стал самим собой – самостоятельным?
... Долго ж ты, однако, непонятливый, шел до пути истинного...
Для того, чтобы ее средний сын учился, жена Геннадия Е. (имеющая за плечами довоенные 4 класса и не помнящая детства после гибели в 32-ом своего отца) вместе со своим мужем (и плюс их дочь) стала высылать ежемесячно:
– ему,
– потом им вместе (младший-то «забрел» все ж туда).
По 35 рублей («брежневских»). Каждому.
Стало уж, ух! Полегче! Спасали и помогали вечные «халтуры» – выгрузка угля, резины и р-р... В общем: ночью – дела, днем – спишь на лекции, вечером – думаешь «а зачем?».
... Тогда мать работала уборщицей, чуть ли не на три ставки...
Вам этого не понять.
Я сам-то с трудом дохожу.
Но итог правильный и верный: двое старших – техникумы. Двое младших – институты.
Батя мой не должен быть в обиде на жизнь: та еще ГОРНАЯ семейка (как из сказа Бажова) у него набралась... Повторяю:
– геолог
– два горняка
– маркшейдер,
и все «шарахались» (как любила говорить мать) по просторам СССР «от и до»!
Да и почему бы на командировочные, стипендию, учебные, отпускные, трудовые не поглазеть на этот мир?
III. Долг Польше
И вдруг ни с того ни с сего, двадцать лет спустя после Великой Битвы, под очередной юбилей и очередную медаль XX лет победы в Великой отечественной Войне, пришел на Урал в далекий и «мал-мал-известно-знатный городишко» замалеванный штемпелями и иностранными марками конверт.
Чу! Документ особой важности и святости (не валяются такие на дороге), да как же здесь не просветиться бывшему читателю Чехова и «Фрегат «Паллада», кругосветное путешествие», то есть подруге и жене Геннадия Евгеньевича.
Ну, сейчас узнаем, где этот гусь ночевал и что он делал в «По-о-оль-ше»...
Да он же там воевал. Жена Геннадия поняла, приуспокоилась. Но опять же черт взыграл: а что же он там забыл, в Польше-то своей неродной, где его так болезненно побило... Для всех война до 45-го длилась, а у него аж до 46-го... Правда, через Фергану – госпиталь, а не через эту самую Польшу. Ну и что, что его тяжело зашибло в Польше?
Но когда же он успел?
И жена Геннадия пригорюнилась. Вроде все хорошо у них. Подобрала его после войны, с раненой ногой... Видный парень и девок вокруг него рой. Медали бренчат, на гармони хват... Ох как давно это было...
Душа болит и сердце плачет... Это ль не от уральцев тех лет?
— На-на! — торжествующе совала она ему письмо чуть ли не в глаза, лишь только он прибыл с работы домой ровно в семнадцать тридцать.
Он не понял. Взял аккуратно письмо. Ну конечно, его... ее. Он это понял сразу, через годы... Ее любовь оказалась крепче; быть может, есть на самом деле женщины, что так долго ждут и на что-то еще надеются ПОСЛЕ...
... Генка тоже надеялся.
Пытался писать. Утихомирили. Остался тем, кто есть... А кто он есть – хорошо тому живется, у кого одна нога...
И рад бы... Да грехи мешают.
Вот Белоруссию-то прошел, а под Гданьском при штурме подорвался на мине. «И вроде уж опытный вояка был: каска, ножи, скатка, запас – портянки, гранаты и автоматные рожки в запас... Что там еще, сразу и не вспомнишь: немецкий круглый котелок неудобен, наш лучше; ложка и нож за сапогом, два куска сахара и сухарь, махры не треба...».
Вот смотрю я на себя, на такого сейчас степенного, через двадцать лет, и сам себя не узнаю:
– Кто был грамотнее?
– Кто был умнее?
– Кто был добычливее?
Мельчают, что ли, люди?!
Да. Да! Да!! Знал я Яну, и она меня.
Я же говорил своей будущей жене на Урале в шутку, что «всех по пути...» – не поняла, перетрусила, ужаснулась и кинулась ко мне в объятия «героя». Все мы тогда после войны были сильно прибитые, дай бог свою половинку найти и не сгрызть тоскою оставшуюся молодость.
Призабыла она.
Но я-то под свист пуль, под «утюг» танка, свистящие осколки и штурмовые команды так и не смог призабыть своей светлой полячки... А может, память спеклась: была она чуть русой и с гордой осанкой, что не выбили лихие годины оккупации...
Она была связана, твоя Яна, с Польским движением? Или же работала на лондонское правительство Польши... Тебе это надо было... И ей тоже?!
Смотрели... уральские... друг на друга – и глаза их стыли. В немом ужасе.
Писали в письме на ломаном русском. С польским уклоном. Примерно так:
«Дорогой Гена. Мне сообщили нам через посольство и общество Дружбы дали нашли адрес где ты есть. Ты порадуйся у нас есть сын я его назвал-а Иван (Правильно? Ведь Ген – Иван?), по нашему правда записала сына – Ян. Он страшненько не любит руських окку-пантов, но я есть объяснила что его отец мой муж от немцев бились. Ян наверное понял».
Это потом для чего-то и для кого-то прозвучит правда варшавской певицы Анны Герман: «Надо только выучиться ждать, надо быть спокойным и упрямым, чтоб порой от жизни получать радости скупые телеграммы...»
Волею судьбы у жены моего среднего сына бабушка – полячка... Не просты судьбы. Он привозил ей польские газеты и она их спокойно и понимая язык читала, так же просто, как во времена своей юности при Петлюре и гетмане Пилсудском... Внимательно смотрела на злотые – польские деньги. Слушатели – и внимательные, и до глупости молодые – были. Это – Уральские потомки Геннадия.
«Странно, — думалось потом, — что шляхта, гордая и красивая, типа Квицинских, вымерла для памяти Урала и где-то почивает кое и абы как в провинции Восточной Украины...»
Ан нет!
Все нам надо.
Все нам треба.
Так думается мне, сыну уральскому, все они пригодятся еще очень всем нам.
Домбровский, И. Франко, Коцубинский, «вечный узник» Каменец – Подольска Устим Кармелюк, Адамович...
Кого забыл? Вспомните.
IV. Родовое проклятие
Деньги – они вообще-то и есть деньги. Границы, грани меж ними не поставишь – они властелины всех лет, городов, эпох, наций и империй... Деньги есть деньги! И где-то рядом с ними должны быть и плетутся ради бога бездомные и бесприютно-сирые «тени зловеща» под именем «родовое проклятие»...
Да! Мы их... Видали мы волка почище льва... Счас!
Но сейчас не получается. И не получится.
Завалило Генку под занавес ВОВ, так шарахнуло... что домой только явно прибыл весной 46-го, в укороченном виде. Может, мать плохо молилась за своего «старшого», иль отец прошептал посмертными губами в 44-ом под Ленинградом: «Да храни тебя, сын... старшой, Генка, ухожу я, подыми род мой...»
... Выжил Генка после немецкой противопехотной мины «лягушки» живой здорово не остался не погиб до смерти да и ладно «похоронка» кое-как на «загреб» подобрала не сдрейфила с руки даже трофейные часы «парабеллум» не утащила сгрузила в санитарные кони машины, потом поезда и вроде как сдох Фергана Москва?
Брест где Польша переложьте его обязательно на нижнюю полку морфий колите но не безобразно воет ну и что вы не вой его спасайте его самого вон у парня брякает на груди на стол Москву видел повезло тебе парень что со второй ногой...
Любой кошмар, явный иль во сне, должен как-то и где-то заканчиваться. У Генки, когда он ощупал свои ноги, он, кошмар, продолжался... А где же моя вторая нога?! И как понес...
Все бы ладно. Выживем, и провалился в туман. А поезд «тук-тук»... Стучат, крутятся колеса. Откуда он, Геннадий, это знает? Не со времени ли «японской 1905 г.», откуда пришел его отец с подраненной ногой?
Смерть мы все боимся и уважаем – этакое страшилище в капюшоне без-образном, с нахрапом и обязательно с косой, явно не с девичьей.
За что и уважаем русский язык – его сразу и нахрапом не возьмешь, не одолеешь; русский «Я»... «я-зык» никому не поддается – ни в 24 буквы европейскому, ни другим, слепили свое, пусть даже лишнее – тридцать три богатыря (а и вспомним нашего А.С. Пушкина...) в наличии, от А до Я.
Но похромаем дальше.
С тех пор, когда народ-победитель облагодетельствовал своего защитника, навалились чудеса на того, «у кого одна нога» – он каждый год должен был проходить ВТЭК – тарифэкзкомиссию... Типа он не псих и герой ли, да и вдруг нога отросла.
Но машины для ветеранов давали, исправно и правильно: Запорожец, Ока... Ветеран водил их правильно и аккуратно, выжимал не более 50-70 км, посетил всех своих живых братовьев (он – самый старший, другой за ним – воевал с Японией в 45-ом)... Повторенье – мать ученья!
Он возил свою жену к ее сестре – много у нее их было, всех не упомнишь, катал туда-сюда справно и толково, жена с его тихого одобрения везла туда одежду, продукты, колбасу (где ее взять в поселке?), конфеты (где их взять в деревне?). В общем, катилось по рельсам... Она храпит к вечеру, а он (трезвяк) везет всех своих до дому, до хаты... В общем – правильно ли? – кто рано встает, тому бог дает, старческое и мудрое, да?
Да пошли бы вы все подальше! Так говорил один из моих друзей про идеалы рыжих и темноволосых женщин: «Я уже им не верю». «У тебя что, плохо с юмором?» — спросил отец-Геннадий своего среднего сына во времена его временных отлучек из дома.
«Ты что, сын, метишь на место Фомы Неверующего?» — отец отодвинул полную рюмку с водкой, как часто он отставлял всегда ее в сторону, не держа ее долго в руках... Он не пил ее в сороковых, потом пил мертвым боем в пятидесятых... И потом изредка при редких встречах с сыновьями.
— Батя, ты что-то вспомнил, мечтаешь? Знаешь? Иль уже ведаешь?
Никто не знает, и слава богу, про свое будущее. И не ведает. И знать-то толком не знает. Но мечтать не вредно.
Геннадий после своего боевого ранения... нездорово запил, не выпрашивал по электричкам на подшипниковой каталке, не ставил из себя урода.
Может, он знал и понимал тогда, 20-летний парень, что жизнь-то его еще не закончилась... Ведь и другим-то жить надо. Хотя бы его будущим сыновьям.
Его сыновья вначале стеснялись с ним ходить, с инвалидом, носящим вместо алюминиевого протеза деревянную «ногу». Мать знала... Смирились и его сыновья, даже однако возгордившись опосля за своего отца... Уже не стеснялись!.. Эх, найти бы еще раз такого человека рядом!
Беда не миновала никого. Что на роду написано. Среднего сына у Геннадия «рвануло» на ликвидации северной гео-партии, травмировав ему знаменитый четвертый позвонок – до сих пор не может очухаться. Младшему сыну, золотоискателю, коса-беда неудобно и страшно в Сибири подрезала сухожилия ноги.
И все – правая нога. Наше дело правое – мы победим! Средний с годами заваливается на «правую», младший – не может опираться на «правую», «правой» нет и в помине далеко с 45-го у их отца. Только «старшой», бывший геолог с Таймыра – быть может, «убежал»??? Но хромает...
V. Путь к коммунизму
Все правильно. Путь к коммунизму. «А путь наш далек и долог, и нельзя повернуть нам назад; держись, геолог, крепись, геолог – ты ветру и солнцу враг...»
В далеком и прекрасном 1961-ом, на XXII партсъезде, когда даже «чуть не хватило хлеба» и обещала жизнь быть долгой, заверили нас, что через двадцать лет наступит светлое будущее по имени «коммунизм».
Ибо развитой социализм мы уже построили, позабыв о деревеньках и сельхоз глуши, и двигаемся в светлую зарю коммунизма. «Нынешнее поколение будет жить при коммунизме, — подсказали нам в 1961 году, — через 20 лет».
Мы их прождали... Кстати, богом не обижены: медицина и образование бесплатно-долгие, работы полно (загляни через соседний забор), валютный курс – жесткий и устойчивый, бандитизма – не особо... Все это потом обозначилось как «застой», после чего порядка (ну!) явно не прибавилось...
Да посуди – заело, кончилась паста в авторучке, бывает же такое с шариковыми авторучками. В СССР славном они появились – правильно? – во второй половине 60-х годов. А до того извольте: авторучки с наполнителем, еще ранее – стальные перья с чернильницами «лягушка» и «неразливайка», до того – сталкивался с гусиным пером и керосинкой. Но плохо помню послевоенные годы с их оберточной бумагой и за давностью лет.
Какие песни пел он нам про север дальний...
Да я не про то! Сказать хочется про наши колхозные поля и про нашу «необъятную ширь целины». «Отголоски» потом остались: монументы при тракторах, старые комсомольцы «при целине», недостроенно-брошенное жилье; Алтай, Кулунда, Бараба, Казахстан, Челябинский Юг, высланные насильно и добровольно ушедшие; проклятые в тех краях украинцы, ярославцы, москвичи, уральцы – на их груди обязательно должна иметься медаль «За освоение целинных земель» при комбайне и колосьях... Я их жалею, но еще более – горжусь!
Названия-то какие, заслушаешься:
Новый Путь.
Заря коммунизма.
К светлому будущему.
Имени XXII партсъезда.
Путь к коммунизму.
В светлое будущее.
Светлый Путь.
Таковы были наши колхозы и совхозы. Вот только: колхоз – коллективное хозяйство, выживай и богатей САМ, совхоз – советское хозяйство, подпирается материально государством. Колхоз – денежку в кассу, в общак; совхоз – там тариф строго по гос. плану.
«Спрашивали» Геннадия на фронте в ряды коммунистов. Просто не успел. И сын его средний почему-то трижды не успел: в первом случае – стаж работы «здесь» маловат; во втором случае – хотя и при большой должности, но еще не вышел из возраста «комса»; в третьем случае – нельзя нарушать разнарядку соотношения ИТР и рабочих.
... Тогда он дал по морде парторгу и ушел...
VI. Деньги... Как ОНИ мне «надоели»...
Деньги, деньги... Против них нет противника.
Вот и анекдот на ум приходит.
Финансисты с запада вконец обеспокоились за свой карман... Задача проста: с какой стороны подойдет, подкрадется кризис этот самый? Где его ожидать и встречать, поганого?! А подкрадется он... Во-во, он нам и нужен, советский отверженный специалист-финансист по краху... «Мы тебе даем три оклада, башню строим выше в пять раз... Только угляди отколь и когда кризис!!!» «Не, — в ответ говорит российский экономист. — Не пойдет! Когда еще придет коммунизм, да и с какой стороны... То не ясно – с двух Эйфелевых башен не увидишь!.. То есть это работа для НАС «константа», но вот у вас, я имею в виду «кризисы» – бабка надвое сказала, на воде вилами писано и... Во еще – хрен редьки не слаще».
Мать моя малограмотна, начальное образование, однако здравый смысл имела, зная назубок истины 32-го года и потом 37-го предвоенного – от тюрьмы и от сумы не зарекайся (... еще бы ей не знать после голода 32-го, когда тот докатывался аж до Урала).
— Смотри, мать, — кричит ей (моей матери) мой отец. — Смотри, ско-о-олько отвалил денег... Удачный месяц! Да ты только глянь!
— Да положь их, отец, на комод.
Отец тихо, молча и беспрекословно положил «их» на комод. И даже на «заначку» не взял. С фронта не курил и не пил. Зато отлично знал: ЕГО Клавка, его, одноногого инвалида с войны, укормит, убаюкает, обеспокоится... Ну а что уж там боль в оставшейся ноге и другая страшная боль в несуществующей – так-то дело правое!
День Победы – Святой День. Не был когда-то он «красным». Но для всех тех, кто там был, он навсегда остался красным... С последней точки отсчета сорок пятого!
Вот судьба их взяла и свела – Белорусский и Украинский фронт, где когда-то взяла и оторвала им по разности и лихости право- и лево- ногу-ступню, благо что они проживали в крайних подъездах домов, рядом стоящих, откуда было близко до любимого горожанами озера, горного и гордого, как весь седой синий старый Урал!
Этот год под 9-е сидели у одного, следующий – у другого. Их жены, не такие еще старые по тем временам, мотались «туда-сюда» с яствами и закусками, а боевое братство из 40-х уже начинало застолье.
К вечеру 9-го мая их «бутыль» в 0,5 литра «заканчивалась» – всего этого хватало за Сталина, маршалов, комбатов, лейтенантов, сержантов, Ивановых – и они разбредались по домам. Опохмеляться они уже не встретятся, хотя по сему случаю в холодильниках их женами приготовлено – мало не покажется. Старались.
Сто фронтовых. Наркомовских. Введено указом Сталина с августа 41-го для участников боевых действий на передовой.
... Два сталинских «орла», с перебитыми крыльями, обменяются башмаками – слава богу война порубила одному правую, второму левую ногу; потом невнятно что-то промурлыкают про...
Жены караулят их, как вороны после Донской битва, накидываются на свои жертвы, теребя и таща их куда-то вдаль, в родную степь.
Но бравые гвардейцы Великих Фронтов не сдаются – тем более надо убраться всего лишь со второго этажа на деревянном протезе вниз, а далее равнина, и жена под боком для опоры (славная и толковая милиция шарахалась в сторону... тогда еще редкая и ненужная в наших благостных краях). «Уф, пришли!» — поддатенький батя блаженно щурил глаза, когда одолел ступени своего «рядом-соседнего подъезда» – как будто брал снова Данциг немецкий (польский Гданьск) в марте 45-го, после чего теперь спотыкается.
... За ордена после войны платили...
Странно, но есть ФАКТ, который мне долго не давал покоя – и при отце, и даже долгие годы спустя:
Отец МОЙ всегда почему-то имел запас соли, спичек, мыла, сухарей. Кто хотел бы это понять – поймет; без комментариев и разъяснений. Без согласований!
VII. Остаток «денег» на вас плеснем.
Мой старший брат работал на гео-разведке на Таймыре, за свой тяжелый труд заработал тысячи «брежневских» рублей, другие съездили на Кубу и в Болгарию...
Все это понятно; может, и он хотел бы...
Только был он родом из «зоны непрописных», где в свое время правил секретный «АТОМ»... Так что его деньги, кровью и потом сделанные в геолого-съемочной Таймырской Партии Красноярской Экспедиции, кисли без должного применения. Уже потом не сумели и не превратились они в смутное время 90-х ни в автомобиль, ни в Кубу...! Перспектива была богата! – шансы ничтожны... Было такое время.
VIII. Ну и последнее
Ну вот и все: деньги есть деньги, они не пахнут. А золото убивает даже придурков. Но никогда оно не бьет по мозгам другим.
К чему говорю? Фарт старателя, изыскателя и бродяги – это когда трезв, если даже руки пьяны; лови тогда до «утра» птицу удачи, золотой фарт...
Я мыл золото молокососом, «старателем-любителем» на Урале, где есть и было развернуться. Возьмите, к примеру, дела Миасских Золотодобытчиков в начало нынешнего века. Вспомнил – Золотая Афера!!
Деньги не пахнут.
Золото не воняет, воняет только то, что рядом с золотом...
... А я ВАМ ВСЕМ скажу – когда на моем участке (НОМЕР ОДИН) был «завал» и это грозило малопристойными простоями огромного и основного цеха нашего производства, я своей властью создавал спец-бригаду особого назначения и сам лично становился ее подручным. «Противу» и «воплей» было многовато, но потом, когда мой участок отгребал «не тормозя цех» премии – все голоса «супротив» напрочь умолкали.
И я хочу, пока жив и при памяти, сказать имена своих героев, коим я должон и обязан многим:
Вот мой «спец-взвод»:
– Иван Андреевич В. (мой земляк с Урала, молчаливый профи);
– Любовь Андреевна М. – в эту «тройку» попала последней кандидатурой; зубатая демократка была... Но потом – цены нет!
– Наталья Владимировна Л. – слов нет, молчу... Такие люди – редкость.
Всей своей гвардией, через годы – И.А., Л.А. и Н.В. – я горжусь!!!
IX. Мы – из «Блокады»
Отец никогда не хохотал. Не имел такой дурной громко-обузной привычки. К людям таковым относился однако снисходительно и с пониманием. Но факт тот, и весьма примечательный (дюже примечательный) – он никогда и не смеялся. И сыны его, трое (силен Батя!), «даром» смеха не обладали, смех без причины – признак дурачины. Им, сыновьям, пока особо смеяться не приходилось – повод и время «непригодны» (а может от бати своего научились?); не были они угрюмыми, скептиками, пацифистами, «зелеными», скорей хотели хватить безбрежной большой романтики; они ее все хватили от жизни по полной программе – от географии до психологии.
Глаза Бати – как две синих ледышки, холодные-холодные, с годами выцветавший горный ледник. И вдобавок имел привычку смотреть в упор... Пробивая собеседника сквозь. Многие его не понимали, побаивались; побаивались и его отсутствия легкого юмора, ибо этот человек был, видно, из породы «тяжеловесов». Однако в своей карьере – насколько это можно сказать при его довоенных 7 классах, про фронт, ранение – он продвигался из далеко младших в далеко старшие «интенданты» огромного и важного комбината.
Отец его – имеется в виду, что и у Бати моего был отец – загинул на фронте под блокадным Ленинградом. С тех ли пор, аль с других, мой Батя уже менял «шило на мыло» – табак на сахар, немецкий шнапс на патроны к ППШ и «лимонки», немецкий штык на армейский нож, немецкий круглый котелок на русский плоский (вместо пробитого)... Или смешно мечтал о деревянной липовой ложке за сапогом своим...
Но ведь было и другое, обязательное, о чем в кровавых буднях своих не должен забывать пусть молодой, но уже девятнадцатилетний старший сержант и зам. командира взвода спецроты: рожки автоматов, маскхалаты, гранаты (разные и любые), мины, кусачки, ракетницы, метательные ножи и ордена старшине роты при уходе в рейд... ЭТО БЫЛО?!
Так и «осталось» для НЕГО после трудной и тяжелой Войны Большое, Невыносимое горе. Он не орал – потом! – на своих сыновей, дочь свою старшую сильно уважал – «нянька» растет пацанам, жене он давал волю – имеет право, пусть даже очень шумна как самовар и энергична как детдомовец. Мата, русского и контрольного, не хотел и слышать дома; здорово багровел, когда слышал про ЕВРОПУ, но молчал...
Уж не знамо, почему и зачем, но вся «мужицкая рать младая» стремилась именно к БАТЕ (не в обиду матери, она варила и стирала нам, любила по-своему нас, очень сильно любила своего мужа!..).
Батя не скупился: мог и в нос насовать без дипломатии нашим обидчикам («но вот вам мой совет – держитесь вместе, и в рейд, даже по «тылам», идите «до кучи»; а ты, моя «нянька», что ж ты так лопухнулась, волю себе дала, смотри, вон твоему толстому братцу прифинтилили»); догнать на «ручном» мотоцикле и с бешеными глазами (они становились белыми, контузии от снаряда и танка, закопавшего его) стрелять из ружья...
Возможно, он был неуправляем?
Иль грехов много?
«Сколько ж ты завалил фашистов?»
«Не считал».
Но... он знал! Достаточно знал, чтобы его жизнь и жизнь ЕГО будущей СЕМЬИ окупилась после того, как он закончил войну в Фергане в 46-ом, после чего его уже не обеспечивали фронтовым пайком, тыл уже не работал «всё на фронт» и для победы.
МЫ победили! Цена – десятки миллионов человек и страшнейшая разруха.
Спросите теперь меня, человека рождения сразу после военных лет, откуда я знаю и так четко понимаю про мыло, спички, сухари, соль. И все – в запас. На года... И сам годами долгими потом держал «сии лихие» запасы, вроде как Госхран.
Я и сам порой смеюсь – над собою (брови уходят вниз и глаза... мой цвет глаз от ягуара); но когда меня спрашивают, я им отвечаю: «Я – из Блокады».
X. Все мы у этой жизни в гостях
Осина – вредное дерево. Поганки тоже живут для любопытных.
Уж извините – поплачусь.
А кому это надо?
А я ВАС и не спрашиваю.
Если можно, я воздам долг (пусть поздне-ранний) моим «учителям» в моей нелегкой 25-летней работе в должности ИТР-а – инженерно-технического работника последней умирающей трети ушедшего XX-го века.
... На дворе XXI век...
Я их вспоминаю, понимаю и уважаю, ушедших и оставшихся в моей памяти. Есть такие люди:
– Сибирская комплексная геологическая экспедиция – Шабалин А.И. (умер), Якимов Е. (умер), Щенников А.;
– Масальская ДСФ – дробильно-сортировочная фабрика – Ткачев Сергей Федорович, Кныш М.И., Свиридов И.С., Доровских В.Н.(умер);
– Миасский завод стройматериалов – Булдыгин Николай Федорович (умер), Орловы, Поликарпов;
– горный округ (Челябинская обл.) – Павел Иванович Гришин, Ясашных и другие мои наставники;
– Курган: Пайвин Ю.В., Тюрин. («Курганстройматериалы»), нач. ЦЗЛ;
– Курган, изыскательская экспедиция, низко кланяюсь: Климкину, Эрету В.В., но да и меня вспомнят: Бусов, Константинов, Хохол Большой (Облапенко) и др.
За эти годы многих «моих» не стало. Умер мой лучший друг, с коим мы мечтали о большой геологии, в марте 2000 года – все думал, что он успел «ворваться» в XXI век (работа на химкомбинате его доконала).
Все мы у этой жизни в гостях.
Умерла моя мать, мой отец пережил ее на шесть лет (не бросив свою Клаву в тяжкие моменты ее жизни); он долго ратовал и боролся за счастье своих внучек и внуков и своих сыновей, дождался правнучки, успел отметить 60-летие Победы и сразу потом зачах, умерев в возрасте под 80! Умерли он и она в одном месяце – в октябре.
Черная полоса есть везде. И будет! И она не спрашивает, сроков не назначает. Только косит. И за деньги не откупишься, не от-товаришься.
«Ушел» кум в свои 53, сильно уважал я его; умерла любимая собака, домашняя любимица, отдавшая семье и дочери 14,5 лет (боюсь с тех пор заводить новую).
Потом звонок от племянника – умерла старшая сестра. Почему Бог вырубает сначала старших? Вспоминаю аналогию и место их работы – мой друг и моя старшая сестра... Так где они работали? И под занавес – смерть моей жены.
За 11 лет – 7 смертей.
Когда моя? Дата...
Я знаю.
Только ВАМ не скажу. Боюсь. Я не суеверный, только молодым знать и ведать сие не положено. В приметы, в бога, в чертей не верю... Судьбе не доверяю... но верю в людей!
XI. Ну и Вам
Чтоб вам так же спалось и отдыхалось, как нам.
Я всегда с косой и гордой ухмылкой отвечаю на вопрос про свой год рождения. И всегда вижу в ответ странную реакцию. Да-да, я жил УЖЕ, успел при великом Сталине, о коем плакала в марте 53-го вся страна и моя мать... Жалко, маловат был годами, в два года разве осознают Смерть Вождя? Но тогда откуда же эти четкие дебри осознания тех времен и того понятия? Хотя, говорят, я был уродом в те годы и сильнейшим, как сегодня скажут, «вундеркиндом». Я потом выправился, стал высоким и красивым, сухощав, был застенчив, но девки падали предо мною ниц (брешешь, гад? Или думаешь, что бумага все стерпит?).
Меня никто рано не учил азбуке.
И науки о собаках я тогда не знал, про динозавров и Ч. Дарвина не ведал, дикие космические пейзажи редко видал – разве что иногда в журнале «Техника молодежи». Но... Потом! Когда в три года уже читаешь по слогам, а в пять не пускают в библиотеку, когда ты собрал в шесть лет все камни и черепки с древних стоянок – начинаешь верить в... Потом надеваешь-обуваешь очки на нос, разбитый в боксерских поединках... И начинаешь понимать, что не надо начинать все сначала, что уже все сложилось, выбери свое, иди своей дорогой... Если надо – иди, если надо – «хлебай» свою романтику... Ну и кто ты будешь? Кем по профессии? Ведь судьба любит удачливых – ты им и будь.
— Но не во всем! — засмеялась судьба-цыганка. — слишком уж легко и просто.
... Меня крали пришлые цыгане после войны... Я им по детской наивности выводил лошадей.
— И будешь ты всю жизнь бобылем, — осердилась на меня, студента, обиженная и сердитая тетка на почте.
Не стал. 37 лет женат. Был... А ВЫ – КТО?
Мне повезло... В 50 – на пенсию, оказался в нужном месте и в нужное время... так вроде это называется?
За «строительство», а точнее – за изыскания по проекту Большого Канала – от Оби до Ср. Азии, две с половиной тысячи километров с глубиной 18 метров – я «отдал» в свои «35» легкие, печень, позвоночник, ноги и пальцы – чем богат... В ответ заработал профпутевки в санаторий, в дом отдыха, штрафы, проблемы на будущее здоровье, выговоры от руководства, человеческое понятие от своих непосредственных подчиненных, ненависть многих «полу-тузов» (коим власть пока еще полностью не была отдана) и т.д... и т.п. Но – живу.
Или маюсь? Кошмарами, что много лет не отпускали во снах... Но это только у наших хороших и дорогих женщин: они любят одного, выходят замуж за другого, заводят и ищут в жизни третьего... На том и стоим.
... Низко кланяюсь моим главбухам-профи – Таисии Васильевне Богуславской (полячке, г. Миасс (умерла)) и Рубаненко из Масалихи с Алтая; обязан их профессионализму.
НЕРВЫ, НЕРВЫ, НЕРВЫ...
Рабочий день в управлении партии начался как обычно – ровно в восемь часов утра. За десять минут до начала захлопали двери, загудели коридоры от шагов. И «итээровцы» занялись в кабинетах каждый своим делом.
Журналист Александр Баревич, уже опытный спец своего дела, поднаторевший во всякого рода комментариях и репортажах, был послан редакцией газеты с заданием написать очерк или что-то в этом духе к наступающему Дню геолога. На Баревича возлагали большие надежды и ждали, что он порадует читателей хорошей газетной статьей, пересыплет ее интересными фактами из жизни буровиков – благо, что последние основались в местном городке год назад. А так как здесь не было ничего другого, имеющего отношение к геологии, то и решили послать журналиста в управление геологической партии, и там уж как они посоветуют.
Баревичу было лет под тридцать. Среднего роста, светловолосый, с открытым и добродушным лицом, он, казалось, олицетворял тип простого человека, весельчака, никогда не унывающего и всегда умевшего найти выход из любого положения. Впрочем, он и сейчас не сомневался в успехе, предвкушая лавры будущей победы в словесных баталиях и новый триумф от новой, правда, пока еще не появившейся статьи.
Журналист легонько постучал в дверь, где висела табличка – «начальник партии», и с профессиональной улыбкой шагнул в кабинет, едва лишь услышав разрешение войти. Баревич атаковал с ходу: «Я из редакции местной газеты, от имени которой мне поручено написать очерк о вашей трудной и столь необходимой работе». Начальник партии оторвался от бумаг и некоторое время изумленно смотрел на Баревича. Затем усмехнулся, взглянув мельком на протянутое ему удостоверение, и спокойно сказал: «Садитесь. И поговорим сразу о деле. Так что вас, товарищ журналист, интересует в нашей «трудной и столь необходимой работе»?» Баревич мгновенно оценил юмор своего противника (а кого ж еще?): «Хорошо вы меня! Но о деле, так о деле. Редакция поручила взять интервью у одного из лучших ваших работников. Или же у того, кто хорошо осведомлен об общей организации партии и успехах ее работы». «То есть...» «То есть, хотя бы у вас». Начальник вновь усмехнулся: «А будут ли интересны читателям скучные цифры и малопонятные термины?» «Что же вы в таком случае можете предложить?» — профессионализм просквозил в заданном вопросе Баревича. «Что? — его собеседник на миг задумался. — А не лучше ли вам поговорить с живыми людьми непосредственно на объектах? И вот именно там найти хорошо осведомленного человека и обо всем расспросить его, а? Как?» Начпартии вопросительно посмотрел на журналиста, затем хмуро добавил: «Ну? А то у меня времени рассусоливать нет, квартал к концу идет, работы невпроворот. Соглашаетесь?»
Баревич вынужден был согласиться – как ни крути, а материал нужен. «Ну вот и хорошо, — одобрил начальник. Через два часа машина пойдет на базу, так вы на ней. Затем спросите бурового мастера Андрея Полковникова, и к нему». «Хм, — ухмыльнулся про себя журналист, — как все просто: на ней, к нему!» Но возражать не стал.
Заскочив в редакцию и известив редактора о двух-трехдневной командировке, Баревич забежал домой, спешно побросал в черный потрепанный, видавший виды портфель пасту, мыло, электробритву и вновь ринулся к управлению.
Два долгих и томительных часа тряслась машина по каким-то диким проселочным дорогам. И вот наконец Баревич оказался на базе, которая представляла собой скопление нескольких передвижных вагончиков и нескольких баков с ГСМ. Осторожно пробираясь между всем этим хаосом, журналист бодро думал: «Хм, мои нервы так просто не сдадутся! Я повидал еще и не такое!» Прилично попетляв между вагончиками, он неожиданно наткнулся на косо прибитую дощечку, которая утверждала, что в этом доме находится контора. Баревич осторожно взошел по шатающейся лестнице, отчаянно заверещавшей под его ногами, и шагнул внутрь вагона-конторы. Было полутемно, но в глаза бросилась одинокая фигура, сидящая за столом, заваленном бумагами. Посреди пыли и серых бланков гордо стоял телефонный аппарат голубого цвета.
«Это база?» — почему-то растерянно спросил Александр. Человек за столом, не оборачиваясь, звонко ответил: «А что же еще, по-вашему? Или вы здесь первый раз?» «Первый, — тихо ответил Баревич и про себя сердито подумал: — и последний! Эх-х, горе-геологи...» Человек – а это оказался молодой парень лет двадцати пяти – оглянулся и заинтересованно взглянул на стоящего перед ним светловолосого растерянного мужчину. Баревич мгновенно представился: «Я из редакции, точнее из партии... Вот, послали...» Он запутался окончательно и смолк – такого с ним никогда не было. Парень помог ему: «Понял. Управление послало вас сюда, а сами вы журналист, так?» «Да-да, — обрадовался Баревич. — И мне нужен... э-э-э... Андрей... Как его-о-о... Генералов!» — выпалил он. Его собеседник озадаченно смотрел на него и вдруг расхохотался. «Полковников, наверное? А вы его в генералы! Ха-ха-ха». Оборвав неожиданно смех, он спокойно ответил: «Андрея сейчас нет. Но звонил – скоро будет! А вы пока сходите погуляйте, осмотритесь, а минут через двадцать и сам Полковников собственной персоной прибудет. Вот и поговорите».
Баревич вышел из конторы, при этом чуть не свалившись с лестницы. Со злостью подумал: «Бесхозяйственность безалаберная эти геологи. Все бы им на живульку: сегодня здесь – завтра там». С интересом он начал оглядываться по сторонам, ища на чем остановить свой взгляд. Но тщетно – того, о чем должно было писать его перо, здесь не было видно. «Что? — со злобой вдруг подумал Баревич, уже в который раз проклиная нерадивость этих допотопных геологов, коими он уже начал считать буровиков. — Об этих ящиках, что ли, дифирамбы сочинять?» Он послонялся со скучающим видом между вагончиков, и ноги его сами принесли к конторе. Уже наученный горьким опытом, Баревич мастерски поднялся по лестнице и проник в контору.
Знакомого парня заслоняла чья-то широкая могучая спина. «Андрей, — говорил тот, — принимай журналиста! Прославлять тебя приехал!» «Это еще зачем?» — прогудела широкая спина – Баревича обладатель этой спинищи еще не видел. «В управлении партии тебя порекомендовали. Рекламу навешали. Так что принимай журналиста!» «Незачем!» — устало отмахнулся Полковников. Баревич сделал два шага вперед и оказался лицом к лицу с прославленным буровиком: «Не любите журналистов?» Оба вздрогнули от неожиданности. Особенно ошарашен был Александр – перед ним стоял высокого роста, широкоплечий человек с тяжелыми сильными руками. Малоподвижное лицо, упрямая ямочка на подбородке, слабо заметная из-за густой окладистой бороды, серые пристальные глаза. Спокойная улыбка в густых усах. Журналист задрал голову и выпалил независимо от своей воли: «Сколько ж в вас росту, а?» Гигант хмыкнул: «Очень интересно? Сто восемьдесят четыре сантиметра. Ваше любопытство удовлетворено? Ну а теперь к делу – что вам от меня еще надо? На один вопрос я вам уже ответил!» И они оба – Полковников и тот парень – расхохотались громко и с удовольствием.
Впрочем, короткий разговор у них завязался. Андрей будто нехотя обронил: «Сейчас наша машина грузится, а потом мы с вами поедем на буровую установку. Сами посмотрите что к чему, оцените, обнюхаете. Наша буровая вышка-девятнадцать находится от базы всех дальше: она одна из важных точек разведки... Остальное – на месте».
Баревич пытался остановить его: «Куда же вы? Мы ж не успели поговорить». «А кто машину грузить будет? Дядя Паша, что ли?» «Пусть даже он, — не поняв иронии, пробормотал смущенный журналист. — Вы же буровой мастер, так сказать ИТР, и вдруг – погрузка... Это черт знает что! Вы что, не признаете роль инженерно-технических работников?» Полковников уже выходил; приостановившись на миг, он бросил: «Почему вы так думаете? Поройтесь-ка пока в книге кадров по девятнадцатой буровой. Может поймете».
Уже в машине, направляющейся с грузом – штанги, долота, ключи, обтир, приборы, бочки, – Александр вернулся к прерванному разговору: «Так как, Андрей... э-э... как вас по батьке?» Пристальный взгляд мастера стал насмешливым: «Сколько вам лет?» «Тридцать», — ответил Баревич. «А мне сколько, как вы думаете?» «Лет тридцать восемь, — Александру стало даже неудобно от таких в лоб задаваемых вопросов. — Эта борода, лоб и лицо в морщинах». «На десяток меньше, — уточнил Полковников, — так что давайте без батьковичей. Я – Андрей; наверное знакомы со мной заочно. А Вы?» «Александр», — поддаваясь влиянию гиганта, покорно ответил Баревич. «Теперь насчет признавания ИТР, — Полковников лукаво улыбнулся. — Вы институт кончили?» Александр кивнул – он не понимал, кто здесь дает объяснения, кто отвечает на вопросы; получалось, что берут интервью у него. «Так вот, — продолжал Андрей, — я тоже кончал институт, шесть лет назад. Так что ж из того? Проще надо быть, это – в работе. Но в руководстве – жестче». И такой силой повеяло от этих слов, что Баревич поежился. «Андрей, у вас, видно, крепкие нервы – многие рабочие бегут отсюда, несмотря на хороший заработок, а вы все работаете...» «А если это объяснить тем, что рабочие в основном местные и в буровом деле люди случайные, тогда что?» «Предположим, пусть будет так. Но вместе с тем у вас железная воля – как я понял это из беглого знакомства по записям в кадрах и из разговоров с некоторыми на базе; вы держите всю бригаду в кулаке, но как-то по-доброму, хорошо. Вас любят, уважают. Дисциплина в вашей бригаде солидная, хотя, кажется, какая может быть дисциплина среди случайно набранных рабочих? Но ведь есть она. И у меня создается такое впечатление, что вам нечего терять в жизни, раз вы полностью в работе. Я не прав?»
Полковников молчал. Молчал всю дорогу, заговорил лишь там, около своей буровой. Удобно устроившись на бревне, он неожиданно напомнил журналисту его безответственный вопрос: «Вы спрашивали, есть ли что мне терять в этом мире?» И грустно рассмеялся: «Все, что можно было, я уже потерял! Три года назад я развелся с женой; столько же лет уже не пишу матери, не говоря уже о братьях и сестре. И нет у меня романтики в душе, как вы предполагаете; всю ее уже выхлебали. И только с горя и тоски рвусь в самые дальние закутки этакой бесцельной дохлой жизни». «Но в 28 лет? Такое?» «Для меня ничего сейчас не свято, даже признанные авторитеты». Баревич вздрогнул и с удивлением задал новый вопрос: «Вы любили жену?» «Нет». «Поэтому и разошлись?» «Разошелся потому, что у ней не было детей!» Баревич, не вытерпев, взорвался: «И что, на этом свет клином сошелся?» Лицо Андрея стало угрюмым: «Я люблю детей. Дети – это главное в жизни. Нет их – и двое оказываются пустоцветами». «Найдите другую... С вашими-то данными...» Гигант хмуро улыбнулся: «У меня нелюдимая душа. И кроме того – а это самое главное – я люблю брать верх. И вот поэтому-то я здесь».
Баревич заинтересовался: «А что, Андрей, вас не грызет раскаяние о жене?» Ответ был дикий: «Подчас я жалею, что загубил свои лучшие годы с ней!» Александр опешил и минуты три не мог нащупать ниточку разговора. Затем ляпнул, не разобравшись: « Но ведь лучше легкое воспоминание, чем на всю жизнь озлобленность?!» Полковников беспощадно-насмешливым взглядом смерил фигуру журналиста: «Вы сами женаты?» «Да». «И дети есть?». «Конечно, а как же?» «Тогда вы чуточку счастливы, находя радость в своих маленьких созданиях. И тем более непонятна ваша бестолковость в моем рассказе». Баревич хотел что-то возразить, но мастер остановил его жестом: «Вы, журналисты, иногда напоминаете мне маленьких несмышленышей. Что это да как? — передразнил он берущих репортажи и интервью. — Ах, как интересно! А это зачем...» В кривляньях Андрея виднелась жестокость. «Так к чему это? Часто слушаешь ваши репортажи с колхозных комбайнов, со строек и остается впечатление, что тон ваш наигран (уж слишком много привычки), хотя «допрашиваемый» вам отвечает искренне, старается». Полковников резко оборвал себя и грубо сказал: «Все. Спать. Завтра к семи жду около буровой. Смотрите не опаздывайте. Посмотрите все сами, что интересно – запишете».
Ночь как ночь, вот только условия спячки – именно спячки, а не сна и отдыха – были не те, что в городской квартире. Баревич проснулся без пятнадцати семь и, взглянув на часы, спокойно заключил: «Успею. Умоюсь, побреюсь и бегом до вышки. Благо, что тут рукой подать!»
Смена рабочих, уже готовая, глухо затопала к выходу. Почти на всех робы торчали как скафандры. Александр выхватил из портфеля электробритву и успел перехватить последнего из буровиков. «Куда?» — он молча показал на штепсель электробритвы. Буровик открыто захохотал ему в лицо: «К нам еще не провели сюда, мы ж тут недавно!» И кинулся догонять товарищей. Баревич испуганно охнул: «А чем же бриться?» Ему крикнули: «Возьми из тумбочки прибор. Им и...» Раздался смех.
Журналисту ничего не оставалось, как и вправду пошариться по тумбочкам. Он аккуратно побрился, протер принадлежности и осторожно положил их на место. Однако все это он, приученный к довольно-таки частым командировкам, делал быстро и оперативно. В четверть восьмого он уже был около буровой; там никого не было. Пришлось лезть на вышку, лапать грязь и мазут руками.
Мастера он нашел на верхотуре. Могучий голос Андрея перебивал монотонный шум и лязг буровой. Полковников дополнял свои объяснения внимательно слушавшего его рабочего жестами; так прошло пять минут, десять, пятнадцать. Наконец мастер подошел к лестнице и, упорно не замечая журналиста, ловко заскользил вниз. Гром сапог слился с грохотом железных площадок. Баревич, чуть не брякнувшись с размаху вниз, последовал за ним.
Полковников, по обыкновению хмурый и угрюмый, ждал его внизу. Настороженный Баревич подошел медленно к нему, и сразу же получил словесную оплеуху: «Ну вот что, господин журналист, в дальнейшем будь во времени точен; дал слово – держи его, а то слово с делом-то расходятся. Говорят, слово – олово, а у тебя оно плавится при комнатной температуре, хотя по правилам требуется восемьдесят-девяносто. А в вашем возрасте это тем более непростительно, ибо хоть частично к тому времени все должно быть расставлено по полочкам – семья, дети, хозяйство...» Было непонятно, шутил Полковников или нет, но лицо его оставалось серьезным и непроницаемым.
Они с минуту помолчали, точнее Баревич выжидал окончания бури, затем Александр вздумал оправдываться. Андрей слушал его молча, не перебивая, но в конце четко отрезал: «И это не оправдание».
«Так что же у вас ко мне? — как ни в чем не бывало спросил мастер. — Как к производственному лицу». Баревич попытался подстроиться в его тон – чашу неудобства перевесило чувство долга.
«Рабочие говорят, что у вас в бригаде дисциплина железная, нет прогулов. В общем, здесь к вам не подкопаешься, так?» Андрей подозрительно покосился: «Я не пью. Правда, и раньше не слишком пил. Ненавижу сплетни. Что еще? Курю много!» Баревич был озадачен, но вывернулся: «Вы лишены, значит, человеческих слабостей, но другим, наверное, с вами тяжело?» «Тогда что выходит – от скуки на все руки?» «Вы не признаете критику рабочих? Или считаете, что это удел других?» «Правильно, — Андрей был невозмутим, — это удел слабых, хотя, признаться, я в ней силен и именно из-за нее вылетел с предыдущей работы три года назад». «Вот как? — душа Баревича затрепетала от такой находки. — Расскажите». «Зачем? Это скучная и банальная история, кончившаяся тем, что рассерженный начальник придрался к несуществующему пустяку. Вот так я оказался здесь. Жена не поняла, мать плакала, сестра жалела...»
«Скажи, Андрей! — Баревич остановился. — Почему у вас такая дисциплина в бригаде? Ведь не только от того, что вы не пьете... Здесь требуются и организаторские способности...» Ответ (точнее, атака) был в манере Полковникова: «Поэтому многие здесь и не задерживаются. А остальные – или железные люди, или «старатели» за деньги. Для таких бичей характерно следующее: «Какой-то период они работают ожесточенно, беспощадно своему здоровью, потом срываются... В запой. И тут уж, — Андрей кисло поморщился, — матом отборным, увещеваниями. Бывает, что и кулак надо первым поднять, не то сам получишь». Гигант усмехнулся, двинул плечами: «Впрочем, редко кто на меня... прыгает».
Баревич думал над словами мастера и затаенное чувство зависти к этому беспечно-серьезному человеку рождалось в его душе. «Удивительно, — думал журналист. — Наш разговор – причем двухстороннее интервью – часто прерывается его вызовами, занятостью, а кажется, что беседа течет беспрерывно, до того все состыковано и увязано. Но понимают ли они друг друга?» «Андрей-то меня понял, — подумал Баревич. — А я-то ведь так и не понял его. И кажется... Завидую его непутевой жизни?! Впрочем, непутевой ли? У него есть бесцельная цель, у меня же даже этого нет. Все есть – жена, дети (надоедливые), командировки (которые уже надоели), почти потухшее, но еще живое чувство объездить вдоль и поперек этот тленный мир, насколько это возможно».
Полковников уже на ходу крикнул: «Заходи вечером, если не уедешь!» «Вот так беспардонно, — обиженно подумал журналист, — ему даже все равно, уеду я или нет».
Баревич пробыл на буровой еще два дня. По совету Андрея он, уже не боясь, облазил ее вдоль и поперек, «допросил» всех рабочих, но спрашивал уже осторожно, с заинтересованностью, без детских заскоков и вопросов. Таким образом Александр получал солидный материал, достаточный для приличного очерка. Вечером третьего дня своего пребывания на буровой он должен был уехать на базу и там попутной «оказией» доброшен до города; время еще было, и Баревич начал строчить черновой набросок очерка, где героически выделялась главная фигура – герой труда Андрей Полковников, непогрешимый авторитет в бригаде. Правда, когда Александр писал это, он сам себя ненавидел, но профессионализм в духе воспевания героя труда победил. Теперь окрыленный Баревич ринулся к буровой с блокнотом в руках – искать Андрея, чтобы показать ему свое творение.
Полковникова он нашел около подъема на буровую. Тот, задрав голову, в страшном гневе кричал что-то наверх, рабочему, перевесившемуся через перила. Прокричав еще что-то, Андрей повернулся к журналисту, улыбнулся и спросил: «Что?» Баревич подал блокнот, и оба замолчали; мастер читал, и с каждой минутой лицо его становилось более хмурым.
Дочитать он не успел. На буровой раздался крик, затем какой-то грохот. И затем воздух опалило пламя. Полковников вздрогнул, отшвырнул Баревича с пути, пытавшегося было рвануть вверх за интересным эпизодом, и бросился по лестнице. Александр с тревогой задрал голову. Ожидая услышать вой аварийных сирен, увидеть буровую в огне, он заметил лишь какой-то клочок пламени, который исчез тут же. Но Баревич не терял надежды и очнулся лишь тогда, когда над ним нависло веселое и ухмыляющееся лицо Полковникова. Андрей, увидев его состояние, расхохотался: «Думал, фейерверк устроили? Великую бучу, сознайся, хотел посмотреть? Не выйдет. Рабочий там наверху запалил сдуру невесть откуда подвернувшуюся канистру с бензином. Вот я ему за это малость и разгону дал, а то вздумал баловаться на буровой табачком». «Новенький, что ли?» «Относительно. Седьмой год работает», — насмешливая непонятная улыбка осветила лицо гиганта. Как ни в чем не бывало Андрей взял рукопись журналиста и принялся бегло просматривать ее – это было видно по тому, как быстро мастер переворачивал страницы будущего очерка. Он дочитал и внимательно взглянул на Александра. «Слушай, Саша, по-моему, так все это мишура, блестящие почеркушки». «Но почему же?» — Баревич приготовился защищать свое детище. «Почему? — Андрей задумчиво пожевал губами. — Сейчас попытаюсь объяснить. Нарисовал ты меня в своем творении как этакого... героя, человека сильного, без грамма любого страха. А я ведь тоже человек... Так принимай же меня таким, какой я есть, со всеми моими недостатками и сильными чертами. Только не стоит коверкать как в своем очерке, и тем более перевоспитывать – я уже вышел из детского возраста. Помню, и своей жене я так же сказал: «Сможешь перековать – попробуй, а лучше – прими меня таким, какой я есть!»
Баревич восхищенно взглянул на мастера: «Ну и нервы же у тебя, Андрей!» А тот косо взглянул на него: «Саша, а еще лучше, если бы ты обо мне ничего не писал. Прошу об этом. О буровой и моей бригаде – пожалуйста, а обо мне... Лучше не надо!»
Сзади них раздался крик: «Машина с базы пришла, машина! Мастера зовут».
Через два часа, раньше назначенного времени, машина уходила на базу. С ней уезжал и Баревич. Он запрыгнул на ступеньку машины и последним взглядом окинул буровую. Мелькнуло: «И все же какие нужны здесь нервы, чтобы работать в таких условиях! В чем залог работы на буровой?» И словно в ответ из открытой кабины вырвалось:
«Снова зовет яростный день,
Нервы гудят напруженно,
Вера в людей, вера в людей –
Главное наше оружие...
* * *
В редакции его встретили восторженно, кинулись с расспросами. А редактор оглядел его так, словно Баревич как странствующий рыцарь долго пропадал в далеких странах, затем пожал руки и даже заметил: «Загорел». И заговорщицки подмигнул: «До дня геолога немного осталось. Давай, порадуй нас героическим очерком о бесстрашной работе буровиков. Куй железо, пока горячо – иди с ходу писать!»
Александр прошел в свой кабинет, сел за стол. Разложил перед собой свои записи, черновой набросок очерка... И перед глазами встал Андрей.
«... Так принимай же меня таким, какой я есть... Еще лучше, если бы ты обо мне ничего не писал...»
«... О буровой и моей бригаде – пожалуйста... А обо мне лучше не надо...» Баревич усмехнулся: «А что эта бригада без Андрея? Так, люди, кующие деньги, без радости за свою работу!»
Андрея сменил редактор.
«... Порадуй нас героическим очерком о бесстрашной работе буровиков...»
Так что главное в работе? Вера в людей. Главное наше оружие.
Баревич порвал свои черновики, побросал их в корзину. Не торопясь встал, закурил... И направился в управление партии брать «сухие цифры» для своего героического очерка...
Первый снег
Стояла поздняя осень. Каштаны уже отцвели, и теперь только последние желтые листья опадали с красавцев-деревьев. И в душе играла какая-то жалобная, тоскливая струна. То ли скучала по дому, то ли жаждала встречи с любовью...
В индустриальном техникуме шел вечер, посвященный пятьдесят второй годовщине Комсомола. Гвоздем программы стал концерт о комсомольцах гражданской войны. Вот с эстрады прогремела заключительная часть известной песни «Дан приказ ему на запад, ей – в другую сторону...», и тяжелый занавес рухнул на сцену, закрыв собою от зрителей немую сцену прощания красноармейца с его подругой.
Пафос тяжелых военных лет дохнул на молодых людей, сидящих в зрительном зале и стоящих в проходе, и казалось, что эта современная молодежь стала чище в своих стремлениях, более мужественной и честной в их жизненных невзгодах. Но загремела музыка, приглашающая на танец, как все стало легче и проще; и не было уже задумчивости на юных лицах, был лишь азарт «охоты» и приключений. Попадались и пьяненькие студенты, с такими не церемонились – дежурные выставляли их за двери, где неудачливых танцоров ждали угрюмые городские. Дело было вот в чем: в определенное время двери техникума закрывались и на вечер уже никого не пускали. Чаще за «бортом» таких вечеров оставалась городская молодежь, имеющая, как всегда, неопределенные сведения о времени проведения вечеров в техникуме; и случалось такое, что городские вымещали свою злобу на студентах техникума по окончании вечера или вот на таких, выставленных за дверь.
Упал занавес, отгремела музыка. Со сцены выскочила девушка в красной косынке и гимнастерке, перетянутой ремнем, и побежала по длинному коридору в одну из аудиторий, временно переоборудованной в раздевалку для лиц, занятых в спектакле.
Девушку звали Олей. Студентка второго курса, она была среднего роста, в меру полная, черноволосая с пышными волосами, рассыпающимися по плечам при каждом движении и придавшими ей загадочный вид.
Путь преградил какой-то незнакомый парень. Ловко дернув Ольгу за косынку, он невинно осведомился: «А со мной не хотите так?» Его нарочитая вежливость проскочила незаметной, но возымело свое действие неприкрытое нахальство: Оля не поняла, от изумленья резко остановилась и непонимающими глазами посмотрела на парня. А он был красив и привлекателен, этот нахал: ярко выраженный, до неестественности, блондин со светло-синими глазами. Оля удивилась, что успела оценить глаза этого парня, смутилась. А на вопрос, на его вопрос что ответить? На сцене, согласно постановке, она обнималась на «прощание» с красноармейцем – студентом ее же группы. Вот об этом-то, видно, и интересовался этот высокий парень.
Ольга вспыхнула и, обогнув парня, побежала в раздевалку. Но настойчивое лукавое любопытство обняться с этим наглецом входило в ее душу. А что?
Она переоделась в белый костюм и вместе с подругами вышла в зал, где уже вовсю гремел шейк, и танцующие извивались и дергались кто как мог и кто во что горазд. Единого мнения для них здесь не существовало, важно было одно: показать себя, выделиться, блеснуть экстравагантностью и своеобразной манерой исполнения танца.
Ее приглашали, к ней подходили. И свои ребята, и чужие. А она... Она почему-то отказывала, боясь в душе самой себе сознаться, что с нетерпением ждет приглашения того блондина. А он не подходил. И Оля, протанцевав со случайными кавалерами раза два, нашла неприметный уголок в зале и забилась туда. И уже оттуда взглядом дикого зверька она следила за танцующими. Ее взгляд всегда находил «его», раскрасневшегося, довольного, с каждым танцем обнимающего новую девушку.
Подлетела подруга. Рыжая, задорная, она залилась смехом и потащила Ольгу в зал. Та заупиралась. «Ты что, Ольга?» «А что?» — дерзко отрезала она, и рыжая ее подруга отстала.
Надежда таяла, как дым гаснувшего костра. Но когда в микрофон объявили, что исполняется последняя песня, Оля вдруг заметила, что блондин быстрыми шагами идет в ее направлении. «Ко мне? Не ко мне? Боится, что другие пригласят; все ж конец вечера, а идти гулять с кем-то надо... Специально на последний танец приглашает? Или раньше не видел?» — Оля поежилась от неясности положения.
Он пригласил ее изысканным движением аристократа или же... Привычным движением любимчика-актера, для которого нет и не должно быть отказов. Она не оценила такой небрежной изысканности, но изъявила свою готовность к танцу.
А песня, любимая песня того времени, гремела по залу: «Это очень-очень непонятная,
эта первая любовь...»
... Ольге хорошо с ним. А ведь был момент, когда она, не выдержав потока вопросов, захлестнувших ее при его подходе, повернулась и пошла прочь. Но он нагнал и схватил ее за руку: «Вы куда? Вечер-то еще не кончился!» Оля повернулась и встретила его взгляд. И что странно – этот в общем-то не очень приятный взгляд не убил в ней желания танцевать с ним. Он пригласил ее...
И вдруг радость пропала. Когда до конца танца оставалось еще несколько минут, он вдруг заявил Оле: «Идем в гардероб». Ольга невольно усмехнулась, поняв, какую мысль преследует этот парень – избежать толкучки у раздевалки и этим выиграть... А что выиграть? Но покорно пошла за ним.
На ней было все белое – белые туфли, белый легкий шарфик, белоснежное демисезонное пальто. Она была красива в тот момент, как прекрасная и изящная снежинка, и он удивленно, с невольной нежностью глядел на нее до тех пор, пока она, одевшись, не подошла к нему. И алчность – заметила она – загорелась в его светло-синих глазах.
Оля жила на квартире совсем недалеко от техникума. Они шли медленно, рядом и изредка перекидывались словами. Под ногами скрипел снег, которого они еще не видели, когда входили в техникум на вечер; тот снег, который выпал только что, совсем недавно, часа три назад. Маленькие, ласковые, холодно-нежные снежинки кружились в воздухе и медленно опадали на землю, деревья, каштаны, людей. Оля изумленно смотрела на этот снег, на эти снежинки, а ее кавалер по этому поводу даже изрек ученую банальность.
Вот и калитка. Ольга с замиранием сердца повернулась к своему провожающему и тихо промолвила: «Вот мы и пришли!» И вопрос прозвучал в ее словах: «А что же дальше?» А он неожиданно, ни слова не говоря, подхватил ее на руки – есть сила! – и провальсировал с ней по первому снегу. От неожиданности Оля не успела даже оттолкнуть его. А парень уже ставил ее на землю. Припал губами к ее губам, крепко поцеловал и, не оглядываясь, ровными шагами ушел. Лишь на прощание бросил Ольге: «Мы еще увидимся!» Он учился на третьем курсе, но годами и так был намного старше ее.
Так и зародилась для шестнадцатилетней Ольги ее первая любовь. Спала она в эту ночь спокойно, но утром все равно пришел к ней радостный трепет – произошедшее казалось для девушки сном...
— * —
Парня этого звали Петя, Петр. Вот уже как два месяца длятся их встречи. Кончилась пора девичьей сентиментальности, на смену этому радужному и небесному чувству пришло земное: радость нового свидания, поцелуи. Виделись они часто, через день; гуляли в парке, ходили на танцы. И каждые два-три часа, проведенные Ольгой в обществе Петра, заново ей раскрывали мир: жизнь нелегка, но в ней много радости; мир большой, но интересный, и есть в этом мире человек, которого ты любишь. И быть может, он любит ее.
* * *
Аудитория горного дела, то есть «Пристрой 2», как официально называлась эта аудитория в техникуме. Здесь царил неписанный закон, по которому каждый студент имел свое постоянное место, что диктовалось не самими преподавателями, отнюдь – просто каждый студент «вживался» и привыкал к определенному месту. Да это и понятно: если студент прилежный и имеет «тягу» записывать лекцию, то он обосновывается на первых столах, а слушать же преподавателя можно и с «камчатки». Оля со своей рыжей подругой занимала предпоследний стол в первом ряду.
«Пристрой 2» относился к разряду небольших аудиторий, поэтому лекцию можно записывать и сидя сзади – если имеешь на то желание и не хочешь спать.
Рабочие столы были трехместные, что было не очень удобно, ядовито-зеленого цвета. Надо заметить, что преподаватель горного дела, невысокий худощавый человек лет тридцати, являлся куратором группы, в которой учился Петр. А так как Оля училась по другой специальности, то горное дело им давали поверхностно, только основу и общие положения. Данный преподаватель успехом у студентов не пользовался, хотя и был специалистом своего дела; девушек, и вообще особ женского пола, не жаловал и считал их просто-напросто дурами, люто ненавидя их и подчас вымещая на студентах накопившуюся злобу.
Было скучно и непонятно. Захлебываясь от собственных слов и бегая перед доской, преподаватель размахивал руками. А Олино внимание все дальше и дальше уходило из аудитории. Рядом, усердствуя, записывала лекцию ее подруга.
... Вот уже два месяца Оля знает Петра. Что она может сказать по этому поводу? Да, он нравится ей, она любит его. И как не любить Петра, высокого и плотного, с красивыми бакенбардами? Одно плохо в Петре – уж больно тонкий у него голос и явно не вяжется с его фигурой. Оля иногда интересовалась у него: «Петя, объясни мне: как это твой тонкий голосок держится в таком могучем теле?» На что Петр, ехидно поджимая губы, что они становились похожими на узкую синеватую полоску, отвечал: «Что, это очень интересно? У тебя больше нечего спросить?»
Ольга улыбнулась этому воспоминанию. «А целоваться он умеет. Этого не отнимешь. Но что плохо – его цинизм!» И она, выводя своим округлым почерком, написала на чистой глади стола: «Очень, очень непонятная, эта первая любовь... Да?» Девушка вспоминала их первое знакомство, когда под музыку этой песни они кружились в танце на октябрьском вечере.
На следующий раз, когда у них вновь шла лекция по горному делу, она с удивлением обнаружила на столе ответ на свой «вопрос». Ольга с удивлением уставилась в стол и прочитала: «Всякая любовь хороша, но ведь ромашки сорваны?»
Так завязался «настольный» роман, точнее, переписка Оли с незнакомым (или незнакомой) парнем (или девушкой). «Все же это парень!» — решила Оля. И она была права.
Переписка на зеленом столе велась в песенном стиле. Это отдавало сентиментальностью, так что Оля вновь впала в нее. На очередном свидании Петр ей даже заметил: «Ольга, что с тобой? Ты какая-то рассеянная, мечтательной стала». Она ничего не ответила.
... Ольга без всякой связи с предыдущими «ромашками» написала: «В первый вечер встречи ты назвал меня куклой синеглазою. Мне и больно, и обидно, понимаешь ли ты меня? Не кукла я!» Незаметно для самой себя Оля переносила свои ассоциации и переживания о Петре на эту зеленую поверхность стола. Ответ был таков: «Не кукла ты». Коротко и ясно, чего уж более. Ольга даже рассердилась на этот лаконизм. И, обвиняя Петра в последней ссоре, поделилась с неизвестным другом:
«Глупое сердце, ну что ты в самом деле,
Любовь ушла, а ты стучишь ей вслед!»
Незнакомец понял ее и, видно пытаясь успокоить девушку, ответил ей:
«Пусть мечта озарит твое будущее
И навсегда останется с тобой!»
То ли строчки, то ли что другое повлияло на Ольгу, когда она вновь увидела Петра. Да и тот стал другой и первым пошел на примирение. От этого свидания у Оли остались одни приятные воспоминания – Петя был великолепен в тот вечер. И как не хотелось им расставаться у калитки, но... надо, что поделаешь. И на следующий день, когда была лекция горного дела, Оля вновь начертала на столе: «Как хороши, как свежи были розы!!!» В эту фразу она вложила и свое хорошее настроение, и мщение за ответ на свой первый вопрос: «Всякая любовь хороша, но ведь ромашки сорваны!» «Не беда, — думала Оля, — что ромашки сорваны, зато как хороши розы любви и встречи с любимым».
Она не увидела ответ на свой вопрос. Заела гордость. Ольга, переборов свои противоречивые желания, также промолчала.
Ответ появился в следующий раз. Весьма обыденный и банальный, одним ударом подрубив воздушные идиллии переписки: «Мы когда-нибудь увидимся?» И вот это земное «увидимся» разожгло любопытство Оли. Нет, она не собиралась менять Петра на какого-то другого – кто знает, каким человеком окажется тот, да и полюбит ли она его? – и ответила лукаво-коварно, с детской наивностью: «Я свободна для вас в любое время дня и ночи. Мои двери открыты для вас!»
По воле судьбы в эту переписку на столе никто не вмешивался – счастливая случайность! – то ли потому, что стол стоял в конце ряда, то ли потому, что в «пристрое 2» занималось мало групп, и они были постоянны.
Требование прозвучало в вопросе незнакомца: «Когда все же? Сегодня, завтра, через 20 лет».
«Ого, какой настойчивый!» — раздражение охватило Олю. Но с замиранием сердца, дразнимая еще не разбуженной женской душой, она стремительно, мало думая о последствиях, написала: «Эту встречу, этой ночью, пусть подарит нам любовь!»
А «он» осадил ее, оставив горький отпечаток: «Спуститесь на землю! Через три дня хороший фильм в «Войкове». «Войков» – название кинотеатра. «Ах, кино! — взорвалась про себя Оля. — Я тебе покажу кино!» Самолюбие девушки было уязвлено самоуверенностью незнакомца. Появился ехидный ответ ему: «Вот и прекрасно! Я только надену малиновый берет и желтенькие шорты». Тут стоит заметить, что Ольга терпеть не могла малинового цвета; ну а что про шорты – так, думаю, поймете, если зима только подходила к концу.
Но «он» избежал столкновения, лишь вопрошал: «Говорят, вы не свободны?» А это еще откуда он знает? И почему он так решил? «Я что, рабыня? Или прикована к своему Петру? Любовь – это не несвобода», — Оля кусала губы. Она и сама не понимала почему, но эта переписка начала выводить ее из себя. И другие студенты ее читают, но не вмешиваются?
Она не выдержала: «Да. Но в чем дело? Мой любимый представляет дворняжку, которая спит у моего порога...»
Ответа не было. В перерыве между парой перед лекцией горного дела подруга передала Ольге записку от Петра. Он писал: «Оля, встретимся сегодня в шесть часов в парке. Сказать надо кое-что». «Он просил что-нибудь передать ему?» — спросила Оля подругу. «Нет, ничего, только, говорит, записку передай, и чтобы она обязательно пришла!»
На эту лекцию преподаватель явился взвинченным, и с первых же минут начал тщательно следить за студентами, чтобы они писали конспект и не вели посторонних разговоров. Оля, сидящая с подругой на одном столе через человека, вынуждена была ей написать записку.
Почему она это сделала? Да просто, чтобы показать, похвастаться своей независимостью от Петра, а то подруга явно подумает обратное. Оле нравился Петр, но диктатуры терпеть она не хотела.
«В гробу я его видела, этого ... (указывалась фамилия). А лижется он хорошо, ничего не скажешь!» – вот что было в ее записке. Подруга поняла и с невольным восхищением посмотрела на Олю. Затем порвала и бросила небрежно обрывки в стол.
Кончились лекции и Ольга, чтобы не являться к шести в парк, предложила знакомому парню из своей группы сходить с ней в кино. Уговаривать долго не пришлось. Они посмотрели фильм, погуляли в парке. От провожания она отказалась наотрез.
Он стоял и ждал ее у калитки. Долго ждал, уж более часа. Он – это Петр.
А дальнейшее напомнило сон, сон наяву.
«Где была?» — спросил он ее хмуро. Она обрезала: «Это что, допрос?» Но Петр не среагировал на реплику и медленно процитировал: «В гробу я его видела... А лижется он хорошо...» — и не дав опомниться Оле, протянул ей склеенную записку. Почерк он ее знал. «Значит, тебе нравится, как я лижусь? Хорошо. Ты довольна, значит? — и зло выкрикнул. — А я нет!» Он резко схватил Олю за руку и бросил ей прямо в лицо: «...Говорят, вы не свободны? Да. Но в чем дело? Мой любимый представляет дворняжку, которая спит у моего порога...» Узнаешь? Это все я тебе писал и отвечал, хотел посмотреть, что из этого выйдет! Откуда я узнал, что ты сидишь на предпоследнем столе в первом ряду? Да увидел просто. Нет, нет, не кукла ты... Эх, кукла ты!»
Это была низость, низость, низость, какой еще не знала и с какой еще не сталкивалась Ольга. Гнев захлестнул ее, стыд охватил ее лицо и бросился в щеки, губы алой краской. Она вырвалась и побежала прочь, прочь от Петра, прочь от своей первой наивной любви.
Из-под ее ног выхлестывался посеревший последний снег этой зимы...
* * *
Шли дни, недели, месяцы. Петр пытался вновь и вновь встретиться с Олей, но она упорно избегала его. Да и сам Петр то ли остыл по ставшей легкомысленной, как он стал думать, Ольге, то ли появились у него новые увлечения. Защитив диплом и получив направление в Комсомольск-на-Амуре – город его давней мечты, Петр на прощанье все ж зашел к Оле. Свидание прошло вяло, но о переписке они договорились. Быть может, всколыхнутся их прежние чувства, увлечение, любовь? Но жизнь решила по-своему. Каждый человек – кузнец своего счастья и сам несет и должен отвечать за груз своих поступков.
... На преддипломной практике Петр ненадолго сошелся с одной из украинских девушек. Уезжая на дипломирование, он забыл про свою мимолетную связь. Но, оказывается, на свет появился сын. И его подруга, решительно собравшись, подалась с ребенком к родителям Петра, а те уже отослали их по прямому назначению – к Петру в Комсомольск-на-Амуре. Новоявленная жена с их сыном появилась в этом дальневосточном городе вовремя – Петру к этому времени выделили квартиру. Прожив несколько лет супружеской жизни, Петр по своей привычке «стремиться подальше и уходить от преследований» попытался разойтись с женой. Наверное, он все же не мог забыть Ольгу.
С Олей первое время они переписывались. После того, как Петр неожиданно «женился», переписка прекратилась.
В будущем судьба отведет им две встречи: первый раз в Красноярске в 1973 году, и следующий раз – и последний – в аэропорту города Челябинска в 1980 году. Петр приехал в Красноярск на курсы повышения квалификации, нашел Ольгу, работающую здесь по направлению, и засыпал ее в буквальном смысле цветами. Плакался, а Оля все не могла понять, как все же ей относиться к Петру. Он уехал через месяц, не получив обнадеживающего ответа.
В 1980 году Ольга в один из августовских вечеров стояла в очереди к администратору гостиницы аэропорта города Челябинска. Ее муж с дочкой на коленях ожидал в кресле. На следующий день им предстоял вылет в Киев. И тут молодая женщина заметила человека в голубом костюме, отошедшего от кассы к главной лестнице гостиницы. Это был Петр. Он вел за руку светловолосого мальчишку, свою маленькую копию. По возрасту мальчик был таким же, каким должен быть первенец Петра. Куда они летели? На Украину, к родителям Петра? В Комсомольск-на-Амуре? Или еще куда-то? Они медленно уходили, но Ольга даже не пошевельнулась вслед.
Письма без судьбы
Было это иль не было – уже не верится. А что может быть страшнее неотправленных писем, писем без адреса...
Все эти три нижеперечисленных (пересказанных, точнее) письма – неотправленные, написанные некогда и в ничто, письма без судьбы... Письма, мертвым грузом лежащие в нижнем ящике письменного стола... Письма, имеющие своих адресатов, но так по воле судьбы и не имеющие права дойти до своих адресов.
И кажется, что они, эти «трое», идут из прошлого в будущее и здесь даже варианта «прошлое будущее» не имеет места быть, скорее быть тому, что прошло будущее, да и не могло его быть в действительности. Это, конечно, скорее сложно для человека обычного, обычной жизнью живущего, но да скорее всего все мы такие, не герои на сверхбольших дистанциях.
Мне знакомы авторы этих писем. Первые два письма написал один человек, третье письмо – другой человек. И в чем-то и зачем-то судьба повязала судьбы этих людей – отправителей писем и их адресатов.
В письмах этих даже и менять что-то не надо.
И желательно – лучше ничего не менять. Не стоит оно того. Зачем издеваться над человеческой памятью.
Вот примерно как оно будет выглядеть – это действо в трех сценах на подмостках самого грандиозного и знаменитого театра в мире, который называется «Жизнь людей»... И в котором мы все актеры? (А в таком случае дадут ли нам звания «заслуженных» иль народных?)
ПИСЬМО ПЕРВОЕ
Здравствуй!
Дорогая моя, последний крик души, ты письмо-то не рви сразу, последнее.
Постараюсь коротко и ясно. Я всегда помню твое: «Молча взял и ушел и неизвестно насколько».
Я тогда был на Урале последний раз в 2010 году так неудачно – только с кладбища своей старшей сестры...
Всегда опаздываю на похороны.
Вообще-то, знаешь, я хотел бы с тобой поговорить и посоветоваться вот о чем.
Я знаю, ты мне скажешь.
Отгадай мои загадки.
Сможешь? Ты у меня человек подкованный.
— Почему часть II моей рукописи «Залп» называется «29 лет спустя» (дословно)?
— Почему я «обрек» своего героя на 10-летние скитания (по С. и Ю. Америке)?
Отвечаю: я начал в шутку и раскрутил «америк»-роман 1832-92 гг., который написал буквально за год (как я всегда «шучу и смеюсь» – моя дипломная работа 1972-73 гг...).
Так почему ж ты меня встретила тогда в 2000 году фразой: «через 29 лет?» И почему я не был на Урале с 1991-го по 2000 год?
Но и ведь это не все. Я написал в 2006 году очередную рукопись, ты ее видела, где «герою» светила кончина от кровоизлияния в мозг (инсульт, правильно называется?).
... Сейчас жена моя умерла от этого самого зимой этого года.
Сам я жив и считаю, что моей дочери пока нужен.
А знаешь, жена моя под занавес совсем раскрепостилась... Я смолчал, а ее понесло «не в ту степь»; и что совсем глупо и непонятно: приходит ЕЕ КАДР, приносит ЕЙ посылку, блестит своей тупостью, а сам не знает, что его «Джульетта» умерла.
Тебе это уже не интересно.
Да простит нас Бог, особенно меня, ни в Бога, ни в черта, только в людей и особо в своих верующего!
Слушай, так я знаю свой «УДАР»... – так, что ли, получается?
Ну, прощай! Я свои точки отсчета и знаки препинания знаю: 22, 44, 66... Дочь аж вздрагивает и «рычит» на меня – спасибо. Значит, я еще кому-то нужен?
А тебе? Ты мне – да! Прощай.
Еще не закончил.
Отец мой в войну подорвался на немецкой мине... Слава Богу, спасли. Я уже говорил – и для меня святое: для всех та война закончилась в победном 45-ом, для моего отца – в военном госпитале весной 46-го.
Да я не к тому, просто увязываю, потом отец спрашивал иногда у меня с Севера спирт – я удивлялся... Сейчас понимаю: только спирт (вместо наркотика) идет на переломы и травмы ног... Моим ногам тоже «хватило», да и мой младший брат успел где-то подрезать сухожилия именно на правой ноге.
... Я отлично знаю и ведаю, что если возьму в «зубы» костыль – то мне, значит, отмеряно всего лишь два года...
А я должен «доплыть» до своей отметки в «66». Где уж мне до Бати, до его 80! (вроде – «копытные», те же ноги ноют, но вот видно «закал» не тот!)
Старый стал, замерзаю в своем Благом Регионе (куда и жить прорвался)... Весь в шрамах и все «сибирско-экспедиционное» так и хочет вылезти погано вперед. Плохо, одним словом, но и крепеж есть: если не мы – то кто?
Вот видишь – «бросай», а оно у меня пред тобой и не получается.
Судьба меня всегда миловала, «дружила» со мной, даже когда убила полтора десятка человек в «знаменитом» взрыве на нашем карьере в 1992 году.
Повторяюсь? Молчу.
Да и прежде – на Севере! – не замерз и не сдох. И то спасибо.
А хочешь, Зоя, в шутку отвечу: каково мое образование (кроме «кучи» дипломов)...
Отвечаю:
— 10 лет школы + 5 лет института + год целый всякого разного повышения квалификации + капитан запаса, ком. бат. артиллерии + «помог» дочери, ее швейному образованию и школе + другим горным спецам...
В общем, я не в обиде!
Но я уже не верю ни во что, меня не примут, у них найдется множество причин.
Ты знаешь, а ты – молодец именно сейчас! Я понял: ты знала свой путь, а меня несло по кочкам, так? Для тебя лучше, или для нас было и стало хуже...
Но ты-то здесь причем...
Вот только за давностью лет несет кто ответственность??
ПИСЬМО ВТОРОЕ
Добрый день, Павел.
Или же вечер добрый, скорее всего, одним словом – здорово, будь здрав!
Здравствуй и Лена, к вам мой большой и особый хороший привет; что бы МЫ, муж-чины (-ланы) без вас делали и «творили»? Ответить забоюсь, несмотря на свой возраст.
Ну, здравствуйте, дорогие мои! К вам – я, Фома родства не знающий. Низко кланяюсь и надеюсь, что не забыли такого «варяга викинга».
Немного расскажу про свой отпуск 2010-го. Умерла моя старшая сестра летом предыдущего года (возрастом лет 62-х, работа в атомной промышленности). Надо ехать! По своему графику, по обстоятельствам, по личным причинам получилось только в 2010 году.
... По личным причинам – я получил там отставку, «отлуп» (так говорил дед Щукарь в «Поднятой целине»);
... по обстоятельствам – как хотел подъехать до Урала в 2010 году, так и получилось.
Горько, не очень хорошо!
Но да ладно: побывал в Березовой Роще (так называется городское кладбище моего родного города), лежат мои голубки рядышком – отец, мать, сестра; я же живой, выпил там водки за их упокой...
Хотел по пути, по ж/д дороге Воронеж – Златоуст – Челябинск, увидать «твою морду» – П. А!! – да не удалось... Проводница по моей просьбе открыла вагон, откинула железный трап... Ну и я высматривал – когда, кто и где? Давал же телеграмму. Остановка – две минуты; наконец удача в жизни меня покинула – вагончик тронулся, судьба осталась.
На площадке торчал баул, который я мечтал тебе передать, а проводница – нет, не укоризненно, соболезнующе смотрела на меня (ибо я глядел во все стороны, успел попрыгать даже на перроне со своим «кульком»... – но на нет и суда нет).
Тебе приготовил в сумке: бутыль 1 л. водки «Белгородский герб», 0,5 л нашей местной водки, сигареты с фильтром плюс «Тамбовский волк», Пикуль «Романы-газеты» и современные его издания, рыбищу копченую с Волги – и что-то еще... Да видно, не судьба. Не денег жалко. Чихать я на них хотел; не были богаты... Были времена и покруче... Подешевле.
В Челябинске в какой-то странной спешке я «его» – баул твой – и подзабыл в своем купе – две руки занял сумками – вез подарки и раритеты своим родственникам и знакомым. Третьей руки не оказалось! Во возрадовались, наверное, проводники; впрочем, прекрасные девчонки и спокойное обслуживание.
Когда я уже десантировался в Челябинске и пробежал со своим багажом полдистанции, я вдруг вспомнил, что упустил!
Удачу!
Шанс был. Еще остаточный. Но с багажом о двух руках через «тернии к звездам» - тогда бы я порвался...
Бог дал – Бог взял.
Что ты там говоришь, Павел? Бубнишь что-то. Всегда уважал тебя за жизненную резкость и правду...
На том и стоим.
Я твоей Елене желаю всяческих благ и здоровья. Дай Бог ей всего наилучшего. И тебя в придачу.
Моя Елена умерла. Похоронили зимой этого года на местном нашем городском кладбище (называется «Каплино»). На 58 году жизни. Что-то вроде инсульта или кровоизлияния в мозг (не медик я). Под старость стала такая кругленькая и толстенькая... Прожили мы с ней 37 лет, ведали нищету и горе, всегда жили далеко от своих родителей и «вставали» всегда сами на ноги. За что и благодарен ей, а остальное уже не столь важно...
Вот вроде бы и все, мои командиры. Я не знаю, будет ли от вас ответ... Да так ли он сейчас уже нужен. Заботы земные гнут – стоит ли раскошеливаться на внимание для других?
Ох полным полна коробушка злата, забот, добра...
До свидания. Писал 28 августа.
И письмо третье. Последнее, крайнее, написано-нацарапано пьяно-нервным дурным почерком первоклассника на четырех разноформатных листах... Видно, не водилось в том доме письменной к случаю бумаги.
Но тут уж нам без переводчика не обойтись.
Итак, слушается Письмо Третье.
... Дословно, при всех поставленных там знаках препинания и той орфографии...
ПИСЬМО ТРЕТЬЕ
Хелена – Елена – Коханная!!!
Заносчивая. Задавака – выше крыши. Конфликтная. Комплексует по поводу.
Уважаю Ваш Выбор – «Растоваяние маленькая смерть».
Умоляю! Забрать Иконку!!!
Иконка – ваша Защита и Поддержка вашей семьи.
Слава Богу – вы убегаете, бросаете, улипетываете – это не
Вашем стиле, не симпатичное – не Ваше выбор-решение. Под воздействием обстоятельств: эмоций, чувств – не оцененных.
Не дарил цветы и т.д.
Негатив опускаем, потому, что – это не прияно лично. «Прощальная гастроль» –как говорил Буба в фильме «Неуловимые мстители».
Благодарная. Улыбчивая. Тактичная и деликатная, на словах, а в душе кто Ее знает? Не понятная – ?
Не Доступная. Не расшифрованная. Щедрая и Высокомерная – по Статусу она выше других людей.
Романтик в душе и практичная по жизни. Заложница мнительности.
Затворница невероятная (в данный момент). Не унывающееся (как цыгане).
Потрясающееся Интуиция и Анализ окружающих чужих для Вас людей, Потрясает.
– Выще всяких Похвал.
Вы, не винтик, а ключик. Вы, в молодости были, Победитель вне всякого сомнения, с большой Буквы. Если Вас не затруднит, то подайти своему Любимому «Полковнику» – Поклонник смысл, в его название. – Пива.
Шутка, юмор – не удавшийся. Пся крев.
Ваш, не оцененный, Верный и, увы, Жестокий Поклонник.
Хелена! Благодарная, Улыбающаяся.
Не востребованая теперь. Тоска,
Депрессия у Вас – ? Только не растраивайтесь . Вы Сильная – Благородная, Одаренная внутри. Ваше Теплое – душевное состояние не оставят Вас – надеюсь – Вы вы выживете. – ? Щедрая и Талантливая Вы Не такая, как все. Вы особая. Вы Личность!!!
Люблю – до слез!!!
До гроба!!!
(Обратная сторона)
5/VIII – 2011г.
Мысль – мысль о Вас греет
меня, постоянно будет, будет,
будет – до конца жизни.
Постоянно Ваш
Елена, до конца жизни
буду помнить о Вас Вы
девушка – женщина, несмотря
ни на что, остаешься
молодой – Вне Возраста.
Вы загадка, тайна для
моей психики. Моя Психика
– загипнотизирована, быть
может так, но это искрене,
без лукавства. Как в песенке
поется «Только знай, что
в конце пути – никого уже
невернуть».
Вы настоящая женщина –
это звучит гордо.
Вы остались в моей образной
Памяти: как «Далекая,
Да-ле-кая Звезда –
светит, но не греет». Сейчас
увы. Поддержка нужна.
Не осталось, у Вас, на Белом свете
никого , кроме, вашей семьи. И
надежного, смею утверждать,
Вашего Поклонника.
Я робко, надеюсь, надеюсь
Надеюсь, что – это – было так
«Надежда – умирает
последней». Это факт.
Вы тонкий психолог.
Убедился в этом.
Блефовали, мучили меня.
Я верил и не верил. Ну что
моя обида, такая
маленькая: по сравнению
с моими – эмоциями и
чувствами. Это ерунда, чушь
сплошняком бежит.
Всегда Ваш
Учтите! всегда.
В другой жизни Вы дождитесь меня, хорошо.
Окей.
(И еще лист четвертый):
Послесловие
К сожалению, по Вселенским
масштабам, мы, люди,
живем – мгновение. На
Белом свете. Мы артисты –
все играют, независимо, по статусу в котором
живем. Мы все стараемся подвигнуть нашего Поклоника
вызвать в нем: эмоции,
чувства, переживание и
на конец, счастье и любовь –
для меня, эти слова взамиосвяз
Остается – уважение, долготерпе-
ния – надеюсь, после долгой
Разлуки, мы встрестимся
с Вами. (Хотя бы из далека).
Послание – это лично для Вас.
Хоть, изредка, перезванива-й.
Ваш верный Поклонник.
Поддержи...?
(письмо заканчивается номером сотового телефона)
* * *
— Что? Да, это почта! Повторяем для бестолковых – письма без права на отправление, указанные в них адресаты выбыли, найти их не имеем возможности. До свидания.
Этот мир так полон странностей и чудес.
Последний поворот
1.
Зазвенел телефон. Дежурный капитан ГАИ Пархоменко поднял трубку.
«Алло! Пархоменко слушает. Да. Понял. Где? На третьем километре?! Ясно. Подробности выяснили? Хорошо, продолжайте. Выезжаю, ждите».
Милицейский газик стремительно рванулся с места и помчался по узким улицам города, поблескивая на ходу синеватым проблесковым огоньком.
Все было буднично, без сирены и «зеленой» улицы – обычный выезд по тревоге. Капитан, скромно притулившийся рядом с шофером, пытался припомнить тот отрезок дороги, где случилась эта катастрофа (если проще – авария). Наконец вспомнил: если ехать из аэропорта в город, то, не доезжая до городской черты, мы должны проехать крутой и опасный поворот, последний перед городом. Было время, когда этот поворот был крутым и опасным, и даже последним для многих. Однако реконструкция дороги, проведенная лет восемь назад, свела опасность поворота почти на нет, и лишь пьяный водитель или новичок могли неожиданно врезаться в скалу, выступающую в этом месте. Пархоменко откинулся на спинку сидения: «Что странно: те, что едут из города, имеют больше шансов свалиться с дороги под обрыв, а получается наоборот – скала с другой стороны привлекает внимание автоинспекции, хотя, кажется, должно было бы быть наоборот».
Капитан обернулся назад, где сидели фотограф и эксперт, глухо спросил: «Уже в курсе?» Нет, они не знали причин вызова. Пархоменко стал объяснять: «На третьем километре – я предполагаю, что в районе последнего поворота – случилась авария: в скалу врезался легковой автомобиль, а затем его сзади поддел тяжелый самосвал». Что такое «последний поворот» – объяснять не приходилось, все работники ГАИ знали тот поворот как «последний», хотя для водителей он был обычный, рядовой, и скажи шоферу «последний» (в понятии ГАИ), он бы не понял, и более того – удивился.
Пархоменко собрался было объяснять дальше, но махнул рукой. Лишь буркнул напоследок: «Остальное увидите по ходу дела».
Подъезжали молча. Газик завизжал тормозами задолго до места происшествия. «Уже вечер, а сколько зевак-то! — выругался капитан. — Опять, наверное, эти туристы! Вечно суются туда, куда их не просят и где их не ждут». Все трое вышли из машины и начали пробивать себе дорогу. Впрочем, заметив их, толпа раздалась в стороны, образовав узкий коридор, и Пархоменко со своей свитой, как почетные гости, уже легко и просто двинулись к ожидавшему их лейтенанту ГАИ.
«Пархоменко», — представился капитан. Этого молоденького лейтенанта, недавно работающего в органах автоинспекции, он знал. «Я-то его знаю, а вдруг он меня еще не знает», — оправдался перед собой Пархоменко. «Рассказывайте!» — приказал он ворчливо молодому офицеру-милиционеру. Странная его привычка – бурчать – появилась у капитана только здесь, в этой местности, где он работал уже столько лет, а все еще не мог привыкнуть к местному жителю, закарпатским пейзажам.
По-быстрому разогнали туристов и зевак, выяснили общую картину.
...Шофер автосамосвала, молодой парень, заметил в боковое зеркальце обгонявшую его легковую автомашину. Вот такси зажглось левым сигналом поворота и пошло на обгон. Здесь, в непосредственной от последнего поворота близости на такое мог решиться только опытный водитель. Но шофер «легковушки» именно был таким. С десяток метров машины шли рядом, затем такси, показав правый поворот, начало выходить на прямую. И тут... Что такое? Шофер автосамосвала удивился – такси по-прежнему не выворачивало на правую сторону или же делало это слишком медленно. А скала вырастала на глазах... «Ну и... — шофер грузовика развел руками. — Я не ожидал такого поворота дел». «Чего не ожидал? — переспросил механически капитан. — Что будет поворот? Ты что, не местный?» «Да местный я, товарищ капитан. Просто не успел вовремя затормозить», — парень запутался в своих объяснениях.
Пархоменко внимательно взглянул на него. «Вот что, дай-ка права!» Шофер с унылым видом залез в нагрудный карман и протянул их милиционеру. Тот быстро просмотрел их и что-то записал в свой блокнот, потом вскинул глаза на шофера: «А теперь иди вон к тому, это наш эксперт, и помогай ему выяснять общую картину твоих действий. Посмотрим, прав ты или нет. Да не забудь права, я их долго не собираюсь протягивать – может, они тебе еще сгодятся...» Шофер повернулся и пошел к эксперту. Вдогонку полетели слова: «Знаешь, где ГАИ? Так вот, завтра зайди ко мне после обеда. Спросишь капитана Пархоменко. Ясно?!
... Пархоменко почему-то тяжело вздохнул, оглянулся на редкую цепь зевак, затем перевел взгляд на «скорую помощь». Медленной грузной походкой подошел к ожидавшему его врачу.
«Сколько пассажиров вез таксист?»
«На счастье – всего лишь одного».
Замкнутое лицо капитана тронула непонятная усмешка. «Значит, на счастье...» Заметив, что врач пытается что-то объяснить, Пархоменко отмахнулся. Коротко, как-то оперативно и официально спросил: «Каково их состояние?»
... Любил он шоферов. И не напрасно. В молодости он, еще будучи юнцом, работал шофером на целине. А каково это, особенно в казахстанских степях, да если еще и зимой?! Опытный шофер, прошедший огни и воды (о медных трубах в этом случае говорить не будем), побывавший и в более грозных переделках, на улицах города и под его светофорами чувствует себя намного спокойнее, чем в те времена на целине. Страшно вспоминать, когда по широкой и необозримой казахстанской степи рванут и ударят по земле порывы знаменитых целинских метелей. И тогда...
Как-нибудь дотянет
Последнюю милю
Твой надежный друг
И товарищ мотор...
... Но есть среди шоферов, таких отважных и отчаянных людей, подонки. Почему-то Пархоменко не признавал среди людей этой профессии третьей категории, делил так – или никуда не годен, или же со временем станет опытным шофером, настоящим человеком.
К какой же категории относился этот таксист, молодой еще парень, на вид лет двадцати пяти?..
... «Каково их состояние?»...
Такси мчалось по нейтральной полосе, будто и не думая сворачивать на полагавшуюся ей правую сторону. «Что-то случилось, — подумал шофер грузовика, догонявшего «легковушку». — Может, что с водителем?» И в следующий миг резко ударил по тормозам. Но поздно! Удар такси в скалу, визжание тормозов, юзом идущий тяжелый грузовик, глухой удар! И все прочее, без прикрас...
«Мы еще нужны? — спросил врач «скорой помощи», видя, что капитан начал о чем-то горячо спорить с экспертом. — А то положение у них тяжелое, оба без сознания». «Могло быть и хуже, — пробормотал капитан. — Если бы не реакция шофера грузовика и затем его своевременная помощь». И добавил: «Вези. Скажи только в какую больницу». Капитан записал адрес в свой неразлучный блокнот и предупредил напоследок: «Передай лечащему врачу, что к нему, точнее – к этим пациентам, я скоро зайду. Прямо в больницу, часа через два. Пусть будет готов к моему приезду».
Машина «скорой помощи» взвыла сиреной и помчалась по шоссе в направлении города.
Дела. Фотограф щелкал, эксперт лазил с рулеткой и блокнотом по полотну дороги. Капитан и шофер грузовика помогали ему. Наконец, с делами покончили.
Вызвали кран, загрузили искореженное такси в грузовик – пусть полезное дело сделает – и всей кавалькадой двинулись в город. Там сдали такси под расписку: вручив повестку шоферу грузовика, отпустили его вместе с машиной – езжай с богом. Потом, подъехав к больнице, ссадили капитана и уехали в управление ГАИ – заканчивать на сегодня дела.
Врач встретил его в дверях, одетый. «Вы уходите? — сделав вид, что переполошился, спросил Пархоменко. — Уже? А как же я?» Его собеседник усмехнулся: «Да пора уже, причем давно. Ради вас и задержался: два часа уже жду». Капитан встрепенулся: «Тогда не будем терять времени, пойдемте к ним!» Лицо врача нахмурилось: «Пойдемте на автобус лучше, по дороге вам все расскажу. Да зря не надейтесь, не попадете вы сегодня к пострадавшим. Хм, врач «скорой» однако прав – вы тяжелый человек... Похоже! Тем более скоро уже ночь, а вы еще пытаетесь ворваться в палаты!» Он взял капитана под руку, с силой сжав ее. «Не надейтесь ни на какие ухищрения – дежурный врач мною предупрежден!»
Суть была ясна – свидания не состоятся, положение больных тяжелое, можно позвонить завтра вечером и узнать подробности за прошедший день. Больше врач ничего не сказал, лишь добавил: «Завтра дежурю я. А теперь – до свидания». Они пожали друг другу руки и молча разошлись – дома их ждали нервничающие жены...
2
Утро вечера мудренее. И утром Пархоменко, как всегда стройный и подтянутый, пошел к себе на работу.
Тот же кабинет, папки, стол. Та же работа. И мысли вновь одолели капитана...
«Какова же причина аварии?» — Пархоменко закурил, медленно прошелся по кабинету.
«А может не стоит соваться так рано в отгадку? Единственное, правда и весьма важное обстоятельство, о котором сообщила медэкспертиза – шофер такси был абсолютно трезв. Чтобы не строить догадки, был ли водитель опытным малым в своей профессии, не лучше ли запросить о нем с места его работы? Да, это, пожалуй, самый лучший вариант, который поможет не удариться мне по ложному следу». Капитан усмехнулся: «Философствую, иду сложным путем, какой нам предписывается по долгу службы, хотя уже интуицией чувствую, к чему приду. И недаром: за плечами – много лет работы, много ночей службы и поисков, на плечах – капитанские погоны, и времена «пустопрогонника» для меня давно миновали».
«И всё же по порядку!» — Пархоменко нажал кнопку. Через несколько минут в кабинет по вызову вошел помощник капитана – лейтенант ГАИ Петр Волонтайчук.
«Петр, — голос начальника звучал глухо. — Попрошу съездить тебя в наш таксомоторный парк и узнать про... Про...» Пархоменко замолк, потом порылся в бумагах, лежащих перед ним. «Про Виктора Дзинцского, шофера такси. Номер автомашины, на которой он разбился...» Капитан снова заглянул в бумаги и сказал номер машины. Помедлив, добавил (исходя из непредвиденности обстановки): «Если на этой машине Виктор не числится, то значит должен быть записан на другой – у таксистов это часто случается. Но тот факт, что Дзинцский – таксист, должен быть неоспорим: возьмите его водительские права. Но все же должен быть... А точнее сказать не могу. Но, в общем, сами, по обстановке».
«А кого ловим-то?» — поинтересовался Петр, протягивая руку за окровавленными правами. И вздрогнул, заметив порыжевшие ржавые пятна крови на обложке удостоверения.
Капитан спокойно улыбнулся в ответ: «Понял, Петя? Не ловим, а выясняем. Эти права вместе с его обладателем побывали вчера в аварии. Шофер в больнице, участь его не ясна. А мне тоже ничего не ясно – врачи не пускают ни к нему, ни к другому. Чему ты удивляешься? А, я же тебе не объяснил, кто второй. Это пассажир».
Волонтайчук вышел. Капитан подошел к окну, понаблюдал, как молодой лейтенант сел в машину и выехал, затем снова сел за стол.
«... Шофер молод. Но так ли уж мал его стаж за баранкой?» Рука капитана механически потянулась к трубке, вторая набрала номер больницы.
До капитана только тогда дошел весь смысл сделанного, когда он услышал знакомый голос врача.
«Я слушаю. Капитан, вы ли это? О, не ошибся, значит. Вы по поводу здоровья своих подопечных или опять будете набиваться на свидание с ними?»
Он не дал капитану даже заговорить или оскорбиться. «Извиняюсь, что не разрешил ехать вам со мной вчера. Толку бы все равно не было – они оба были в тяжелом положении. И сегодня то же самое, с единственной лишь разницей, что один выпутался из смертельной передряги и будет вскоре вылечен, у второго – очень и очень дрянное положение». Наконец капитану удалось втиснуть свою фразу в этот поток тяжелых и весомых слов: «Они у вас в одной палате?» На что получил ответ: «В разных. Таксист – в одиночке, а второй парень – в одной из общих палат».
В трубке послышался разговор врача с кем-то из подошедших к нему. Тон нечаянно подслушанного разговора был взвинченный: «Что случилось? — не выдержал капитан. — Алло! Вы меня слышите? Что случилось, я спрашиваю!» Наконец в трубке раздался спокойный бас врача: «Алло! Вы еще не бросили трубку? Да ничего не случилось! К парню, этому тяжелому, ну таксисту... Да, таксист лежит в одиночке. Нет, не должен путать... Виктор Дзинцский – под угрозой, вот он и лежит в одиночной палате; так вот, к нему и пришла какая-то девушка. Рвется, говорит, пустите к нему».
У капитана мелькнула в голове великолепная идея. Просто так к Виктору не прорвешься, не дадут врачи, а тут удачный случай подвернулся – может за девушкой вслед и он проскочит к Дзинцскому. Хотя, конечно, понятно, что тот в тяжелом положении, но и дело ведь не ждет.
Капитан придал своему голосу жалость: «Будь человеком, пусти ее к нему. Может она любит его. Что? Она так и говорит, что любит... Так вот, в чем же дело – давай пускай. Да ты пойми, это не только мне надо, в любом случае мы должны быть людьми! Да, ты верно сказал, что и я скоро подъеду. Я должен это сделать, ибо в противном случае все нити расследования порвутся. Почему? Да потому что сегодня утром я пытался узнать о родителях Дзинцского, думая, что они живут в нашем городе – мне ответили, что таковых здесь нет, а потом через час сообщили, что они умерли здесь несколько лет назад.
А что мне данные про второго скажут? Ведь это просто был пассажир. Да, знаю, что его родители здесь живут, знаю, что он из местных. Точнее, узнал. Что???»
Так капитан узнал от врача, что, оказывается, таксист и его пассажир знают друг друга. Пассажир (его звали Александр Санкевич, что подтверждается документами, найденными при нем; и вообще – весь вид, содержимое чемодана Санкевича говорило о том, что он будто явился на отдых, в отпуск, на каникулы), придя под утро в сознание, спросил: «Где я?» Его успокоили, ответили, мол, он в больнице и что опасность миновала. Тогда Санкевич перевел вопрошающий взгляд на врача: «А друг мой?» «Какой друг? Вы же, Санко, один ехали!» «Как один?» Они не понимали друг друга, пока Санкевич не сорвался: «А водитель? Он что, не человек? Я же о нем говорю, о Витьке Дзинцском! Что с ним? Жив он?» И столько тоски, нетерпения и печали было в его вопрошающем взгляде, что врач не решился сказать ему правду, пробормотал лишь: «С ним все нормально, Санкевич». Но больной не поверил, уловив в глазах врача смятение: он заерзал в постели, и хотя гипсовые панцири не давали ему возможности подняться (над Санкевичем трудились всю ночь, приводя его в должный порядок, промывая и загипсовывая его избитое и переломанное тело), Александр потянулся к врачу. Как-то механически, сам того не понимая, что делает. И потерял сознание.
«Не очнулся до сих пор, — сообщил врач капитану. — Страшно избит и помят, но выживет и полностью залечится. Будет в полном здравии и даже не калекой». Пархоменко понял, что пора действовать, пока врач не бросил трубку, ибо даже непосвященному было ясно, что разговор подходит к концу. И капитан, повышая голос, закричал в трубку: «В общем, договорились: пускай эту девушку к Дзинцскому, а я сейчас подъеду. Все, жди!» И офицер эффектно, в самый апогей разговора, который должен был вылить на его голову ярость и удивление врача, бросил со звоном трубку. Неприятности встречи с медицинским светилом (так врачей величали в ГАИ) отодвинулись на некоторое время.
По расписанию наступал обед, но Пархоменко помчался вместо столовой к шоферу служебного легкового автомобиля. Еле-еле, но уговорил.
Больница помещалась в другом конце города. Но шофер, подгоняемый голодом и увещевательными речами капитана, в мгновение ока довел машину до цели. Автомобиль, резко завизжав тормозами и оставив за собой черный сплошной след протекторов, остановился как вкопанный. Капитан, кивнув шоферу на ходу «Можешь быть свободен», ринулся за больничные двери.
Здесь его уже ждали. Врач, скрестив могучие волосатые руки на груди, был похож на кулачного бойца, мечтающего только о том, чтобы набить морду этого наглого милиционера. Капитан понял это сразу, и мнение еще больше укрепилось головомойкой, которую устроил для его головы и погон врач.
«Что, если вы работник ГАИ, так можно ломиться куда угодно? Можно делать, что хочешь? Что, обязательно требуется шуметь перед больницей? В общем, и так далее...»
Капитан не знал, куда ему деться и уже не думал, что его недавняя гениально продуманная цепь событий рухнет. Но... врач смилостивился и повел Пархоменко с собой в палату Дзинцского. «Только все делается по моей указке. Хотя бы на первых порах, — добродушно предупредил врач капитана. — А теперь надевайте халат».
Они приостановились у матовых дверей палаты Дзинцского, уже собираясь войти. И вдруг капитан остановился, услышав разговор. Нетерпеливо вцепился в рукав врача: «Что там?» Тот в недоумении пожал плечами: «Ох, капитан, и несносные у вас привычки! Как – что там? Та девушка, которую вы требовали пропустить к Дзинцскому». «Пойдемте, что ли?» — врач остановился в недоумении, заметив, что Пархоменко прислушивается к разговору и не двигается с места. Но капитан Гаи взглядом оборвал врача, приказав замолчать, и тихо, но жестко прошипел: «Ни с места. Так надо».
Через стекло и дерево дверей пробивались слова, сливаясь во фразы, предложения, суть дела. «Это, конечно, подслушивание разговора, насильственное вмешательство в чужие мысли, но... сие необходимо мне, — оправдывал себя Пархоменко. — Хотя я и имею кое-что, но все же недостаточно, чтобы закончить следствие по этому дорожному происшествию». Врач молча и бесстрастно стоял рядом.
А из-за дверей доносилось...
«Виктор, я не могу ответить на этот вопрос. Не хочу, не желаю». После долгой паузы, что видно объяснялось сильной ослабленностью организма Дзинцского, последний негромко, но четко произнес: «Лжешь, Ольга, можешь! Даже надо. Ты знаешь, что я любил тебя, любил всегда, но почему-то не получал взаимности». «Витя, — раздалось в ответ, — молчи, что ты говоришь! Я ведь тебя тоже люблю! Почему ты говоришь «любил», почему в прошедшем времени? А сейчас, выходит, не любишь? Почему? Но все равно – я люблю тебя! Долгое время я была на распутье жизни, кляла ее, что она принесла мне столько обид и горечи». Речь Ольги была несвязной, торопливой, чувствовалось, что она говорит сквозь слезы. «Любишь? — перебил ее тихий голос. — Я не убедился в этом. Я предлагал тебе выйти за меня замуж, но ты раз за разом отказывала мне. Может, ждешь другого или я не по душе? Тогда скажи об этом, и я бы не возвращался в своих мыслях к тебе снова и снова. Вот уже как полгода я бьюсь около тебя, как рыба в сети, и не могу выплыть на свободу». «Витя, не говори так! С некоторых пор я стала бояться мужчин...» «Почему же?» «Они причинили мне столько горя, одно лишь горе, искалечили жизнь! И это в самые молодые годы. И одна отрада, что растет у меня сын, смышленый мальчишка. Но и он был бы для меня горем, если бы я не жила у родителей. Это они помогли мне обрести новую жизнь, обрести в своем сыне!» «С тех пор ты не доверяешь ни друзьям, ни тем более мужчинам, так, что ли? Боишься обжечься еще раз?» «Да, Виктор, к сожалению так». «Но мне-то ты должна поверить! Неужели я не доказал тебе за все это время, а, Ольга?» «Витя, я боюсь сейчас уже не тебя. Себя, себя я боюсь и тех сплетников, которые постараются на меня наговорить разной дряни. И ты им в конце концов поверишь...» «Нет, Ольга, я не собираюсь им доверяться!» — твердо отчеканил Дзинцский. Ольга всхлипнула: «Пусть будет даже так, Виктор! Но все равно ты не захочешь знать, от кого у меня ребенок».
В ответ Дзинцский долго молчал. Наконец, после долгой паузы, глухо сказал: «Ольга! А если предположить, что я буду относительно этого нем и глух и приму твоего мальчишку как родного, ты согласишься выйти за меня замуж?» И вдруг рассмеялся: «Ольга, да ведь он же ко мне давно привык, и я его полюбил. Он меня чуть ли не папой зовет...» И снова его настроение сделало скачок – он вдруг резко оборвал смех и грубо, напрямик спросил: «Торгуемся?! Так как, Оля, выйдешь ты за меня замуж? Прошлое мы забудем». «Оно не забывается, — прозвучал голос Ольги. — Ведь у меня малыш». Чувствовалось, что Виктор в ответ вскипел: «Оля, я буду его отцом, родным отцом, а не отчимом. Этим все сказано! Твой ответ – да или нет? Или ты думаешь, что я набиваюсь к тебе калекой после этой аварии?»
Ольга грустно усмехнулась: «Да, Витя, я согласна – выхожу за тебя замуж! А врачи мне сказали, что ты будешь здоров, так что мне нечего бояться за твое здоровье!»
... Капитан победоносно посмотрел на врача – мол, видал, люди счастье свое нашли, хоть и беда помогла, а так, может, еще годы не находили бы общего языка. Каково? Врач ухмыльнулся в ответ – ты-то при чем, по-моему, это их проблема и они ее сами решили. И вдруг оба вздрогнули от хриплого хохота Виктора. Теперь врач вцепился в Пархоменко: «Что он делает... Ведь ему нельзя... Он слишком плох...»
А в палате Дзинцский, еле пересиливая боль, с перекошенным лицом бросал Ольге прямо в лицо: «Ошиблись твои врачи. А точнее лгали, успокаивали; а может быть говорили про Санкевича! Да, Ольга, он приехал к своим родителям на отдых после окончания института. При чем здесь он? Да при том, что я вез его на своем такси из аэропорта. В машине нас было двое, теперь она в ремонте, мы с ним – тоже. Сегодня утром, перед тем, как я потерял сознание, около меня стоял врач и говорил о моем здоровье. Он думал, что я без сознания, и говорил поэтому с медицинской сестрой спокойно. Конечно, кого ему бояться, если я в палате-одиночке. Он сказал: «Здоровье того (это он про Санкевича) – поправится, а этот (это уже про меня) долго не протянет. Максимум – сутки...»
Реакция с каждой стороны переговоров была естественной – Ольга вскрикнула, а Виктор забился в мучительном кашле. Но Дзинцский превозмог себя быстро. «Ольга, твоему сыну сейчас чуть более четырех лет. Это значит, что ты была беременна в... То есть сразу же после окончания школы или же в период выпускных экзаменов... Ты не дрожи! Зная, что я долго не протяну, успокой лишь мое самолюбие – от кого у тебя ребенок? И почему ты вздрогнула при упоминании о Санкевиче... Может тебя интересует, откуда я так точно знаю тот срок? Высчитал, давно...»
Врач рванулся в палату, шепча на ходу: «Ведь он же угробит себя этой болтовней и нервами...» Вслед за ним поспешил капитан.
Навстречу им ударил крик: «Врача! Врача!»
Согнувшись пополам, Дзинцский свесился с кровати. Из горла у него хлестала кровь.
Ольга и капитан были вмиг выставлены за дверь, а в палате засуетились врач и медсестры.
Пархоменко понял, что свидания не видать – помирает человек. Может тогда Ольга в чем поможет?
Но молодая женщина стремительно вошла в отъезжающий автобус и была такова. Вот это да! «Уж не шпионка ли она? — удивился капитан. — Впрочем, незачем наводить поклеп – не вовремя я сунулся, и ей было не до меня».
В третьем часу дня Пархоменко снова сидел у себя в кабинете. А вскоре появился Волонтайчук. Лейтенант начал было докладывать по форме, но потом махнул рукой, присел на стул напротив капитана. Ухмыльнулся.
«Товарищ капитан! А этот парень – стоящий! Кого ни спрашивал – только хорошее говорят». «Петр, — перебил его Пархоменко, — ты что, мне только слова привез?» «Почему же?!» — лейтенант полез в китель и положил на стол характеристику Виктора Дзинцского с места его работы; рядом легли водительские права таксиста.
Капитан глянул на бумажку, лежавшую перед ним и олицетворявшую теперь судьбу молодого парня, почему-то вздохнул.
«Виктор Федорович Дзинцский. Родился 17 октября 1947 года, местный. В школе учился средне, в восьмом классе вступил в комсомол. Осенью 1966 года по призыву пошел в армию. Кончил школу сержантов. Дослуживал в автороте в районе г. Норильска. Награжден медалью «За боевые заслуги» – за бесстрашные действия по спасению людей зимой 1967-68 гг. Комиссован осенью 1968 года. После увольнения из рядов Советской Армии работал на Крайнем Севере до начала 1970 года.
С февраля 1970 года работает в местном таксомоторном парке. План выполняет. Во всех отношениях характеризуется как положительный. Сведения о родителях – умерли весной 1968 года».
«Коротко и ясно», — подумал Пархоменко. И тут же взбеленился, обращаясь к самому себе: «Нет, товарищ капитан, именно не совсем и ясно. Возникает вопрос – почему же такой опытный шофер, как Дзинцский, измудрился врезаться в скалу? Что этому причина? Невнимательность, радость встречи с Санкевичем, психологическое расстройство, переутомление? Ладно, пока все это прочь!» Он поднял голову и обратился к Волонтайчуку: «Петя, ты свободен. Зайди по пути к эксперту и пригласи его ко мне».
Однако первым в кабинет, несмело шагнув через порог, появился шофер грузовика, врезавшегося вчера вечером в такси Дзинцского. У парня было утомленное лицо. «Видно, плохо спал!» — отметил про себя капитан и, не высказав удивления, пригласил шофера сесть. Почему-то удивился: «Как я все вовремя делаю, и эксперт сейчас подойдет!»
С грохотом зашел эксперт. Узнав злосчастного водителя, кивнул ему головой в знак приветствия и сразу приступил к делу.
Разбирали все, до мелочей. Спорили, яростно хрипели, ругались. Вникали и проверяли все материалы до тонкостей: карту движения машин, показатели замеров по протекторам, сведения шофера грузовика, ориентировку по времени, реакцию и знание правил движения обоих водителей (одного заочно). Завалили весь стол фотографиями, схемами, таблицами, талмудами и... окурками.
Через полтора часа пришли к единому мнению, в чем, кстати, сразу был уверен эксперт: действия шофера грузовика были верными (были, однако, с его стороны мелкие ошибки), и не его вина в случившемся.
... Такси дрогнуло, заюлило и вдруг резко, почти перед самым носом грузовика свернуло на правую сторону. «Что такое?» — мелькнуло у шофера грузовика. А из-за поворота показался бортовой автомобиль. И как на грех перед самым грузовиком торчало такси, которое теперь, визжа тормозами, неумолимо катилось к серой громадине скалы.
Надо было выбирать: или податься влево – и сам черт лишь тогда узнает, что выйдет из встречи грузовика с надвигающимся бортовым автомобилем, или же бить по тормозам, ведя машину по едва заметному зигзагу, тем самым увеличивая тормозной путь, который из-за близости впереди тормозившего такси каждую долю секунды уменьшался.
Он выбрал второе...
Эксперт встал: «Товарищ капитан, я свободен? Документы оставляю у вас, протоколы всех опрошенных – тоже». И вышел.
Пархоменко встал, протянул руку шоферу. В ответ тот крепко пожал ее. Капитан улыбнулся: всего хорошего, Стась! И пусть тебе...
... Дорога серою лентою вьется,
Колется дождем смотровое стекло,
Пусть твой грузовик через бурю пробьется,
Я хочу, шофер, чтоб тебе повезло!..
* * *
Незадолго до конца рабочего дня в кабинете Пархоменко зазвенел телефон. Капитан поднял трубку. Звонил врач. Ровным голосом он сообщил, что Виктор Дзинцский скончался двадцать минут назад от кровоизлияния в мозг; медперсонал предупрежден, чтобы об этом пока не узнал Санкевич. «Так будет лучше для него и для вашего следствия, — добавил врач. — Завтра к вечеру можно на свидание с Санкевичем». И положил трубку. Капитан, собиравшийся было расспросить его более подробно, опоздал – уже послышались гудки.
3
Кто же виноват в аварии?
Выходит – Дзинцский...?!
* * *
На следующий вечер Пархоменко был в больнице. Врач провел его по длинным коридорам в общую палату, где лежал Санкевич.
Большая палата, белый цвет, шесть человек. Выздоравливающие.
Санкевич отделался легко, поэтому уже на второй день и состоялось это свидание.
Капитан сел на табурет, внимательно взглянул на Санкевича. Тот в свою очередь не менее внимательно смотрел на него.
О чем говорить? Пархоменко представился, сказал, что ведет дело по расследованию причин аварии, в которую позавчера вечером и попал Санкевич. «Ваши показания будут записываться на магнитофонную ленту», — добавил капитан и для убедительности показал магнитофон. Помедлив, коротко ответил ему и больной: «Я – будущий журналист. Ехал домой по окончанию института».
Тягостное молчание.
И капитан не выдержал, рубанул с плеча, на ходу врываясь в душу Санкевича, не считаясь с его болью и переживаниями: «Вы знали Дзинцского, Александр?» «Да, — Санкевич поднял голову, — он мой друг». «Его уже нет в живых. Умер вчера».
Санкевич заскрипел зубами. Истерики не было, она захлебнулась внутри него.
Пархоменко молча отвернулся.
«В чем причина аварии?» И будто отвечая на мысленный вопрос капитана ГАИ, Санкевич тяжело заговорил: «Я могу объяснить, почему произошла катастрофа». «Авария», — поправил Пархоменко. «Для меня это катастрофа. И виноват в этом я. Отгадку надо искать именно не здесь, в случившейся аварии, а глубже, уходя корнями воспоминаний на несколько лет в прошлое». «То есть в Оле?» — равнодушно, не показывая своей заинтересованности, спросил Пархоменко.
Больные молча потянулись из палаты.
«Откуда вы ее знаете?» «Мы все должны знать». «Да, в общем-то вы правы. То есть причина этой аварии – психологическая сторона наших отношений с Ольгой, меня и Виктора». «Вот как! — неожиданно вскипел капитан. — Дзинцский выдержал снега Норильска и пропал из-за какой-то несчастной бабы, так, что ли?» Пархоменко был культурный человек, но тут сорвался до «бабы»; ему было жалко погибшего ни за что Виктора. А Санкевич усмехнулся в ответ: «Дзинцский был в Норильске именно из-за Ольги. Когда я написал, что у Ольги родился ребенок, причем неизвестно от кого, от него не стало после этого никаких известий. Будто пропал». «Скажите, — мягко перебил его капитан, — Санкевич, вы даже сейчас не знаете, от кого у нее ребенок?» «Не знаю, — покачал головой Александр. — Мало ли матерей-одиночек на свете». «И нет никаких подозрений?» Санкевич как-то странно взглянул на капитана: «В данную минуту у меня одно лишь подозрение – что это за вопросы? Я что, следователь, по-вашему? По-моему только что вы ясно выразились, что вы все должны знать. Во и изучайте, если вас это заинтересовало, товарищ следователь!» — последние слова прозвучали со скрытой усмешкой, если не угрозой. «Я не следователь», — поправил Санкевича капитан. Пархоменко замялся, думая, сказать или нет ему о разговоре Виктора с Ольгой. Не сказал. Лишь буркнул что-то себе под нос. Но неожиданно прозревший Александр внимательно посмотрел на него и выдавил: «Лучше слушайте...»
* * *
Санкевич был младше Виктора почти на год – он родился летом сорок восьмого. Но пошли они в школу в один и тот же год, ибо Дзинцскому, которому, казалось, надо было бы идти в школу на год раньше, ответили тогда: «Тебе, мальчик, до семи лет не хватает еще полтора месяца. Придешь на следующий год».
Первые два года им не было и дела до друг друга. Но в третьем классе они начали приглядываться между собой. И подружились.
Их дружба крепла с каждым годом несмотря на кажущуюся резкую разницу их характеров.
А разница эта была наяву. Виктор, хладнокровный и смелый парень, много читал внепрограммной литературы, и все же учился посредственно. В чем была причина? Да явно в его незаинтересованности учебными предметами. И все же был у Виктора один интерес, привитый ему отцом: техника. Дзинцский ходил в авиамодельный кружок, и вдруг, добившись там вроде бы ощутимых успехов, бросил его. Стал появляться в судостроительном кружке. И этот бросил. Остановился он, точнее, прочно закрепился, в кружке автодела. И полностью отдался этому занятию. Танцы он любил мало; серьезная музыка ему внушала антипатию; в искусстве он разбирался слабо.
Санкевич был ему явным антиподом: разбирался в искусстве, ходил на танцы, да и что там говорить – любил жизнь в ее полном размахе. А так как он не испытывал затруднений с карманными расходами (в отличии от Виктора), то со временем набрался опыта обращения с девушками, умел понравиться им, прекрасно танцевал. Этот подрастающий мальчик был уже высокого мнения о себе и о своих способностях. Родители прочили ему блестящее будущее. Дружбу, однако, сына с Витей они мало одобряли, ибо по их мнению она не имела никакого смысла, но против вообще-то ничего не имели – Саша хорошо смотрелся на фоне угловатого Виктора.
А Дзинцскому было наплевать на это – Александр ему нужен был как друг, а не как «аристократ».
После окончания восьмого класса, когда из трех восьмых сформировали всего лишь два девятых класса, у них появилось новое увлечение. Скорей не увлечение, а что-то другое: им понравилась одна из девушек – Ольга. И они добились ее расположения. В то время их можно было часто видеть всех троих, как они обыкновенно появлялись везде: в кино, куда они ходили на деньги Санкевича, а иногда и на деньги Дзинцского; в парке и после школы. Саша, как истый кавалер, нес портфель Ольги и говорил красиво и много – девушка его внимательно слушала. Бывало, вступал в разговор и Витя – и Ольга сразу переключала внимание на второго своего поклонника. Было что-то в манере Дзинцского такое, что невольно привлекало в нем.
Какие отношения были в этой тройке? Точнее – двойке; как относились друзья к Ольге?
Для Санкевича Ольга во-первых олицетворяла собою вторую, нежную половину человечества. Красиво, привлекательно и... Запретный плод. Вот последнее-то и прельщало Сашу. А Дзинцский не собирался, да и не пытался вникнуть в эти рассуждения – он просто чувствовал, что эта девушка нравится ему и что любовь с каждым днем заполняет его все более и более. Чувствовала это и Ольга... Но Саша был более обаятелен и учтив; выбора она своего не установила еще. Однажды, когда каким-то чудом остались вечером в парке вдвоем с Сашей – Витя заторопился по делам – Санкевич поцеловал ее. Она вырвалась, вспыхнула и закричала: «Саша, не смей больше этого делать!» «Почему? — нисколько не смутился Санкевич. — Тебе не понравилось? Или, может, тебе больше нравится, когда Дзинцский тебя поцелует?» Она молча повернулась и побежала прочь. Санкевич не догонял ее, остался на месте. А она так хотела, чтобы он догнал ее.
Но потом они снова были втроем, но Ольга уже держалась настороженно по отношению к Саше. Дзинцский это замечал и не понимал, радоваться ли ему. Происшедшего он не знал.
... Виной всему, точнее ее первоначальным истоком, стал выпускной вечер. К тому времени я уже окончательно пришел к выводу, что Виктору Ольга далеко не безразлична. Она не могла еще в то время выбирать, добиваться, ей нужен был человек, который бы сам выбрал ее, завоевал своей честностью и простотой. Это случилось во второй половине десятого класса. И он, Виктор, стал считать, что завоевал ее; раз в разговоре даже обронил: «Ольга – моя девчонка», — мы оба сделали вид, что ничего не произошло. Но все же, что же из того, что они часто провожали меня до дома, а сами отправлялись гулять...
Я стоял в уголке большого зала и смотрел как кружились пары в вальсе. Ко мне то и дело подлетали знакомые девчонки и приглашали на танец. Я как мог отказывался – мое внимание было сосредоточено на Викторе и Ольге. Брало удивление – и где он только успел так хорошо научиться танцевать? Уж не она ли его научила?
Мое самолюбие было задето; заела гордость. Что же это я смотрю, ничего не делаю; ведь, как я слышал, за любовь надо бороться! И что-то похожее на любовь всколыхнулось в моей груди. Меня охватила непонятная грусть.
А они были веселы, у обоих счастливые лица. Витя не сводил взгляда с Ольги. И показалось мне, что он крепко прижал ее к себе, боясь, что она улетит от него куда-то вдаль, и ни с того ни с сего я вдруг вспомнил Наташу Ростову и ее первый бал; и захотелось мне тоже прижать кого-то к себе, смотреть кому-то в глаза и... быть счастливым.
Ольга... Как же я раньше не обращал внимания на твои красивые, вечно удивляющиеся, широко распахнутые глаза, на твои волосы, которые, должно быть, пахнут солнцем. И в ту же минуту в меня ворвалось: «А почему сейчас поздно мне любить ее?»
Музыка стихла. Виктор проводил Ольгу к ее подругам и глазами начал искать меня. Я затерялся в толпе. И... направился к Ольге.
Не помню, что уж говорил я ей, помню только, как она смотрела на меня своими удивленными небесными глазами. И последовала за мной. Мы, смеясь, выбежали из школы; догоняли друг друга, снова бежали, снова смеялись. И вдруг все кончилось: я обнял ее и крепко и неумело начал целовать; Ольга испугалась, закричала, попыталась вырваться. Но со мной будто что-то случилось. Я исступленно шептал ей о своей любви, о том, что буду любить ее всю жизнь, и что она тоже должна любить меня, а Витя, мол, не составит ей счастья.
Семнадцатилетняя рассудочность Ольги при упоминании имени Дзинцского воскресла, она попыталась вырваться. Но нет! Я крепко обнял ее и продолжал целовать. И она заплакала от «любви» ко мне, еще крепче обняв меня.
Я рванул ее платье, и мы упали в траву. Она сопротивлялась слабо. Сквозь боль и слезы, она повторяла: «Любимый мой...» И кто знает, кого она подразумевала в тот момент, но мне кажется, что меня – и может, в ту минуту ей и вправду было хорошо со мной.
Лишь на рассвете я поднял с травы и цветов ее хрупкое обессиленное тело.
А Витька нас искал. И может, догадывался, тем более, что Ольга избегала с ним встреч, а со мной он говорил скупо. И все же, кажется, он не знал всего.
Я звал его с собой сдавать экзамены в институт, но он отказался, ответив, что пойдет лучше работать. Он хотел помогать родителям. Мне же некому было помогать – я был один у родителей, так что они могли обеспечить не только себя, но и мое будущее обучение в институте.
Я стал учиться на журналиста, и наши пути с Виктором разошлись. А Ольгу – домой я приезжал редко, так как студенческая вольная жизнь полностью заглотила меня – почти не видел. В апреле 1966 года Виктор написал мне, что находится на курсах повышения квалификации, а я в ответ ошарашил его тем, что у Ольги родился ребенок (и неизвестно от кого). Он замолчал. Я думаю, не ошибусь, если скажу: нас обоих мучил вопрос, кто был отцом этого ребенка? Меня, Санкевича, мучило просто любопытство (я еще помнил ту ночь, и боже упаси если что получилось; все же, однако, был уверен в благополучном исходе; но претензий со стороны Ольги ко мне не было, и я успокоился. Вывод напрашивался один – после меня с кем-то гуляла, ну и получилось, может быть даже с самим Дзинцским, что все же маловероятно, ибо Виктор был парень честный), с Ольгой я давно не встречался и старался избегать с ней встреч – мне хватало других, а от Виктора шла его бешеная ревность и любовь.
Мы потеряли друг друга из вида. Лишь однажды я получил от него короткое письмецо: «Не узнал еще, кто отец ребенка Ольги? Я в армии, под Норильском. Из-за нее так далеко забрался». Далее следовал адрес полевой почты. Я ответил ему, что и вправду не знаю (так оно и было на самом деле).
Встреча наша произошла недавно; вот, буквально несколько дней назад. Я кончил институт, получил направление и отправился домой отдохнуть. И в аэропорту неожиданно в одном из таксистов узнал... Виктора».
Пархоменко перебил рассказ: «Но ведь он уже к тому времени работал в таксомоторном полгода? Вы что, не были за это время дома?»
«Нет, не был».
... Они обнялись, и Виктор усадил своего бывшего друга в машину. Такси тронулось.
Что мне дал институт? Диплом, окончательное умение обращаться с женщинами, новых знакомых. И все! И теперь, сидя рядом с Виктором, я остро понял, как больно ранил вот этого, рядом сидящего со мной человека, разрушил его любовь. Почему понял? Видимо потому, что снова сейчас был один. Одинок, без друга и без любви.
И я захотел вернуть друга. Виктор был молчалив, отвечал на все мои пустяковые и общие вопросы односложно.
«Виктор, почему так долго работал в Норильске?»
«А что такое?»
«Длинный рубль зашибал?» — шутливо спросил я. Он не понял и сплюнул с досады, рубанул прямо: «Дурак ты! Писал же как-то...» «Из-за Ольги?» Он нехотя и утвердительно покачал головой. «Так что, виной всему этому та далекая белокурая девочка с небесными глазами?» «Выходит, что так!»
Мы обогнали грузовик. В приспущенные окна бил прохладный карпатский ветерок. Водитель такси, Дзинцский, относился к категории водителей-лихачей, но его не надо было предостерегать – он знал грань всему (только, на мой взгляд, не личной жизни). Любил и я быструю езду (больше в личной жизни).
«А что, Виктор, — задал я вопрос, — ты не простился с мыслью стать журналистом?» «Нет, хочу в этом году попытаться». Я лихорадочно соображал, о чем бы его спросить еще, и брякнул: «А что, Виктор, вкалывал там, наверное, без выходных? Губил молодость?» Виктор резко сбавил ход – машина поплелась еле-еле – и ошарашил меня: «Что, спросить больше не о чем? А ты об Ольге спрашивай!» Он потемнел лицом. «Знает или не знает?» — мелькнуло у меня, а вслух равнодушно спросил: «А что она?» «Она? Молчит». «Замуж вышла?» «Нет, — иронически ответил Виктор. — Все ждет отца ребенка». «Она счастлива?» «А ты как думаешь?»
Хорошо, что нас обгонял тот грузовик, который мы недавно обогнали сами, и Витьке пришлось сосредоточить свое внимание на дорогу. Мне стало не по себе от пронзительного взгляда Дзинцского, и я пожалел, что кроме меня в такси никого из пассажиров не было. Но теперь я был зато полностью уверен, что он не знает до конца нашей истории с Ольгой. Он слепо бился в сетях своей молчаливой любви к ней, а Ольга молчала.
Грузовик обогнал нас, и Виктор искоса кинул на меня взгляд и как-то странно пропел: «Ты не печалься, ты не прощайся, все впереди у нас с тобой!»
Я решился на отчаянный шаг и заговорил об Ольге: «Витя, ты знаешь, что я тогда, на выпускном вечере, увел от тебя Ольгу». «А кто же еще?» — зло кинул он мне и рванул рычаги. Такси взвыло и кинулось вперед. «Думал, медаль тебе за откровенное признание дадут, а?» — во взгляде Виктора светилась затаенная ненависть.
«Но ты не думай, что это от меня. Мать потом писала мне, что она тут со многими путается...»
«Что-о-о?» — Виктор повернул ко мне свое лицо. Лучше бы, конечно, чтобы я не смотрел на него в тот момент – оно было страшным; я быстро бросил: «Не забывай, что ты шофер!»
«И ты поверил?» «Но ведь она избегает нас!» «А это ты откуда знаешь? Может, наоборот?» Такси пошло на обгон и поравнялось с грузовиком. Впереди показался последний поворот перед городом.
Глаза Виктора зло смотрели на меня, взгляд требовал ответа. «Было что у тебя с Ольгой?» «Виктор, послушай, я тебе все объясню. Она сама... Смотри! Впереди на нас идет бортовой автомобиль!» Дзинцский резко, не смотря, свернул вправо на свою полосу и даже не сбавил скорости. И все смотрел на меня.
«...Согласилась со мной, тогда, в выпускной вечер...» — успел произнести я и все погрузилось во тьму – такси врезалось в скалу...
* * *
Они долго молчали. Пархоменко механически теребил рукав; будто спохватившись, задал вопрос: «И все же вы признаете, что ребенок ваш?» Капитан вздрогнул от своего вопроса и подумал: «А ведь это же не относится к следствию...» Получив неопределенный ответ, он встал и бросил на ходу: «Выздоравливайте скорее. И потом зайдите ко мне. Запомните – капитан Пархоменко, отдел следствия ГАИ. А пока я оформлю ваши показания с записи. Согласны?» Пархоменко ткнул пальцем в портативный магнитофон, выключив его. «Да, но только в общих чертах. Прошу вас об этом», — последовал ответ. Пархоменко согласно склонил голову и вышел.
4
Утро следующего дня.
Кабинет, тот же стол. Скромная папка, где лежат, наслоившись одна на другую, бумаги – фото, показания свидетелей, отчет эксперта и заключение самого капитана.
Все вроде бы ясно, выведена суть. Раскрыта история одного из случившихся дорожных происшествий... Поставлена последняя точка над «i». И вывод в этой истории вроде бы напрашивается один:
... Чтобы не пришлось
Любимой плакать,
Крепче за баранку
Держись, шофер!..
И в шоферском, и в жизненном отношении...
Пархоменко надавил звонок. Вошел его помощник – Петр Волонтайчук.
«Петр! Просьба к тебе есть. После обеда явится полковник, доложишь по всем правилам о завершении и вручишь ему эту папку. Дело идет в архив. А я – по вызову; столкнулся в городе автобус с машиной...»
Милицейский газик вылетел со двора, мигая синеватым огоньком.
... Пархоменко вернулся с вызова в четвертом часу пополудни и, усталый, сразу плюхнулся на стул. Волонтайчук явился в кабинет вслед за ним: «Товарищ капитан! Все сделал так, как приказали». Капитан перебил его: «Новое дело, Петр! Отчет о выезде на моем столе. Займись им самостоятельно. А я проконтролирую тебя».
«Товарищ капитан! Пять минут назад звонили из линейного отдела. Просят помощи. Пьяный франт угнал у какого-то зеваки грузовик!» — доложил Волонтайчук, вытянувшись перед начальником.
Капитан вскочил, буркнул: «Не просят, Петр, а приказывают. И это тоже наша работа. Соединяй меня с линейным».
Связь с линейным поддерживали из газика по рации. Теперь вместе с машиной Пархоменко в поисках «франта» находилось четыре машины.
Газик скрипел и ревел тормозами на ходу. Шофер, младший сержант милиции, не жалел машины и гнал ее, что есть мочи.
... «Его» заметили издалека, как только выскочили за городскую черту. Из рации доносилось хриплое: «Капитан, накрывайте его как хотите – он уже сбил одного пешехода и покалечил легковой автомобиль...»
От грузовика, не соблюдавшего никакого приличия движения, шарахались все машины по сторонам. И недалек был тот момент, когда новое столкновение было неизбежным.
Газик ГАИ легко догонял тяжелый грузовик. На втором километре за городской чертой милицейская машина нагнала нарушителя. «Догнал его, — донесся по рации глухой голос Пархоменко. — Что прикажете делать?» «Капитан, вы только один напали на его след! Преследуйте, предложите остановиться, затормозите его, остановите! Остальные машины спешат вам на помощь. Но теперь на вас вся надежда, а то он наделает делов!»
Из газика донеслось – говорили, видимо, по рупору – обращение к шоферу грузовика: «Предлагаем вам немедленно остановиться!» Молчание, лишь машины в наступившей тишине продолжали нестись в опасной близости друг от друга.
«Немедленно остановитесь!» Газик начал обходить грузовик, так как впереди завиднелась встречная машина, но, получив боковой удар так, что брызнули осколки фары, отстал. И мчался теперь сзади нарушителя.
Дела начали принимать плохой оборот. Пархоменко заскрипел от гнева зубами. Выпрыгивать из газика на ходу на подножку рядом идущего грузовика не имело никакого смысла – этот риск мог закончиться только резким толчком под бешено крутящиеся колеса.
«Приказываю остановиться!» — крикнул он в рупор последний раз в надежде, что все-таки его предупреждение достигнет безумца. Но нет!
Газик вырвался вперед и снова начал заходить перед грузовиком. Впереди дорога, а точнее метров пятьсот до поворота (последнего поворота перед городом), была чиста и свободна от транспорта.
Газик, взвизгнув тормозами, встал поперек дороги. «Теперь остановится!» — успокоено мелькнула мысль у капитана. Но... грузовик не сбавляя ходу по страшному зигзагу обошел газик и на бешеной скорости полетел дальше. Несколько мгновений колеса правой стороны тяжелой машины нависали сантиметрами своих протекторов над обрывом, и наконец вильнули на полотно дороги.
Неожиданно для себя Пархоменко облегченно вздохнул – будто недавно это он сам висел над пропастью.
«Гони, обгони и снова вставай поперек!» — прошипел он на ухо шофера, пытаясь голосом справиться с шумом мотора. Но шофер его и так понял.
Впереди вырастал последний поворот: слева – скала, справа – зияющая пустота вниз.
«Осторожней! Впереди – поворот!» «И он более опасен со стороны города, нежели с другой стороны!» — припомнилось Пархоменко.
Газик, визжа, обошел грузовик и вышел на точку поворота. Это была ошибка. Нарушитель, подумавший, что ему снова хотят перекрыть дорогу, был начеку – резко крутанул баранку влево, ударил газик углом кузова и тем самым подтолкнул его к пропасти.
Газик медленно, будто нехотя, сбил пикетный столбик и упал в пустоту...
А грузовик, метнувшись к скале, резко вильнул назад и... Остановился над пропастью. Колеса, висящие в пустоте, крутились, еще горячие от погони. Шофер грузовика от резкого толчка ткнулся лицом в баранку и потерял сознание. Там его и нашли подоспевшие работники ГАИ.
А внизу горел взорвавшийся газик ГАИ, где находился мертвый Пархоменко и изуродованный до неузнаваемости его шофер...
И уже новые работники ГАИ выезжали на место происшествия.
ОТ АВТОРА:
Есть на окраине одного небольшого закарпатского городка могила. Там похоронен капитан милиции Пархоменко. Кто будет там – поклонитесь ему: ведь свой долг он выполнил до конца.
И сейчас, стоя над его могилой, хочется сказать:
Ты не печалься,
Ты не прощайся,
Ведь жизнь
придумана
Не зря...
Что ответит ЭХО?
Букет
Он не любил цветы. Если быть точнее, он в них не разбирался. Но то, что она ему нравилась, он знал точно; и даже более того – он любил ее и был готов для нее на все, да это и немудрено было в его возрасте, когда весь мир кажется прекрасным и полным жизни.
Он знал полевые и таежные цветы, уважал такие создания природы как ромашка, васильки, подснежники, плохо ориентировался в дачных и декоративных растениях и цветах. Не сказать, что он плохо разбирался в ботанике – грех ее не знать, живя в таежном городе и хорошо закончив среднюю школу, имея под боком горы, озера и могучий лес с его буреломом и топями.
Они – он и она – были ровесниками. Почти ровесниками. Их малую разницу в возрасте он не признавал и не хотел видеть в этом ни загвоздки в дальнейших их отношениях, ни каких-либо препятствий между ними. Но она ждала от него определенных действий, долгожданных слов, решений, наконец, а он вроде как и не замечал этой странной пустоты. «Являешься, когда захочешь, — вроде как в шутку говорила она ему. — Исчезаешь когда захочешь и надолго. И бросаешь меня одну, заставляя ждать». Может, она любила цветы, розы? Уж как выглядят розы, он знал – их, такие прекрасные и колючие, трудно перепутать с другими цветами. Но вот когда их преподносить, как и где, он не ведал, не мог постигнуть. То ли знал, то ли слышал, что девушкам дарят цветы, они их любят и даже нюхают аромат букета, но вот как совершить такое – был бессилен. Не силен был в такой науке. Мог перепутать астры с георгинами, спутать гладиолусы с каллами; тюльпаны видел только на открытке; о хризантемах, орхидеях слышал лишь в песнях; мимоза представлялась ему мохнатой и большой. Примитивные цветы и те, что в горшках на подоконниках, он просто не замечал – петунии, лютики, жарки, ирис, фиалки, крокус, герань – подумаешь, красотки местного масштаба! Интриговали львиный зев и анютины глазки, клевер и ландыши – из-за их какой-то простой необычности. А то еще – левкои, нарцисс, гиацинт, мирт, пеон, бегония, камелия; красивые загадочные названия, ибо все ж не был силен он в цветочной ботанике, да еще, если честно сказать, и равнодушен к холодной и высокомерной красоте цветов. Ну, сирень пахнет, только наломать надо где-то; лилий в округе не водится, а таинственные лотос и эдельвейс он и вообще не представлял в натуре. Вот такой вот цветовод, наивность и простота.
Он не был лириком, не был сторонником стихов и светлой поэзии, хотя память его цепко держала строки и большие отрывки из многих стихотворений и поэм – они запоминались как-то сами по себе, врезаясь в память и оставаясь надолго там в стихах и песнях. Скорее, он был мечтателем и имел в школе по астрономии «пятерку». А еще он был романтиком и имел тягу к странствиям.
Ждать. Догонять. Он ждал праздников и воскресений и ехал – по возможности, конечно – домой, нетерпеливо бежал, не успев поздороваться с родителями, на свидание со своей ненаглядной подругой. Последний раз он был дома на первомайские праздники. Сейчас идет начало лета, лето началось, и в кармане его лежало судьбоносное письмо от нее.
«Здравствуй, дорогой!» — говорилось в первых строках ее «фронтового» письма.
Ну, здравствуй, моя ненаглядная!
«Грызешь гранит науки?»
Продолжаю, куда ж бедному крестьянину податься! Грызу, зубы покамест не обломал. Долго еще стоять в очередь за дипломом, меньше половины прошел... Ты же знаешь!
«Ну и что ты думаешь дальше? Я ведь человек работающий... Работник и рабочая. Работаю, дорогой, это ты там все учишься и конца не видно».
«Ну, в общем, ладно. Думай. Я свое отучилась, у меня «защита» будет...»
Что ж тут непонятного... На сердитых воду возят. Он выгреб расписание экзаменов сессии и свои рубли. Получалось скудно, но не весьма паскудно. Так, прорвемся? На конверте стоял адрес соседнего областного центра. Подумаешь... 220 км для нищего студента, и не такое брали! Разница была лишь в том, что она завершала свое заочное обучение в своем областном центре, а он очно учился в соседнем.
У студентов-очников сессия – это событие. Итог за полгода страданий и прыжок либо в следующий курс, либо же мучиться далее до прекрасного лета. Но каждый сдает, зубрит и тренируется для Его Величества Экзамена на свой лад... Гуляют, пируют, суют нос, не спят ночами, бубнят... Ррр-р! Гул стоит, общага не спит, «не-общаговские» идут в сретень науки; одним словом, бардак и неразбериха. Кто поумнее – зубрит потихоньку и понемногу; кто особо не успел по времени – рвет и мечет чужие конспекты; кто уж «совсем» – накрылся подушкой и храпит. Все это ведомо ИМ.
У него, как и у каждого студента, была своя тактика. Во-первых, он не старался дергать себя; зная количество дней подготовки, он реально раскладывал ту кучу знаний, которую обязан преодолеть в конспектах, учебниках, слухах, домыслах и грандиозных итогах для того, чтобы... чтобы лечь спать перед экзаменом и рвать туда в числе первых. Последним – что ты из себя представляешь в 15:00 часов?.. – он быть не хотел. И это срабатывало. За бортом остались два из пяти экзамена сессии... Впереди снова должен быть просвет. И– !
Эти «и», предыдущие, немного помешали. Сдав второй экзамен, сходив в кино и побывав в столовой, посетив пельменную, он урчал от удовольствия. Вперед, к ней! Завтра же утром, он рассчитал точно!
Общага представляла пчелиный улей. И рой их летал повсюду, в том числе и на их втором этаже. Пошли «мемуары и воспоминания» – что, кто, где, как, когда... Никто никого не слушал, все довольны и пили вино – какая благообразность (или же канитель?)! Ему тоже сунули стакан с красным – давай! Обняли, подали кильку (тюльку?), хлопнули по плечу. «Да не хочу я», — он зарычал и хотел уйти в свою комнату. Он отпихнул одного весельчака, второго шутника, третьего циника, четвертый врезал ему в скулу. «Не уважаешь!» — татарин Раис, пропащий студент, стоял пред ним, от удара Раис загремел под дверь, но вскочил быстро, глаза были мутные и белесые от злобы. Ну а дальше все быстрее, чем можно и требовалось бы – банка с капустой, посланная Раисом, шла противнику точно в лоб. Осколки стекла и капуста от удара в перекрестье рамы были великолепны... Их растащили, выпихнули из комнаты, но кто знает – кто и куда из них ушел?
Расклад был у него четкий и ясный, срывов быть не должно, столько-то дней дано, надо уложиться... Проезд туда, увидеть и поздравить ее, будущего автомеханика, потом возвратить себя обратно на круги своя, счесть науку в последний вечер – и на штурм?! Денег, рублей и копеек – на проезд туда, ожидание и... (!), хватит, хватит, должно хватить, ведь недаром эти студенческие годы и другие тебя тренировали. Годится. Так пошел?
...Слушай, «старик», так у тебя и выхода-то иного нет. Да ты не обижайся на «старика», все мы в эти годы называем себя так, а родителей – «предками». Не ты первый...
Не торопись, командор. Слишком прыток стал? Все рассчитал и взвесил... И готов ли к «кратковременной» перегрузке своих студенческих финансов и тощих сил... (и здесь не поможет твой любимый бокс и бывшие юные походы в геологию).
«Ну а то!» — сказал он и поехал в крутом поезде от области до области, ну, конечно, в общем вагоне, ибо в других пока не езживал... Маловата кольчужка!
Туда, куда он прибыл в тот год... – что же за год тогда пребывал? Ну да не важен черт, как его замалевали , важен факт, как его начертали; в общем – середина Хрущева и Брежнева, тогдашних наших – до коммунизма Хрущева еще далеко (но уже почти полпути есть), до смерти другого генсека чуть больше. Остальным смертным – долго и красиво вперед, за романтикой и голубой тайгой, на комсомольские стройки. И то ладно, святая простота – мы будем и есть!
Несмотря на лето большой город, а это же кстати его родной областной центр, который он бы вроде должен любить и почитать – огромный и красивый Городище, Танкоград, опорный край державы, – встретил его грустно, неприветливо, но потом очнулся и засветился весь. И все же ОНИ не любили друг друга.
Он побежал – поехал – полетел по адресу, а город начал пробуждаться и быть.
Может ему повезло, а может было на нем клеймо удачливого неудачника, что вечно в лидерах должон быть, но выгод не заимел, хоть и удостоился тихого уважения и шараханий от него. Но странным и неожиданным лидером он был всегда: спортивным капитаном в своем десятом классе, бригадиром на уборке картофеля в институте, бригадиром на геодезической практике. Что дальше будет – пока было неизвестно. «Рано начал – рано кончил?»
Его ждали... Конечно, он неплохо выглядел в своем черном костюме, что сшили ему родители для школьного выпускного, пиджак со стоячим воротником и шикарными бортами, с розеткой для цветов (прорезь в лацкане пиджака) может и не так уж модно смотрелся, но сидел на его гвардейского роста поджарой и широкоплечей фигуре что надо. И это детали, что чуть помяты были оба – и костюм, и его обладатель – от жесткой поездки в общем вагоне. Все равно смотрелся он здорово: непослушные густые волосы, темный шатен, ямочка на подбородке и малый шрам на брови. Ну что скажешь про такого сына – скребли свои запасы его родители на его обучение, не он у них первый, но и не последний. «И если мы с малой грамотой, то пусть будет у детей наших», — говорили седеющие родители, надеясь на них. Но галстук сейчас на нем явно не вписывался в его ансамбль, видно слабо дружил он с ним.
Его как будто ждали сейчас. И открыли дверь почти мгновенно. Удивленные, широко раскрытые глаза пожилой и красивой женщины – будто из тех его прошлых, детских пятидесятых годов – смотрели на него беззащитно и требовательно одновременно, волнистые волосы и скромно-добротное платье, будто из прошлого. Так кого-то ждали или же он рано и не вовремя пришел? Приехал.
— Вы? Наверное, к ней? Так она...
Это была хозяйка съемной квартиры, где проживали студенты-заочники на время своих сессий и зачетов. Значит, он правильно попал, вспомнив со слов об этом адресе и еще – адрес на конверте, что периодически мелькал на ее письмах ранее. С хозяйкой была постоянная договоренность на такие случаи... Но что же сегодня?
— У них защита сегодня. С утра пораньше отправились. Припарадились... Торт им пеку. Да это недалеко отсюда...
«Ну вот, — сказал ему внутренний голос, — ты и прибыл. Немного с промашкой, но на месте. Так что там дальше? Вы же уже не дети после школьного выпуска, да? Помнишь, как ты ее вдруг увидел для себя?
... В тот знаменитый для нашей страны год, когда наш Никита Сергеевич провозгласил на XXII внеочередном партсъезде: «Нынешнее поколение через 20 лет будет жить при коммунизме», твои родители вместе с вами наконец-то вселились в квартиру нового дома из барака пригородного поселка. И пусть скоро Карибский кризис, кукуруза, хлебные ночные очереди, апрельский свет 12-го числа – отец наконец-то обрел покой в свои 36 лет, и они с ним. Хрущевская программа работала, и пусть комнаты высотой всего в два-двадцать, узок коридор и почти нет прихожей, туалет с ванной совмещен и нет балкона на первом этаже, а горячая вода только через титан-нагреватель и комнаты проходные, но есть глухая кладовка и даже навесной шкаф и стол-тумба с выдвижной доской на кухне, а еще там в стене холодный шкаф, пол – деревянный, батареи, лампочки под потолком – низковато, правда, деревянные толковые окна с форточками, «чугунный» унитаз... Ну чем не жизнь, вшестером в двухкомнатной квартире на первом этаже дома рядом с озером и тучами комаров с ближайшего «лягушатника», рядом со школой и близко с заводским старым Домом Культуры. В ДК крутили каждые выходные танцы, в будни через день – кино по вечерам, 10 копеек на первые вечерние сеансы на первые ряды мы еще как-то выпрашивали, унижаясь перед грозными родителями, мороженое и конфетки – драже «морские камушки» и карамель – приходились редким и долгожданным... В самом городе еще были грозные кинотеатры: грязный Маяковского, богатенький «Мир», клуб «Комсомольский» с его деревянной танцплощадкой и частыми драками, да еще в дальнем районе трущобный кинотеатр ДОКа; все они – не по карману и далеко, в парке КиО, правда, был летний кинотеатр, куда мы лазили в дыры без спроса и без билетов, но то – опасно и страшновато; да и зачем нам чужие приключения, когда своих хватает на «вверенной» нам территории у самого большого озера города, где и шла новостройка. Время от времени там слышалась пальба и лай собак – то ловили беглых зеков и охраняли высокие заборы новых домов. Мы видели шныряющие тени по вечерам, военных с автоматами, свет прожекторов... в общем, наша улица вдоль озера двигалась, уходила строясь. Любопытство не порок, мы даже помогли двоим уркам удрать, а от двух других, попозже, перепугаться.
Улица наша, новая, строящаяся, упиралась началом в проезд, который шел к ДК, а другим концом уходил финскими коттеджами 40-50-х годов в тайгу – это наследие от первопроходцев. Но что интересно – наша улица возводилась только домами – хрущевскими трехподъездными пятиэтажками, по четыре квартиры на лестничных площадках – с нечетной нумерацией. Четной нумерации и в помине не было, да и быть не должно: слева, в начале улицы, начало тайги и далее – озеро, справа – каменные холмы и гряды. Мы бы, со своим пацанским вольнодумием, вполне согласились обозвать свою улицу Каменной или Озерной, но местные городские архитекторы с нами бы явно не согласились – камня здесь везде и явно и озер тоже много. И посему назвали нашу улицу – ну, вы догадались. И вот наша гордая улица, явно конечно не морская, начала крутиться вокруг вначале пологого, а потом крутого каменного берега... здесь, на озере и не пахло песчаным пляжем: галька и валуны, вечно холодная вода, просматриваемая насквозь, с раками у берегов и богатая рыбой в самом озере – да что с него возьмешь! Озера-то у нас горные, глубокие и холодные, не ахти другим, и в октябре здесь купаться нет желающих уже.
... Но он купался, когда была такая возможность, ибо ее окно выходило точно на этот кусочек озера...
Дома улицы возводились, строились, обустраивались и обживались, и в этот детсад вдруг нахлынуло много малышей. Его выстроили почти в начале улицы, с нагорной внутренней стороны, опять же присвоив нечетный номер. И вот так получилось, что между ЕГО домом и ЕЕ вдруг пропал один с очередным нечетным номером. Их дома стояли вплотную, и его подъезд был крайним, а у нее – первым в своем доме... Соседи, значит. Окна квартиры его родителей выходили только к озеру, а ее второй этаж выходил еще и во двор небольшим балконом. Но чтоб узнать это, ему понадобилось целых шесть лет, когда он из дворовой шпаны становился выпускником школы.
Город этот встал в свое время в глухой и непролазной горной суровой тайге, встал во времена того незабываемого и потрясшего мир военного страшного лихолетья. И создавался он отнюдь не для божественно-высоких целей, а посему в нем не было церквей и часовенок; город богатый, высококультурный, без нищих и прохиндеев; город, плюющий даже на областной центр по достатку и гонору, ведомый только власти того государства, что слепило его и не жалело средств для него. Здесь не было плохих людей, безработных и пьяниц, жесткая режимная рука пресекала все эти безобразия... Молиться ездили в соседние города и поселки, где еще оставались не в развалинах после суровых 30-х церкви, разрушенных же вокруг была тьма и таковыми они оставались – там причитали бабки и послевоенное старье, кои испытали порушенную веру в 30-х и 40-х. Страшно то было и далеко не понятно. Мать порой, втихомолку, не дай бог заметят дети, крестилась, и по случаю стремилась в еще действующую обитель божию; слава богу, в ближайшем городе у ней были дальние родственники и действующая церковь.
В школе по истории СССР они изучали движение шестидесятников, их хождение в народ в том смутном времени век назад. С тех пор миновал век и они, шестидесятники уже XX века, жили, существовали, буйствовали и цвели уже не в царской России, Российской Империи, но уже в Союзе Свободных Социалистических Республик, и это был их уже мир, всех живых к тому времени и умерших ранее. Дети послевоенных и 50-х становились в 60-е на ноги... Каковы были и они, их двор и заселяющие приозерье люди.
Двор был узковат, клином расходился от первого подъезда вглубь до стыка с последующим нечетным домом; двор зажимался домом и с другой стороны – детским садиком. К ДК можно было идти двумя путями – в начало улицы к проезду мимо школы, или же в другую сторону по крутой скалистой горке – итог один. Около подъезда № 1 дома напротив ютилась квадратная скромная песочница на радость малышам, их молодым мамам и настороженно-свирепым бабушкам. Чахлая песочница и скрипучие качели мало удовлетворяли деяния и мечты поросли человечьей, и малышня стремилась углубиться в площадку для белья, стараясь его измазать, а также к заветному большому столу со скамейками, жестко врытым, где еще для них не выросло будущее племя пенсионеров-доминошников... Дом, дома улицы и сама Улица были еще новорожденными и не успели обзавестись стариной и историческим мхом. На детской площадке стоял визг и маленький разбой-хулиган – там швырялись песком и лопаточками, пихались и плакали... И орлиные мамаши зорко блюли покой и нравы, раздавая порой несильные тумаки своим чадам и затем сюсюкая их. Тихое блаженство и умиротворение прерывалось вторжением малолетних пацанов, развалом песчаных дворцов и песочных замков, девчачьим хныканьем из-за обдерганных косичек. Что уж тут тогда было, а не угадаете! Бабушки всплескивали руками, не в силах навести порядок на вверенной им территории, а мужественные десятилетние пацаны, раздавая щелчки, выдворяли хулиганов и успокаивали песочный народ, порой нарываясь на тумаки двенадцатилетних парнишек, околачивающихся около Большого стола. Потом появлялись другие, стол оживал – крутилась мелочь вокруг, разрываясь между Столом и Песочницей, кружилась дворовая шпана и шпанята, подтягивались пацаны и начинали лениво играть в безобидные карты... Не ругались и не сцеплялись, не любили халтуру, уважали халяву, не «понимали» шулеров, таская их за чубы. Громко не орали, соблюдая дворовый нейтралитет; 15-летние курили только при наступившей темноте, ослушавшихся молча били по губам за сигаретные и спичечные вспышки, что-то миролюбиво обсуждали, свалив все до кучи: школьные проблемы и светлые проблемы ФЗУ, заботы и непонятки с родителями, желание сожрать хорошую конфету – ну хотя бы «Мишка на Севере», или «Эскимо», или... А вот идут «Крестоносцы», «Гений дзюдо» – «...Как он их! А они на него, а он им, и сказал, прыгнул, ударил...» К вечеру скребли копейки – те, у которых они были и не были, оставшиеся и сэкономленные от скудной жизни учеников и их родителей, кто хотел иль не хотел, мечтал пригубить дешевого винца или же напрочь пока шарахался от него. Посылали гонца – 16-летнего солидного под-усы парня или же нагловатых 15-летних ФЗУ – те оторви и брось; уходили гурьбой, втихомолку и поодиночке в близлежащую тайгу у озера, зажигали костерок, пробовали дешевое винцо – пойло, бутылкой коего командовал «старшой разводящий», купивший его у бдительных продавцов в магазине – и то храбрость надо такую иметь, а посему имел право капнуть себе чуть поболее супротив потребителей зелья. Костер разгорался, пошла чехарда, битва на конях, «отгадай, кто ударил», разговоры про любовь и войну; лезли в парное озеро.
Он ничем особо не выделялся в их дворе – такая же дворовая шпана. Курить, однако, не тянулся, да и на зелье «змеиное» не хватало сброситься – на кино интересное порой не хватало, не говоря уж об «эскимо». Но что-то в нем все же было; их много было, пацанов его двора и окрестных, сталкивались и дрались иногда, но знали многие, что он упрям и что мозги его варят куда-то вдаль, порой даже интересно становилось всей их дворовой шпане с их ограниченными возможностями. Но голос десятилетнего пацана начинал прорезаться, находились и последователи. Но в общей массе нескольких десятков пацанов голос его не был слышен.
— Айда на озеро! Искупаемся, жарко. Раков половим. Сходим на Первый мыс.
Первый мыс, если идти по каменному побережью озера, не так уж и далек – там бухты, здание библиотеки, спасательная и лодочная станция – этакие зеленые красивенькие старые деревянные строения, и за ними, чуть вдалеке – крутой хищный изгиб Первого мыса с частным и запретным сектором маленьких жилых домов. Но далековат Первый мыс, да и не особо загадочен и приветлив, ну его.
— Давай в тайгу. Грибов наберем. Иль ягоды наедимся. Я знаю, где брусника. Иль клюкву пошарим по болоту.
Чего только не выдумают ребятки по вечерам в будни, в воскресенье, в каникулы осенью, зимой, весной и летом! Но он гнул все свое, интересно было послушать, но опять же... Синие горы за озером, остров Монте-Кристо у дальнего берега, плавучий остров, недавно прибитый к берегам...
К двенадцати его годам он был одобрен как состоявшийся человек их дворового сообщества. Потом он звал их в светлое будущее: на альмандиновые гранатовые копи, на древнее стойбище, на Второй Дальний мыс, что далеко в тайге и туда ходу не один час; в лагерь колчаковцев, где можно и нужно было найти еще столько интересного; на Древние Камни; на таежные холодные ручьи, где лишь свидетелем зеленый мох. И они пошли за ним, немногие и немного из того количества, что раньше называлось в шутку дворовой шпаной. А когда соседские дворовые «крестоносцы» решили исправить ошибку и охватить «миром по Озеру» – не его ли «спецслужба» предупредила... Доверяй, но проверяй! Схватились два двора, две местные орды, где на кон были поставлены независимость и свобода наша! С мелочей и дрязг побоище началось в районе их двора, перекатилось на майский лед озера и ближнюю тайгу. «Крестоносцы» рубились красиво и отчаянно – любо глянуть на них: ведра, жесть, топоры и деревянные мечи – одним словом, свинья – она и есть свинья!.. Он успел предупредить старшего своего на левом фланге о неожиданной атаке, был сбит, побит, но роль разведчика выполнил.
После крушения «тевтонского ордена», за что милиция раздала свои призы и медицина подлечила «болезненных», уже ни у кого в округе не оставалось сомнения – ДВОР будет жить! Кто к нам придет... Тот так и уйдет! Обломалось милитаризация.
... Старшие из «шпаны» уходили на покой. Они уже не хотели взрывать карбид и старые колчаковские снаряды, не хотели играть старыми австрийскими штыками, шпынять себя и делить день-деньской лавры командования над шпаной Двора. Пришли другие времена, другие нравы – середина наших 60-х. А это...! Свято место пусто не бывает – ушли наши старшие вожди, и пора – в 17, 18, 19-ть не лучшее место для человека в дворовой шпане. Двор есть двор, он не жестокий и не ласковый, тот Двор 60-х – уйди с миром, другие придут. Ушли наши лидеры – в жизнь, к жизни другой, кою постигнуть нам, 15-летним еще треба надо. Ну, а мы...
Мы еще жестоки и справедливы. Это вы ушли в мир ваш свой иной – учиться выше, жениться, плодиться, но нам пока сие не дано.
Кто в лес, кто по дрова. Его друг школьный арестован за изнасилование – осудили, исключили из комсомола; двоих братьев, что «приписались к Двору», за ограбление – в малолетнюю колонию; шпаненка из «киселей» - на жесткий учет. Старшим Двора хорошо – каждый в свою конуру... А нам каково?
Когда он был еще тем, в 50-х, и еще был мал... Но уже сейчас... И пред ним одна картина, тем более он не художник... Вот только память пацана выдает убогую электричку с мешочниками (перепутал – общий вагон обычного поезда тех пятидесятых) и тех людей: «Подайте, обокрали»; на самокатах – «мы победили Японию»; «Я брал Берлин» (... на самом деле брал? Отец мой, 26-го, не дошел туда). И все равно я им верил, не знаю почему. Страшно пацаненку, маман задолбала про своего Сталина, а отец, которого лишили денег за его награды, угрюмо молчит. И все же... Я закричал, меня обняли, прижали.
Кому-то я был нужен.
И все-таки я им могу сказать спасибо. Вечно неблагодарный, вечно «пьяная скотина» по жизни – спасибо им, Стае Нашего Двора, за то, что сделала она из меня нормального человека. Кто жив, а кто убит, кто кончил жизнь в лагерях 60-х и 70-х. Я благодарен им, моему Двору.
Может, то что я сейчас живу – это взаймы?
За те их несбыточные мечты... За их неосуществленное «Я». Я их помню и знаю – пофамильно и поименно, в основном почему-то по кличкам... дворовым.
... Мне страшно...
И все это правильно, и все это реально и надо: австрийский штык, кремниевый наконечник, фузея Пугачева, осколка два-три глиняных, старые гильзы, блеск альмандинов из серицитовых сланцев...
Он себе доказал.
Он себе доказал, когда нашел черепки великие, он их прятал и пытался доказать их величие.
... Ему не удалось!..
Потом ему снилось – снились мертвым боем все его младые грехи, только одно в снах своих ему не прощевали – тайны древнего становища и его мудрых глиняных черепков – уж их-то трудно спутать... Горшок с печатью древней, пусть и битый... Но вечно живой потом...
... Ты же нашел их, черепки горшка, под печатью ихней... Наше...?!
В пору стать археологом. А еще – палеонтологом, чтобы не совался от человека к древности.
Так кем все же Я... ОН... хотел стать – археолог, палеонтолог... Геолог, минеролог, кристаллограф.
Неплохо. Ну здравствуй, я – живой. И я хочу быть тем, кем именно хочу быть, спасибо. Я встретил Вас, проводил.
Сплюнь через левое плечо – ведь так практикуется – и ты вот стал и будешь...
Горным инженером!!!
Фу, какая мразь! Приснится же такое. Вперед, к подруге е-э-ей!
... А знаете, он купил цветы ей, целый букет; он не знал, какие ей надо, но он знал другое...
Дурак. Ну, истинно словом дурак.
— Так вы, — женщина почему-то не удивилась, — вы и есть? О ком она здорово почему-то спрашивала?
— А я и есть! Местный биндюжник. Это она – не местная, не «наш хулиган». Кострома – не наш род.
...Ну, я пошел. Букет. Бутерброд. До свидания.
— Счастливо вам. Она ждет вас там, в техникуме. Передала так, если к ней вдруг подъедет Николай. А вы кто? Коля?
— Нет, я – ... ...до свидания.
Я – вундеркинд, большое и умное немецкое дитя... Второго курса хорошего горного института. Ну, молодец... ну, чадо! – знаю, что как штык тебе не надёжен и да тебе вообще не нужен...
... А ты здорово ей нужен? Ты ей, своей ненаглядной и неповторимой, объяснился, сволочь таежная, в любви? Она ж тебя любит. И ты ее. В чем твоя беда – что не знаешь. И она того не знает. Вы губите друг друга. И загубите...
Но-но... «Сон»-то какой-то плачевный. Мне еще рано.
Я без нее – никуда.
Знаете, что такое марево? Это когда здорово болтает ни туда и ни сюда. Студенту это знакомо, особенно блудню... Если он хочет чего-то несбыточного; в таких случаях – многие не тянут.
Хрен вам. Беру букет. Вперед к любимой. Она же ждет?
... Она ведь тоже не каменная, моя любовь!
Она вышла из здания техникума, в толпе своих удачливых однокурсников и однокурсниц, порою старших ее 20-ти лет.
Вообще-то я тоже не каменный, на девчонок стал посматривать с 15-ти, а может и раньше. Мне они нравились, и, надеюсь, я им тоже. Но в тот момент, в то майское утро...
Двор воевал сам с собой. Молодежь спилила столбы бельевые и установила вдруг футбольные ворота. Ну кто такое мог стерпеть? Ворота спилили, визги футбольные этих самых – шпана?.. Но потом из этих самых бревен встала волейбольная площадка... Площадка под белье осталась здравой в стороне... Молодежь билась на волейбольной площадке, все довольны и веселы; волейбольную сетку три раза порезали, но белье жителей не сперли... Волейбольную сетку стали снимать, но уж куча жильцов дома приходила смотреть на прыгающую и трезвую молодежь... Всем все нравилось, и когда он от лени собачьей, отложив рейд на Древнюю Стоянку, вылез во Двор, увидав свой волейбол, он вдруг среди стандарта увидел ее и спросил:
— А это кто?
Шел месяц май. Шестидесятые.
* * *
Ну, вот и все – кончился буйный парень, пропал – гордый и своенравный, для своего Двора; подрастала другая шпана, пытаясь заменить уходящих кумиров и лидеров. Двор вырос, точнее мал стал для юношей и взрослеющих девочек. Пора и в путь, на большую жизненную дорогу.
Он и не печалился здорово по сему поводу. «Да уходящий пусть уходит», — так вроде говорилось и раньше. Он уже с усмешкой смотрел, как резвилась малышня в тайге, прыгая через полутораметровые завалы и обдираясь в кровь; как его новоявленный ординарец-пацан неловко метал томагавк – обрезиненный туристический топорик – в сухостой; показывал им, неумельцам, как надо метать ножи; находить, зная физику, центр равновесия томагавка и кидать его не только в вертикальные, но и горизонтальные цели; стрелять из самодельных луков и поджигов – медных трубочек из начиненных со спичек серных зарядов; взрывать карбид в бутылках, взрывать на кострах старые колчаковские патроны... со своим неутомимым адъютантом он ходил на Дальние Дачи, на каменный карьер, за Водозабор. С парнями постарше метал пудовую гирю друг другу... В общем, жители шпану и мелюзгу выдворяли усиленно из Двора, не давая дерзить и оттирая их в «лягушатник» озера и близлежащий лесок, а молодежь Двора уже сама уходила по вечерам на ближайшую спортплощадку за домами, где их ждали волейбольная и баскетбольные площадки, городки и много молодого задора и будущих хороших и нехороших встреч. Н-да, сиротел и пустел Двор, подрастая. В шестидесятых...
Мужал и он. Занимаясь с гирями, подрастянул суставы и сухожилия, и трудно стало заниматься юношеским боксом. Много отнимала времени учеба в школе – хоть и не был зубрилой, но было интересно, и увлекала химия и физика, история и география; закончил ходить в геологический кружок, что был на ДОКе при Станции Юных Натуралистов (СЮН) – но да и уже пора... в путь дальше, на Большую Дорогу. Греб на лодке, плавал без нее на расстояние и на время, плавал в мае, когда только сходил лед на озере, и в октябре, когда уже шли с неба «белые мухи»... В общем, пытал себя, ходил с тяжелым рюкзаком, спал зимой на голом полу в квартире. Готовился встретить судьбу.
Много достоинств он имел – целый... целую кучу. И все они потерялись перед ней. Ее добрая тетка, едва завидев его, тут же вручала ему ракетку от бадминтона – давай, играй с ней, замучила! С интересом смотрела на них, потом тихо пропадала с понимающей улыбкой. Тут уж он старался – только волан ее платья разметался по воздуху... Останавливаясь, она говорила: «Мог бы и полегче бить. Поближе. Чтобы доставала». «А надо? Так я...» Говорят, люди с тонкой кожей быстрее краснеют, чем толстокожие, – тогда те, «толстые», должны бледнеть, да?
Она мило краснела. Ему думалось – от застенчивости. Он от оторопелости своей бледнел, ей думалось – от дерзости. Но как ошибались оба, еще до конца не понимая своих юношеских порывов. Да, но ведь он спросил – «а это кто?», да и она поинтересовалась – «ты откуда?».
За эти три прошедших года знакомства с ней он много и многое узнал и познал. И про нее. И про себя. И понял, что она означает для него: невысокая, а точнее – на голову ниже, волосы вихрь и малый шрамик, глаза – вот только какие глаза – голубые? Карие или зеленые, как у кошки? Скорее зелено-голубые и искрящиеся. И вечный оптимизм в движениях и восторг в глазах, мягкая красивая речь, так не вязавшаяся с местными жителями. Кто она и откуда, что это за чудо?!
Букет он хотел купить быстро, не задерживаясь на таком скучном этапе, и лететь к ней, на крыльях. Успеть. Поздравить! Молодец она, его любимая.
Но вот среди торговок и пожилых женщин с цветами он застрял. Надорвался парень, не выдержал своего максимализма и цен на эти благоухающие вокруг него розы и (... и прочие; какие там еще цветы в начале июня водятся, подскажите). Пыл угас, начал вертеть головой, сдался перед напором торгово-цветочных теток и, наконец, замямлил сей бугай:
— Сжальтесь! Я студент. У меня немного...
В нем, как в потенциально богатом буратино в галстуке, народ сразу разочаровался.
— Я приехал издалека. Она диплом защищает. Сегодня... — растерянно забил он свой гвоздь программы.
И неблагодарный и неблагородный народ 60-х этого крупного областного центра снизошел до нищего студента, набросился на него как цветочный смерч, бубня цены и достоинства их цветов. И ему отобрали цветы, набрали цветов всяких разных: красных, белых и золотистых, желтых не надо – измена, с зеленой бахромой; оценили, повыдергивали лишние и простенькие, добавили солидных, вернули часть денег и потребовали мелочи взамен... Давно он такого бардака в своей жизни не испытывал и не видел. На него глупо озирались парни и мужики, восхищенно смотрели женщины вслед – а он нес их навстречу своей судьбе, окрыленный и уже не спотыкающийся. Благо, что от рыночка до автотехникума было рукой подать...
Теперь он знал, что его поймут и оценят. Она оценит, она поймет. Все уже знают про НИХ на его родной улице, дружески улыбаются и здороваются с ним – будущим горным инженером, шутливо подсказывают где можно найти ее... Что поделать – узкая полоса вдоль большого озера не так велика в масштабе его родного города.
И что и когда занесло её род в эти края, на тысячи вдаль отстоявшие, он не понял. Кострома и Ярославль далековаты ой как от них, но ведь осели или же поселились тут недавно потомки их великого Ивана Сусанина (у него какой цвет глаз был? Вот и я не знаю). Но только так уж получилось: большая часть их рода и с фамилией-то их почти что легендарной – ведь носил котомку Сусанин из Костромы – стала здесь, а там, в Костроме-Ярославле, у оставшихся грянули свои грозы: у маленьких сестренки с братом умер отец, потом умерла зачем-то мать этих двоих смышленых ребят (как найти могилы с датами смерти на Кострище – кладбище, один Бог ведает). Вскинулась их бабка, со станции Буй, что подарила им еще несколько лет спокойной детской жизни. Но и ее век не оказался долог. Сирот сдали в детдом, откуда их не так быстро выцарапали родные тетки, живущие в далекой Каменной стороне.
— А вот мой интернат.
— Дом-интернат? Это вот – зеленый и огромный?!
— Да, о котором ты и не слышал. Ты же маменькин и папенькин...
— Да, если не считать, что нас с отцом и мамой было шестеро в двух комнатах.
— А я знаю.
— И много?
— А тетка все уши прожужжала про твоего папу. Такой уж он хороший и дети у него...
Он опешил.
— А тетка-то твоя откуда знает?
— Она все знает про вас, соседи. И отец твой суровый, хромает, смотрит на меня так, будто я отнимаю его чадо... — она заливисто засмеялась и ее грудной голос еще раз поразил парня.
— Да не боись, — она вдруг горько всхлипнула, и он прижал ее к себе. — Я «тут» была несколько лет, а потом тетка – после школы – забрала меня к себе; у нее ведь и своя семья есть – трое в трехкомнатной квартире. А я к братишке скоро поеду – в Таллин, он в мореходке и, знаешь, он такой же маленький, как я, – видно мы в мать, отец наш гонял ее все – но сильный и здорово любит меня. Ты тоже сильный...
И она лукаво улыбнулась и растопила его в воск.
— Отца я твоего не боюсь. А мама твоя?.. Ты не маменькин...
— Слушай, я же не хожу в кино с Володей или с кем там еще...
— Так ты шпионишь за мной?
— Некогда.
— Правильно. Захотел – пришел, ушел – потом буду, так. Сидеть тебя ждать... Ну и? А ты сам-то ТАМ не грешен?
Ошарашила. И возможно даже была права. Все мы шкуры и все мы сволочи, выбирая добычу по молодости, не предполагая, что она сожрет нас.
— Ладно, хватит. Погуляем? Или в кино сходим?
— Не-а, я этот фильм уж смотрела. Тебя долго ждать.
— Ну ты ж понимаешь, что я не здесь...
— Ну и что? Ты должен быть всегда со мной, вон по нашей улице уже всякие слухи про нас ходят...
— Ну и что?
А то! Он шел и мчался через десятилетия, он прыгал через ступеньки; охнув, замолчала вахтерша техникума; расступилась толпа дипломантов около входа в неведомую аудиторию.
Там? Да. Но она защищает диплом, не стоит мешать. Надо только подождать. Дружественные и толковые смешки: «Два года в очереди за дипломом, пять минут позора – и автомеханик готов!» И он остыл, ушел курить за пределы вахты и техникума, куря беспрерывно свои запасы дешевого болгарского «Солнце» или короткофильтровую «Тракия». На болгарские «ТУ», «Стюардесса», «Феникс» и прочие, не говоря уж о «ВТ» и «Таллин» сил его и средств явно не хватало. Но да ладно, жизнь скучна и великолепна!
Толпа вывалила из широких дверей техникума широко и вольно. Значит, она уже не одна такая, выпускница и Дипломер Техникума... Курить надо меньше, а то расселся тут чуть ли не на два часа. А что?! Солнышко греет, от букета тень, вроде как защищает от чего-то... От кого-то? Дурак, да ты вставай, разомлевший от недосыпа и запорошенный рутиной студенческого бытия – вот же ОНА... Идет, плывет!
Счастливая и красивая.
Уверенная в себе. И так же недоступная.
И все ее поздравляют...
Значит, защитилась.
Значит, зазря ему плакалась в плечо и он помогал ей чем мог. (Но чем поможет горняк спецу автодора... Хотя и у горняков есть и был спецкурс «транспорт» и иже с ним).
Он шел упрямо, бледнея, навстречу ей среди толпы ее удачливых однокурсников – красивых женщин и лысых мужиков... Она там была ведь самой молодой из дипломантов. И самой-самой-самой...
Я женюсь, я – женюсь, кричал король, но впрочем песня не о том.
Я – женюсь. Женюсь на НЕЙ.
И мне не надо уже моего сурового отца и недоверчивую мать. Я – хочу. Быть с нею. Постоянно и всегда.
— И где? — спросила бы его мать. — В нашем муравейнике? И почему ты лучше своей сестры и своего старшего брата, что собрался жениться раньше их?
— А мне что, ждать пока они очухаются после вашей жесткой слежки: «будь дома в десять», «допоздна не гуляй», «на кино твое денег нет».
Хотя, конечно, тут я не прав: мать денег на кино не давала, а отец давал всегда-всегда и всем, только нахмурив тусклые (опаленные и так и не отрастающие) брови: «Куда? Для чего?» — и, не дослушав, выдавал копейки и десятчики со своего «обеденного» рациона, что скупо сваливала ему его жена, мать его «ненаглядных». Он никогда не прятал деньги от жены и отдавал ей ВСЕ – женская рука о шестерых лучше все ж позаботится, не его то забота, он и после войны должен думать о хлебе насущном и о семье; и о жене, что уважила раненого бродягу войны, и о своих детях. Но они никогда не «воевали» меж собой, отец и мать... Отец не боялся жены и уважал ее, а маман правила балом, впрочем тихо и здорово возлюбив своего... этого самого, ну как его – отца и... Возможно, детей?
Ан нет. Строптивые детки оказались. И не особо слушались мамку свою. Отцу молча и прямо подчинялись, но и папаня-то их не гонял особо. Вот только глянет синими глазами да подтянет клюку... Да звякнет медалями под «девятое мая» – вот вроде и все... Но они, его детки, научились всему при нем: управлялись с огородом, с живностью во дворе, с собакой научились общий язык находить, коня приласкать, похоронить цыпленка, подтащить бревно... Да мало ли всего... Отец научил их стрелять, рыбачить, знать тайгу – зря, что ли, он был на фронте...
— Мам, я женюсь!
Так представлял себе он, когда приехавши после летней сессии, объявит такое.
И после долгих стенаний и криков: «А где жить собираетесь? И кто она? А... эта, без кола и двора».
— Мама, так ведь и я небогат.
— В том-то и дело, сынок. Жить-то где будете – у нас на раскладушке в чулане или у ее тетки? Чем ты ее кормить будешь?
— Разберусь.
— Да знаю, в тебе уверена – разберешься... Школа твоя и я гордимся нашей семьей. Но ведь еще твой младший брат не пристроен, школу заканчивает... Его куда после твоей свадьбы? Старшие твои себе не позволили такого...
— Мне их ждать? Я хочу жениться, о чем и говорю. И именно на ней. Вы знаете, о ком я говорю. И разговор окончен.
— И где ж ты жить тогда собираешься?
— Решим. С ней. Если будете против – зарегистрируемся без вас. Тихо и мирно (смирно). Устраивает?
— Отец, ты только глянь на это чучело. В детстве молчал два года и заикался потом...
— Так ты же его чуть не убила, — крякнул, тяжело вставая, отец. — Швырнула так... Еле успел поймать.
... Сам решай, сын! Я тебе уже не подмога...
... Да, батя, спасибо... Я понимаю...
Так должно было быть... Но он должен был прорваться сквозь пелену предрассудков и суеты.
... Вот сдам сессию и этот сопромат и женюсь...!
Он пробился через толпу, восторженную, в которой четко виднелся молодой красавец, чуть постарше его и вьющийся около нее – она, как бабочка, отмахивалась и льнула к нему – сокурсник? Он грубовато пихнул его в сторону – сила позволяла – и предстал пред ее сине-зеленые очи: в помятом костюме, не выспавшийся после деревянных лавок, вечный студент с охапкой... Красивые женщины вокруг восторженно взвизгнули. «Ну и везет тебе, куча поклонников!» Тот, который оттер его небрежно плечом в этот миг, что-то возгласил...
Это тебе. Он отдал... Сунул ей букет, она небрежно отдала его в сторону, своим товаркам. И глаза ее недобро блеснули. Иль показалось злодею?
... Сейчас мне некогда. Не до тебя. Вечером у нашей группы заказан банкет. Да, мы все поздравляемся. И это никто, мои одногруппники. Ну, приехал поздравить человек. Я не хочу сейчас. Не могу вечером. Я занята...
Так занята или занята? Ударение...
... Тебе какое дело? Уходи. Мы потом, если хочешь, встретимся и поговорим. Но лучше не надо. Уходи...
Букет его был триумфом в толпе, девки загалдели, молодой человек хмыкнул понимающе.
Ну вот и все. Жесткий поезд в две с половиной сотни верст, общий вагон, остановка у каждого столба. Но поезд его упорно клячился в пункт назначения.
«Мы прибываем...» Или как там: «Пункт назначения – станция...» Он прибыл туда, откуда и не должен бы выбывать – в свой институт.
Он прибыл в свой пункт назначения из пункта Б в пункт А, и теперь стоял пред обычной дилеммой для студента: сдать очередной экзамен своей летней сессии. Два он уже сдал, этот – третий, но время для него – сутки (у студентов не говорится «дни»), и это было весьма нереально, тем более для такого как «сопро-муть», что означало: сдай, студент, «сопротивление материалов» (и не важно, что ты будущий горный инженер-технолог и она тебе нахрен не нужна, эта штука – сопро-мать!), и ты тогда будешь тем, кем хотел. А посему было шансов мало, и он пошел к старосте соседней группы, который возглавлял их на «студенческой картошке»... Тот сдал на «уд» и поделился знаниями – будь впереди, билеты по порядку, улови их раскладку – и вперед! У меня попался билет № 1, в нем вопросы...
Он их вызубрил, эти ответы на билет № 1, перевернул все. Лег спать. Но утром был впереди всех, но желающих соваться в пасть с утра было мало – шло мнение, что после обеда сопроматский изверг выдыхается. В это верилось мало, ибо на лекциях своих он не ругал старост, не пытал задних студентов, не спрашивал конспекты и журналы посещаемости, не требовал тряпки и мела, стирал свои «долгоиграющие надписи» галстуком, но видел кто был, кто сидел и кто линял с его лекций. Одним словом, змий-непрофессионал, который не требуется горнякам, но мстит о себе премного. Сволочь, одним словом, беспробойная, не согнешь.
Их противостояние закончилось ничем. ПРЕД внимательно выслушал ответ первого и самого храброго студента (доверяй, но проверяй), потом подошел к его столу, обнюхал и заглянул даже внутрь, задал два наводящих простеньких вопроса, поставил почему-то «неуд», но внимательно сфотографировал наглеца; потом из группы «завалил» еще восьмерых.
Плачевный итог сопромата добил. Он нажрался дешевого вина в дешевом кафе девятиэтажного «Рубина» и оттуда вышел с чистой душой. Два последующих экзамена он спланировал четко, по своей методике – ночью спать, утром учить, днем блудить, вечером зубрить – и сдал их четко и благородно, не менжуясь.
Оставались копейки. Все разъехались из его комнаты, он один здесь – с хвостом из сопромата. Разложил деньги – на будущий проезд домой, на сигареты, на обеды, на балдеж... Небогато, конечно, но и не сиро! И зубрил ентот самый сопромат не только по своим лекциям и даже по чужим конспектам, вгрызался и в учебники... Ну и муть... Интересная. А занятно все ж, вот смотри...
Они пришли – впрочем, он и дверь-то не запирал в общаге, да еще «брошенной», это не принято – спереть у студента что-то – это надо постараться здорово: два бугая и татарин Раис, «обиженный», тихо зашли в дверь и выросли в проеме. Ну, вот этого и не хватало в дополнение к моим цветам и сопромату...
О чем еще мог подумать он, проклиная тот выезд и тот букет, который ему сейчас так дорого станет. Впрочем, стоп! Если еще сопромат можно увязать с Букетом, то Раис – белый призрак... Но опять же – если бы не было Второго Сопромата, то не было бы и Второго Татарина. И опять же, если бы...
Да плюнь ты на это, командир. Был Букет, в котором ты нихрена не смыслил (понимать цветы, разводить цветы, нюхать их – это наука особая, не бей себя; точнее – вроде как «ждать и догонять»: унюхал, если сможешь – и догоняй, если можешь).
Все правильно, брат. Ждать и догонять – трудна наука, не сродни студенческой. Сейчас тебя будут бить, мертвым боем; и ты сдохнешь в этой студенческой каморке, ибо против них и бешеного татарина тебе не устоять. Убьют. А они и не торопились. Есть шанс?
Этот плюгавый, тощий и бездарный студент-татарин... «Ну, это ты так считаешь. Раис – добрый малый, попросил нас помочь...»
А-а-а! А-а-а-а! Эй!! Раис бил наверняка. Только тощий больно, не прет супротив голодающего, фу ты, голодного студента, вечно разгружающего ночью вагоны.
Раис валялся в середине комнаты, был вопрос, тихий и спокойный, от этих двух мирных громил.
— Раис нас «принял». Ты должен «ответить». Чем?
За окном – сумерки. В коридоре – тихо.
— Понял. Так что от меня надо?
— Хорошо понял. Нам надо, чтобы ты оплатил услуги... Этого байбака, который валяется здесь. Ты его не в первый раз...
... Вот деньги. Все. Мне надо на проезд и на два дня проживания...
... Мы не будем шарить. Вот тебе деньги на проезд отсюда. И все...
— А этот?
— Этот очухается и уйдет сам. Хочешь – добей. Этот нож он нам оплатил... — зазвенело хорошей сталью по полу. — Мы ушли спасибо за будущую водку.
Каждый из них двоих здорово и профессионально вдарил ему в грудь, и когда он очнулся – сам для себя – никого не было, стол был чист от продуктов, книги лежали на столе.
Да я вас, сволочей, отрою!
Найду.
Пришибу и зашибу.
Вот только знать бы кого...
«Ну, студент, устроил ты для себя махровый букет... Все переломал в комнате. Вы смотрите на него – не он, говорит. Но трезвый. Ладно, поймем. Но все равно на следующий год таким не место в общаге».
И заплакала его доля.
Да ты не печалься, студент.
«Сопромат» его принял и долго мучил вопросами, потом понюхал его стол, задал десять вопросов, спросил «Что ж ты?», сказал, что «отлично» поставить не можно, ибо «второй срок». И он уехал на горную ознакомительную практику.
* * *
Не будите зверя – советуют здравомыслящие. И правильно, если хочешь жить тихо и здраво.
Зверь, Лютый – так обозвали его однокурсники к третьему курсу. В середине первого семестра третьего курса его вышибли из института. Так, просто, за мелочь и непочтение к преподавателю кафедры металловедения. Но «мелочь» эта висела крупными буквами на втором этаже возле деканата горного здания, что напротив монастыря и военного госпиталя в Зеленой Роще: «Отчислить...»
Вот вроде и все. Долгий путь закончен.
Но, может, он еще вернется...
И вспомнит, кто есть кто и что это такое.
«Кто» есть «Рыжая» и что такое «Через десять лет»...
На том и спасибо, до свидания;
Не прощаюсь, однако, ибо знаю и ведаю:
А в вечном огне виден
Вспыхнувший танк...
Здесь вам не равнина,
Здесь климат иной...
Так кажется пел в те незабвенные годы Владимир Семенович Высоцкий...
Рыжая
Ну вот, вроде и все. Отстоял вахту, надеюсь – очередную. Оттрубил ее от звонка до звонка – пять лет, ровно пять лет плюс шестьдесят первый месяц предоставлен как отпуск за учебу, как будущую компенсацию перед прыжком из прошедшей юности, из прошлой молодости в большой мир взрослых, где не прощаются глупости и потребуют отдачи на полную катушку. Но я уже готов, зря что ли эти пять лет отстоял в очереди за своим дипломом, многие ведь не дошли, даже перед финишной чертой упали, не дотянув дышло. Я пришел к финишу, не хорошо и далеко не плохо, в середке среди своих, однако имел право на свободный выбор средь предложенных и затребованных мест – от близлежащих «под маминым крылышком» до далеких мест «на краю света».
Он закончил институт. С чем и поздравляем.
Защитив диплом «на отлично», однако не заполучив красного диплома, домой он не торопился. Защищался он в третьей очереди, после него еще были три (или даже четыре), но домой опять же не заторопился... Причин много и все, быть может, даже бессмысленные и нелогичные... А как это можно быть логичным 22-летним свободным и холостым инженером? Не стоит ли отгадать причину...
Да, не женат. Еще не женился. Или же правильно – пока еще не женился? До третьего курса еще мечтал обзавестись женой, конечно в образе любимой девушки; что там не получилось, что заскрипело еще и еще в его молодой строптивой душе... Где получился сбой? Зато после третьего курса, почувствовав себя свободным, полетел искать себе счастья, обычного счастья – знакомства, танцы, девчонки, вечеринки. Учеба уже давалась легко, шла сама собой – и жить стало интересно вновь.
На старших курсах многие однокашники кинулись устраивать личную жизнь. Ну, понятно с теми, кто был постарше – после армии, после техникума и работы им сам бог велел: обзаводились постоянными подругами, которые были известными для них раньше и потом, в перерыве между учебой и студенческими вечеринками занимались сексом и устройством будущей семейной жизни. Но это – старшие, с их будущими свадьбами уже на пятом курсе; были им подражатели и из младших, те пыжились, но серьезно их не воспринимали. В этой борьбе за будущее место под солнцем играло все – молодость, задор, талант, опыт, снобизм, карьеризм, напыщенность, мудрость, трезвый расчет... И те молодые, что начинали учиться после окончания школы, особо не торопились надевать хомут на шею – «все у нас впереди», хотя у многих уже были подруги на примете. А как же иначе – пора!
С 1-го октября, согласно драконовским законам, он, дипломированный инженер, должен был прибыть на будущее место работы и 3 года отдать там свой долг родине. Называется – отработать в обязательном порядке, зря что ли государство 5 лет тратилось на твое высшее образование? К его отъезду готовились тщательно – все же отправляли за две тыщи верст с Урала киселя хлебать в Восточной Сибири. Занимался этим отец, заполошные были и остальные члены их семьи, когда виновник этого торжества махнул им рукой и сказал «мне надо, я отъеду на пару деньков».
— Так ты ж получил все документы (диплом и военный билет офицера запаса) и деньги (проездные, подъемные, причитающиеся, отпускные) для себя там? Что еще забыл?
— Ладно, родители, не мешайте, — сказала сестра. — Значит, что-то забыл. Кроме бумажек и денежки. Да, братик? Давай, катись...
Он и покатился. И плевать ему было сейчас на его собственные сборы. Жалко только отца и его старания, тот постарается: составит вначале список, повытаскивает из кладовки кучу вещей (заранее уже «добытых» по друзьям-товарищам, гражданским и военным) – валенки, меховушки, двухпалые рукавицы, меховую куртку летчика, шерстяные носки (мать вязала), рюкзак, ремень офицерский и сумку полевую офицерскую (и зачем, спрашивается?)...
И зачем – спрашивается?
— Батя! Я же не геолог, как некоторые. Опыт сборов у тебя большой, спасибо, и спорить даже не буду с вами. Не стоит. Зачем мне столько и сразу? Потребуется – вышлите потом, по возможности, а за громоздким я и сам потом возможно подъеду, да?
— Да, — озорно ухмыльнулась сестренка. — Мы и сами с усами. Оставим на потом, папа. Явится наш голубчик, куда ж он денется: если у него будет хорошо – будем ждать его явления года через три-четыре, если что не случится вдруг сверх-хорошего; если же плохо что-то, ждите тогда... э-э-э, так, да, братик, – попозднее?! Я побежала на свидание, если получится, а вы уж тут с его скарбом разбирайтесь сами, — и она поскакала по своим делам, что с нее взять – молодой и здоровой девицы, а я – инженер без году неделю, убрался из города по своим делам и заботам. А то! Дел уже стало выше крыши, забот по горло, не то что у нищего и вечно голодного студента, коим был когда-то давно, да? Вот кого советский народ любит и лелеет, кормит безответно и на дармовщину – солдат и студентов. То есть защитников наших нынешних – солдат, и будущее свое в виде такого незащищенного класса, как студенчество (не путайте с крестьянством, рабочими и интеллигенцией; и к служащим студенты отношения не имеют... может, «учащиеся» дармоеды государства?). Солдат и студентов народ привечает, с душой относится. А к студенткам тогда как? А никак. И то правильно, студентка – это же не студент, который при трехразовом питании позволяет себе питаться в понедельник, среду и пятницу, в выходные дни и вечера – на подножном корме, на вольных хлебах, на свободном выпасе, да и воскресенье чаще тратится им на охоту, досуг, халтуры и халявы, подработки и разгрузки гос-товаров. Впрочем, что с него взять, бедолаги, грызущего гранит науки.
Его ждали. И вопросов, похоже, к нему много было. Накопилось за год. Да и не мог он вот так запросто уехать хлебать киселя, не увидав свою подругу. Не поставив многоточия их отношениям.
Ведь это ж надо было! Впору вспомнить «и дернул черт связаться с младенцем». Разница в годах, по его понятиям, была ой как большая – в несколько лет; ну, конечно, он был старше ее, а это для него было существенным недоразумением в их отношениях. В общем, его подруге сейчас было примерно столько же лет, когда его заставила природа в тот далекий майский день биться сердце учащенно – так, будто мир стал иным и солнышко, ярко-рыжее, засияло на будущее среди плотных серых энергичных дней его юности. Сейчас, конечно, уже не то – не тот он уже. Но разве и для других людей не должно быть яркого мая? «Весна, — скабрезничали студенты. — Щепка на щепку лезет. Любить одно, быть любимым – тяжело».
Вот она, худенькая и высокая, вся в ожидании высокого полета, летит навстречу и падает доверчиво в его каменные сильные объятия. Ждала. Надеялась? И верила?!
— Почему так долго не ехал?
Заметьте: не «приезжал», а именно «ехал».
— Как только, — он обнял ее бережно, такую хрупкую. И рыжина ее волос, разметавшихся на всю округу, глубина ее бездонных глаз забили наглухо его бестолковые тревоги о них самих.
Они целовались, обнимались, как люди, теряющие благоразумие.
Разница была лишь в том, что она сильно его любила и не собиралась думать о будущем, только могла и хотела мечтать, он же, будучи старше, уже думал и должен был думать о...
О том, что ей учиться еще год. И что этот год его не будет рядом с ней. Как и где они должны будут встретиться через год... Вроде как заново. Много в «том» году возможно будет на их пути – на параллельных путях – искушений и невзгод; да не сломается ли их любовь... Где будут жить, устроится ли их работа и быт. Вопросы пока без ответов. Ответ только один – спасет любовь, рыжая большая любовь, если конечно ее поддержит огонь и надежда. Не он ли должен дать их?
Золото ты мое! Рыжьё! Так и золото называют в обиходе – рыжьё, и цвета оно желтого, оранжевого, красноватого, с бронзовизной – весь тот спектр с его левой жизнеутверждающей стороной; ведь и сердце у человека с левой стороны, не так ли. Где уж тут физике и анатомии с биологией понять жизнь!
И мне моя рыжая подруга доказала, что она не рыжая – золотая, светится и сияет! И зря в природе считают рыжий цвет плагиатом и мутантом; создал же Бог от света и тьмы не только цвет, но есть и оттенки, так что рыжие – не есть недомерки и смесь-помесь, рыжие есть цвет жизни, солнца, радости, долгожданных брызг. Так она говорила ему, смеясь.
— А у тебя поди все блондинки были... знакомые? А с брюнетками ты здороваешься? И вообще – много у тебя женщин было?
Ну, вот и добрались до истины.
— Ладно, ладно. Я люблю брюнетов, успокойся.
Успокоился. Тем более сам шатен, волос темный, может и не жгуче черный, без синевы, но очень даже, годится.
... А вообще-то молодость не разбирается в цвете волос – до того ли ей...
Когда я обнимал ее и мои руки начинали непроизвольно скользить по ее спине и все ниже и ниже, она вдруг вздрагивала и начинала выворачиваться из моих ласковых и любопытных рук. «Я не кошка. Просто непривычно, а тебе нравится дразнить. Меня ж мама только по головке гладила и давно уже, нас у нее было несколько, наразрыв шла, не успевала за всеми нами». «И откуда ж вы все такие появились, неласковые неразумные дитяти?».
Она смеялась в ответ.
— С Сахалина. Будто не знаешь. Собрали группу и отправились сюда на обучение. Мать в крик: «Не отпущу так далеко!» Потом смирилась. Поваров там, видно, не хватает, вот и Большая Земля решила подмогнуть острову. Мы ж ускоренная группа. Широкого профиля. Но с одним условием – заканчиваем и туда обратно.
— А есть ли причины после окончания не возвращаться?
... А что, если ты вот будешь как бы без одежды, ну совсем, и я тебя буду обнимать за спину?..
... Выдумщик, и где так обниматься надумал – твоя общага как проходной и хищный двор, моя частная квартира – как бочка с селедкой...
— А ты селедку ел? Да нет, нашу, сахалинскую. Вкусная?
— М-м-м. Нет, не доводилось.
— А я тебя недавно видела с какой-то блондинкой. Она тебя обнимала и в глаза заглядывала. Фу, старуха против меня. Я тогда хотела к тебе в гости зайти и ждала на улице около общаги.
— Да это просто знакомая. Помочь просила кое в чем.
— Понятно, что знакомая. До того знакомая, что терлась грудью о тебя...
— Да перестань, не то отшлепаю.
— Правда? И платье подымешь?
... А покажи, что твоя блондинка чувствовала, когда прижималась грудью к тебе – соски твердели и набухали, и горячо внутри становится, да?
— Да. И подол задеру.
Ему было интересно с ней, по крайней мере, не так скучно, как бродить одному, без пары. Ведь когда двое – тогда гармония в природе. Ей, молоденькой, все позволено сейчас – вдали от родного дома и матери, ну чистое дите иной раз, которой хочется так узнать и пощупать неизведанное и запретное, чем порой она и пользовалась, никогда не переходя границ дозволенного, стараясь оттянуть ту опасную черту. «И хочется, и колется, и мамка не велит», — съехидничали бы по сему поводу студенты-старшекурсники. Но ему с ней было интересно, как с тем маленьким шаловливым котенком, который не знает когда и что выкинуть, неподражаемый и грациозно-неуклюжий. И он порой не мог отгадать – что ждать от нее следующего... Иногда это утомляло, и тогда он думал, что не грех бы куда сходить, развеяться, уйти от многих проблем и забот, которые так любят преследовать студента. Впрочем, говорят, что студенты – народ беззаботный. Это верно?
Сомневаюсь.
«И дернул черт меня податься в горный институт», – песня есть такая (самодеятельность) про студентов этого знаменитого и многоуважаемого института. И дальше они пели так: «Эх вы, студенты, инженеры без диплома, вам не девчонку – миллионы подавай, а если вдруг не сбудутся надежды наши – сто грамм с прицепом на дорогу и прощай!» Ну не балбесы ли великовозрастные, недоросли горных недр и богатств! «Но-но, мы не одни в нашем городе, тут почитай каждый десятый житель есть студент». Полтора десятка ВУЗов и почти полсотни техникумов – политех, университет, сельхоз, лесной, ж/д, пед, архитектурный, медицинский, партучеба, художники и консерватория, суворовцы... – долго перечислять всю эту братию – студентов и студенток, учащихся и обучаемых, всех тех, кто так или иначе пытается угрызть гранит науки и остаться не беззубым. И взяли тогда на анализ мечты и мысли студентов-горняков и студента из политеха (самого крупного учебного заведения в городе)... Да это анекдот, не было таких ученых проб... У политеха видят огромную книгу и рядом маленькую точку, но да тут все понятно, и эта точка ну никакой роли уже не играет; у будущего горняка рядом с большим стаканом тоже есть точка, очень малюсенькая, без большого увеличения и не понять, но разобрались и с этим – кусочек соленого огурца, видно, на закуску, что говорит о практичности и выживаемости данных индивидуумов.
За пять лет студент чего только не натворит. За четыре года, есть же такое обучение, намного меньше интересного сделает, салажата! Первокурсник еще мнется как та девочка, третьекурсник скрипит зубами от досады и рвется в бой, пятый курс, то есть уже будущие дипломники, вальяжны и снисходительны, прошли «рым, крым и медные трубы», все-то им уже по зубам и нипочем – разойдись, чернь, человек идет!
Эх, рыжая ты моя, трудно мне с тобой. Тянет меня к тебе, а ты отталкиваешь. Но боюсь однако жизнь тебе испортить, ты ведь только вступаешь в нее и подобна студенту на первом году обучения. Отталкиваешь – и краснеешь, всем рыжим такое, что ли, свойственно, а я только бледнею, не зная, что ожидать – дашь по рукам в следующий момент и потом повиснешь на мне? Так нельзя – быть абсолютно непредсказуемой, голова должна управлять эмоциями, а не наоборот; или любовь в тебе взыграла необузданным огнем? Смотри, спалишь наши отношения, перебаламутишь, доиграешься, хоть и любопытные парни – студенты, все-то им дай на зуб и пощупать, но и они не беспредельны в их терпении.
И так ли уж беззаботен студент? Сытый и довольный (чем?) студент – жизнью доволен и такие дела может наворочать, какие и не снились его голодному и холодному предку. Вот только спать всем хочется – и голодному, сытому, замерзшему, и довольному и пьяному, согласитесь, и неважно, кто вы по природе – сова или жаворонок. Если у него не хватает денег, а они вечно почему-то заканчиваются за два дня до выдачи стипендии, как их не растягивай, и он уже мечтает и бредет заранее на халтуры и шабашки, с вечной мечтой чтобы пожрать: сухарь, голубей, концентрат, консерву дешевых бобов, тарелку супа в студенческой столовой, а еще лучше три гарнира без котлеты и два чая без сахара; соль на столе, лук на дармовщину при эпидемии гриппа, горчица – бесплатно на столе, только хлеба бери побольше... И ложку потом не забудь прихватить с собой незаметно – авось да где пригодится.
Как, спрашивается, он познакомился со своей рыжей? Не сказать, что история слишком интересная, но занятная, и случилась она год назад, когда он стал наконец-то пятикурсником, а это вам не хиханьки-хаханьки – последний курс!
По правилам первокурсников и пятикурсников обеспечивали местом в общежитии, остальным – по мере возможности, то есть наличие свободных койко-мест и в зависимости от обеспеченности студента. Его это уже не коробило, но из былой солидарности он поплелся с Марком и его компанией искать для них частную квартиру – они были курсом помладше. Откуда он их знал? Да запросто – прожили год до этого почти всей кучей на «квартире» и сейчас по старой памяти решили посетить ее, авось обломится, появится крыша над головой; не очень близко, конечно, но что поделаешь – дареному коню в зубы не смотрят. Да и какая-то неопределенная договоренность про будущий съем с хозяйкой дома имелась – зря, что ли, они там ютились вшестером в одной комнате за определенную плату...
Автобуса ждать не хотелось; да и накладно для кармана и большой компании. Побрели пешком до частного сектора. Сапоги дорогу знают. Чай не первый раз замужем. Вот и родимая сторона – вот эта улица, вот этот дом. По-хозяйски и вольготно ввалились во двор, зашуршали туфлями к входной двери. Встречай, хозяйка, вот и мы, явились, не запылились – летом побывали на практиках где только мыслимо и далеко, теперь вот слетелись вновь, надо дальше учиться, кров нужен усталым путникам... Довольно гоготнули как перелетные птицы и постучали.
Как зовут друг друга люди, неплохо знакомые между собой? По имени обычно, или по фамилии, но могут и по прозвищу или же по сокращенному от имени-фамилии. Сейчас в этой компании, в которую невольно попал будущий пятикурсник, можно было выделить их невольного лидера, которого все звали Марк, и его близкого дружка по кличке Оса. Марк и Оса были земляками, с одного города, и даже более того – друзьями с детских лет, проживавшими на одной улице. Что одного окрестили как Марк – вроде понятно, возможно то укороченная фамилия, но вот насчет его друга, которого звали Оса, а больше и чаще называли как Ося – мало тот смахивал на осу или же напоминал одессита... А вот что же на самом деле – оставалось загадкой.
Впрочем, он больше уважал и имел дело с Марком, сталкивался с Осей редко, на «квартире» с ним ранее не проживал и относился к Осе равнодушно и с подозрением.
Никто нас не встречал, никто на стук не ответил. Нет хозяйки дома. Первая дверь промолчала, зато из-за второй громкий и звонкий голос бодро ответил «входите, открыто». И Марк смело ринулся вперед, а за ним и вся его ведомая толпа. Какой визг их встретил, не описать; такие явления нечасто видишь и слышишь, это что-то вроде как неожиданно врывается парень в женское общежитие поздно вечером или он же случайно, конечно одетый, попадает в женскую баню. Марка заклинило в дверях – ни взад, ни вперед, сзади народ напирает – любопытно: если женщины, а скорее девчата, визжат – то зачем и почему? В каком они виде?
— Что случилось? — начал пробиваться вперед Оса.
— Тебя тут только не хватало. Разберутся.
— Все ноги оттоптали.
— Да подожди ты...
Все правильно: когда последние из парней наконец-то влезли в комнату, установилась уже идиллия под названием «стоп-кадр»; обе команды, девки и парни, с непередаваемым интересом приглядывались друг к другу. Парни угомонились сразу, перестав топтаться у порога; девчата в тихую продолжали заниматься делом – кто окончательно залез под одеяло, некоторые прикрылись и закрылись от чужих посторонних взоров, кто-то сидел за столом. Вперед смело вышла растрепанная девица в немыслимо коротенькой футболочке, похлопала себя по голому животу и живо так вопросила:
— Вы кто?
Ответы не замедлили ждать: «Конь в пальто», «проходили мимо», «где хозяйка, мы к ней».
— Зинка, да подожди ты, — вперед вышла девушка постарше и попредставительней, рассказала и объяснила. Так что ларчик просто открывался, мудрить не стоит.
... Да вы проходите, ребята, не стесняйтесь. Присаживайтесь. Вы к хозяйке? Наверное, по поводу квартиры? Поздно, опоздали. Наше училище договор заключило с ней о сдаче жилой площади нам. Вот, теперь мы здесь живем. Я – староста группы, отвечаю за них и их благоразумие, за бытовую дисциплину и явку на занятия. Да нет, законы у нас нормальные, хозяйка особо не притесняет, но и вольностей больших не позволяется. Мальчики, а вы чьи? Студенты? Хорошо, что не местные разбойники и уличная шпана, так и липнут с расспросами, фу-у, пройти не дают. «Девочки, а вы что ль не местные? Здесь таких красавиц вроде раньше не водилось... — передразнила старшая. — Подождете хозяйку?»
— Ну конечно! — и Марк вступил в дипломатические переговоры почему-то именно с Зинкой, а староста ушла куда-то по своим делам; оставшиеся девчата защебетали, ожили, парни стали разговорчивее... Пошло-поехало!
Он стоял и спокойно, без эмоций смотрел вокруг себя. Не ради любопытства, скорее оценивал обстановку, и крах затеи Марка, и красоту окружающего «пейзажа».
Их внимательные взгляды встретились – его усталые глаза и прыгающие бесенята в глазах молоденькой статной рыжеволосой девушки. Она тоже смотрела на него не отворачиваясь и без особого смущения. И заполыхал в душе его забытый рыжий огонь, вспыхнуло сердце с новой силой – вот вроде уж как много лет прошло с того майского дня, который силой пришлось вычеркивать из памяти... Эта девчонка, рыжая, как его прошлая любовь, явилась к нему как из небытия – напомнить? Оживить? Радоваться странному и загадочному миру?
Почему-то не спускал глаз с этой рыжей и Ося. Заворожила. Но – она и он – смотрели только друг на друга, не замечая Марка, Осу, подруг, других парней...
«Да вон рядом комнаты сдают. Здесь недалеко, минут десять хода. Спросите от моего имени, обязательно на постой возьмут, — пришедшая хозяйка порадовалась за студентов, обрадовалась Гнату и будущему дипломнику. — Ой, ребятки, выросли за лето. Далеко ездили? Заходите в гости».
Вот так вот обнаружили съемное жилье в частном секторе и целое месторождение милых девиц в тот вечер студенты.
... Марку было проще – он бегал к своей Зинке недалеко, ведь почти рядом обитал, а ему приходилось добираться намного дольше в тот частный сектор – заходил к рыжей, посещал иногда и Марка с ребятами, сталкиваясь порой и с Осей...
Студент сродни в некоторой степени солдату срочной службы. Суматошная энергичная жизнь, весь в движении и поиске – будет что вспомнить потом. Тут уж кто что припоминает: рестораны и экзамены, столовые и сессии, разгрузку угля и дешевое вино, девочек и музеи, зубрежку и бессонницу, драки и танцы – одним словом, весь комплект студенческого сервиса.
И он был не лучше и не хуже, получив «вольную» и отставку на третьем курсе. Значит, есть дальнейший выбор и поборы жизни? Которой надо отдать молодость, задор и энергию. Кому – предлагаю, знакомлюсь, вижу! Не окажется ли все это этапом большого пути? Замена ведь есть всегда, свято место пусто не бывает. Вечерняя общага закрывается – приходит ее вечерне-ночная жизнь: голодная, суетливая, страждущая и находчивая, моют полы дежурная комната, общаются, учатся и переписывают лекции – и чем не продолжение дневной беспросветной суеты студента?
Неугомонный народ – студенты. Будь моя воля, я бы вместо графы в анкете для них «учащийся» (и даже вместо «служащий») ввел эту новую и вечную... Не дадут.
Много на пути встречается подруг и знакомых девушек студенту, ежели он еще и пока неженатый... Холостой в свои за 20 и неженатый – а что? – человек ищет свою долю, свой хомут, свою вторую половину. И дай Бог ему «это» найти и приобрести.
Он был – после своего третьего курса – не лучше и не хуже других и своих однокурсников. Пойдем искать приключений на танцах в соседнее женское рабочее общежитие – да пойдем, покуролесим! После чего раз он пришел без своего поясного офицерского ремня – отец дарил, с фонарем выше крыши и плохо соображающий... Зажило как на собаке, но все неймется дуракам. Но все ж обычно студенты предпочитали знакомиться со студентками (не всегда, конечно). А что? Выбор широк, среди многотысячной толпы студенток ай да найдется подруга «дней суровых». Хочешь – со своими «доморощенными» познакомься, хошь – только не ленись – катись в сельхоз, лесной, архитектурный, железнодорожного транспорта – только опять же, не ленись, – все подруги твои будут «вскоре» с высшим образованием. Вот только как скрестить горняка с... нестыковочными группами претенденток на «свободу» будущего горного инженера? Но и у будущих работниц сельского хозяйства, «строй»-дела, МПСМ и лесных питомников (и т.д.) тоже требования были свои – и горняки здесь редко выходили победителями...
Я ей про Фому, она мне про дуб, а дуба я и толком не видел в наших краях, да и в тех, кои успел пока посетить. Да и трудно представить счастье – синюю птицу где-то в таком квадрате леспромхоза. Ну, тайгу я знаю немного и чуть, вырос в ней, но вот в глухомань вашу «лесного хозяйства» еще не западал.
Будешь агрономом? В колхозе? Да упаси Бог – только что оттуда вырвался несколько лет назад. Примнится же такая...
Строить буду. Этим модернистам и кубистам из 30-х СССР-а и не снилось... Да ради Бога, бараки еще не все снесены, а вы туда же – полет фантазии!
Большой проект – от Байкала и Амура, на Долгий Дальний Длинный в-в-в-Восток... Бр-р! Молодцы, девки, но мы-то здесь причем – нам-то с вами как жить и «воевать»?
У нас свой ГОК (горно-обогатительный комбинат) в КМА (Криворожская магнитная аномалия) – вскрыто месторождение, крупнейшие будущие горноразработки – и в учебниках они становятся «классикой» – так нам туда, и кто со мною? С нами... Кто не с нами – тот против нас и не с нами, да?! Согласитесь, мои горняки, маркшейдеры, торфяники, золотодобытчики! Ищите в борьбе и для борьбы равных.
Ну и занесло. Ну и понесло. Ну и разнесло тебя в очередном рейде в женскую общагу пединститута – слава Богу, далеко не ходил – напротив. Пединститут – далеко не конкурирующий объект для мордобитий, свалок и междоусобных разборок. Там нет... точнее, их мало – один к десяти, девчонки к парням... Ведь что такое педагог? Учитель да и все. Так нет, возгудели редкие парнишки из будущих «педов» - мол, не дадим (не отдадим) своих в чужие сиволапы (горняков-варваров... не понимающих тонкую душу будущих учительниц). Да мы особо и не настаиваем.
Ну побили рожи. Некоторым. Сломали случайно вахту на проходной. Так ведь досталось обеим сторонам! И зачем тогда милицию вызывать? И девчонки плачут...
Знай наших! В противоборстве горняков и «учителей» всегда верховодили первые. И даже очень!
Ведь все мы, молодые и здоровые, хотим заиметь свое второе «я».
Культурная программа самообразования студентов была «ой как» и «как даже» обширна. Не подумайте, что они зациклились только на мамонтах и пещерах. Фигу ВАМ, старейшим и стареющим...
Нас водила молодость в сабельный поход...
Это не кощунство – выбор жизни нашей, насколько мы ее понимаем и утруждались в ней. Мы шли с подругами – по парам, поштучно, кучно, в одиночку и не торопясь от других... Всяко было – он например, тоже не отказывался сводить свою новоявленную подругу в ЦПКиО (сами расшифруйте) или в дендрарий-парк (какие там закутки, настоящие джунгли, где можно обниматься и смеяться и запросто есть дешевые «бобы»), а если еще со своими друзьями-однокашниками да пойти в это самое ЦПКиО (имени Маяковского) попить пиво... да со своими «старыми» или «молодыми» подружками... И потом вдруг где-то съесть (позволить) всем мороженого (обожраться до потери смеха) и зайти на десерт в пельменную...
Это – что-то! И неподражаем мир наш.
А они нам в ответ – сводили на оперу «Кармен», на концерт ВИА (вокально-инструментальный ансамбль, знаменитые тогда «Гитары»)... Иль в филармонию на классический концерт (выспался там я, сволочь)... Впрочем, в картинную галерею и в горный музей ходили уже «вместе» и в усобицу – она была дочь копейского шахтера и должна стать геофизиком;
– она любила музыку и играла на рояле, но должна стать горным инженером-обогатителем;
– она просто любила жизнь, и ее занесло до «инженеров-торфяников».
Это были все свои, его душа и совесть... Не думаю, что они проклинали его сейчас!
Морду били. Били морду. За дело и просто так – «было бы за «што», совсем бы зашиб». Сдачи давал, на первокурсе ходил на бокс и занимался классической борьбой (эх, жалко что не самбо! Гири-то он «поимел» с ранних лет и неплохо получалось...)
— Ох, Марк, дружище! Все-то у тебя ладно с твоей пухленькой виртуозной Зинкой... А вот у меня, Марк, что-то не задается с моей рыжей тоненькой недотрогой!
— Да мне тебя учить? Напейся, напои, завали, враз твоя будет. Мне ль тебя-то учить... Главное, поменьше лирики. Меньше слов – больше дела.
Но поторопись – продукт скороспелый и быстро портящийся.
... Так ломать Рыжую? Не стоит?
Поберечь от себя?..
(Была бы другая – и вопросов бы не было).
Н-да, повариха с острова Сахалин, попала ты под пресс... Хотелось?
...(впрочем, рано или поздно, все равно бы то ж случилось – как говорилось ранее – хочется, колется... уже без мамы)...
А вот если человек любит и хочет?
Ну да с Богом – не ошибись только, не обожгись. И не пытайся спалить другого.
Чего и вам желаем!
Мало видно, мало что ли его били – а он, зараза, крепчает. Значит, ума набирается. То его побили салаги – первопехота на вечере «прием в студенты» – выжил, «алкаш», студент-пятикурсник будущий... И праздник сей не в радость, и подруга-первокурсница смылась. А то прибежал его братец-салажонок, абитуриент, и пожалился... Знатно тогда было – кучкой против татаро-монгольской орды – сначала нам троим, мне и моим друзьям, морды умыли, но уж потом – мы им, слава Александру Невскому! Верхний мой друг глушил и пихал врагов вниз, средний мой дружище добивал и отправлял поверженного вниз по лестничной площадке... Нижним был я – не жалел сопаток. «Ледовое побоище» состоялось.
И все это – прошлое. Далекое. На пятом курсе моем, уже по осени – встретили меня трое. Сначала сцепились (Что ты к нашим девкам?), схватились (Студент, что ли?), ударили (Ты здесь зачем?); ответил; били(кости не ломали, не пинали).
— Ты кто?
Ну явно, для них, не конь в пальто. Иду и иду. Куда? А не ваше дело!
Ну так получай! Хватит.
— Ты кто? Не хами. Не груби.
... А, так это их знакомый студент? Не обижай девок...
... При чем здесь мы и они? А тебя это колышет? Ты на кого глаз положил? На рыжую? Да помолчи ты, Штырь, пусть идет, тебя она давно отшила. Ты, студент, чуть что, если закрестит, примнится – говори, что от меня – иди, студент! Благословляю! (Благородная шпана, ишь ты...)
«Боксер» в нем успел – он дал четкий нокдаун местному атаману. Может, не зря студенту по его молодости и силам иногда быть и спортсменом?
Били. Не калечили. Строго нежелательно. Отпустили. Признали право за пугливой рыженькой девчонкой и ее парнем... Даже в поздних вечерах.
Она плакала и спрашивала: Почему?
А жизнь жестока. Это у вас там в провинции или в нашем горно-уральском городишке быть может порядок...
Как они встречались и когда – уму непостижимо. Но ведь встречались. Прижавшись друг к другу, как бездомные собаки – без судьбы и правил, – они жили для себя обоих.
Горняк и повариха, которые хотели быть вместе. Суждено ли?
... Вот и год прошел, их год, год судьбой обозначенный... Вроде что там – минутой раньше, годом позже.
Но моя родная судьба?
Где она... И не теряю ли...
... Фу-ты гнуты, блеф большой... Да не верь ты, чучело, судьбе своей!
Да, я не верю в «свое» при памяти «чучело»! Я – это я!
Помню: рыжую знал, обнимал без восторга..
— Ты не сволочь? Не маньяк?
— А это как?
— Тискаешь – и без восторга?
... Ну как их понять, девиц...
... А вот...
Я защитил диплом. И на будущее – не бейте меня и не трогайте. Я устал.
Шучу.
... А знаешь, когда хотела не рехнуться в этом нашем интернате... Там же вечно лезут к тебе под душ и в душу... Поскользнешься – и тебя оприходуют в твоем родном интернате...
... Мне нужна такая жизнь? — спросила меня когда-то «моя». — Я под всех должна стелиться?..
Интернат – казарма.
— Да, у меня нет родителей. Да, меня «усыновили» и вытянули из Костромы... к тетке.
(Вот тогда и случайно я увидал свою первую, «воинственную» рыжую любовь – в далеком мае шесть лет назад).
Ты, который и не был тогда студентом, месяцами и по году у своих родителей...
Ты... Я...! И больше никого. После того, поймешь – отгадаешь – когда тебя рвут на части?
... Да успокойтесь вы, все уже на месте, синдром прошел...
Память осталась.
Ну что – будет вздрагивать «рыжий»? А не рыжая в ответ: – ...
... Упаси меня, Бог, насколько можешь...
А что? Кошмары рыжих и молодых не мучают – не по зубам, в «32» их не взять, не победить, это ведь не штурм Измаила Суворовым под зиму... Потом же лето грянет.
В мае пригрело, и пруд городской и огромный – одно слово, старинная заплоть рудного городища, всем место есть – и тот закипает. Куда ж деваться бедному (студенту), как убираться на городской дальний (горно-заводской) пруд. А там есть простор, гладь, лодки напрокат, тишь и благодать... Подходите – дешево!
— Так берем!
— А как же. Мы для чего здесь.
Просим горожан, всех прочих и особенно студентов – не проходите мимо!
Рыжая моя аж в смех вошла.
— Что-то не то? Ты такой грустный... Заваливаешь зачет??..
А ему – смешно и грустно. На хрен ему, будущему дипломнику, в июне, когда все уже на мази, и диплом в кармане, какой-то зачет?
Их было три пары; друзья его со своими подругами, и он тоже – со своей рыжей. Но его ребята заимеют блат остаться «близ», а его должно занести куда-то ниц – но его и то не смущало с его рыжей, пока один из его верных, старых, преданных, прямых, мудрых и чуть старших друзей вроде как случайно не буркнул...
Шок...
Он думал – друзья, други его...
Но ведь они так и сделали.
Не... Только вот один из них, морду своротив, обронил...
«Я видел твою рыжую».
В-И-Д-Е-Л! (раньше, ту, настоящую!)
Ох, сволочь, дать бы тебе по мордасам твоим наглым, миасская наглая рожа – 14 братьев и сестер, все в разгоне, кто и где...
И все пытаются узнать о своих 13-ти...
А и тебе, Сашка-друг, хоть и молчишь, со своей Людкой-тихоней обнимаешься...
А мне... Мне почему нельзя плыть среди ВАС, не вышел мордой, други мои?
... Да вышел, вышел ты, тем более мордой, боксер и гиревик, искатель приключений...
Моя рыжая мотнула гривой, почуяла.
Мой «болтливый» друг замолчал. И другой – тоже. Дружно загребли веслами и чуть ли не запели про Разинский стрежень.
... Вот только моя рыжая не поняла – хоронят меня, мои сволочи-други.. Им что, их подруги местные, будут «бичевать» (почти на всем готовом).
Это нам надо в путь грядущий, в Сибирь, на Сахалин... Должен же кто-то там быть, кроме местных причиндалов.
... Извините, низко кланяюсь, вы – дипломированный – не номенклатура, не еврей, не госструктура... Да я ж и не прошу об этом!
— Правда? Извините – 23 – дык об чем тогда, мил человечище?
— ... Мне бы к черту на кулички...
— Что же вы, передовой и Красный студент, о сем молчали... Ну и – ?
Скатертью дорога.
Тогда уважил.
Да пропади вы пропадом!
Во, придурки.
А они мне нравятся.
И блата нет?
Но это же?
Не фонтан.
... Р-р-р, женатики и фантомы, богатенькие и евреи, сволочи и лентяи...
И прочие.
... Отвлекся я и моя рыжая, мне тут по зубам дали, вновь, а эта моя стервь так набросилась на моих двух недругов, что мне и самому стало страшно... И я не думал, что рыжие – стервы! Я предполагал, что у студента все его девицы – стервы, но стервозные должны быть в образе... Явно не рыжем. Кхм-м-м.
Да ладно печалиться. Вся хворь позади.
— Жалко Мересьева.
— Маресьева. Мересьев – прототип.
— И все равно жалко. Ползет, ползет...
— И шишечку съест. Да это ж мы проходили, глупышка ты моя.
— А ты такой, такой... Шишку ел?
— Что-о-...
И она снова смеялась: — Кедровую!
Тьфу ты. Ну как тут сладишь с детворой... Задворками российскими.
Эх, рыжая ты моя! Ты хоть знаешь, что это такое – последний причал, вокзал, полоса... препятствий?
Защищался он удачно и хорошо. Это не первый поток дипломов, где все так жестко и целенаправленно – шел отбор, муторный и правильный – кого надо оставить при месте, кого сослать, а кого и выбросить из списка... Он защитил отбор, покорил комиссию на вопросах «Кто, куда и зачем», глупо и правильно ответил на вопрос об овцеводстве и предстоящем пленуме... «Неплохо, неплохо».
— Грамотно! И разработка того участка ЦГОКа поможет нам? — вопросил председатель комиссии.
— Но это только участок, — поправили его.
— Да-да, — заскучал большой человек.
Все мы знали, что это – большая и неосуществимая липа, даже если бы в ней усмотрели правду. В его дипломе была доля правды, за что он и удосужился знака «отлично», а пред-комиссии отложил ее для себя в сторону – вроде как до лучших времен...
... Я степенно вышел оттуда, вынес десяток с лишним форматов – чертежей, аккуратно их сложил – «три на четыре», – аспирант кафедры ждал и был готов унести и похоронить «итоги» – не ты первый, не ты последний. Но сложить чертежи – аккуратно и добросовестно – то велел наш Бог! – это давняя и стойкая традиция, где уже ничто не свято, кроме того самого... – бывшего студента, который мозолистой ногой и с остервенением наступал на ранее свои белоснежные чертежи.
Но никто не возражал.
Аспирант складывал и уносил. Следующий!
А потом он ушел, дипломник и будущий инженер, в разнос. До военных сборов оставалось еще три недели...
Но две с лишним из них он прогулял, прокутил направо и налево. А что? Имею право! Хоть на носилках заноси в общагу и кричи: «Несут инженера». Сволочи, могли бы занести, а то одного потом (уже после сборов) прямиком и отправили в СА – Биробиджан, там добровольцев не хватает, спиваются лейтенанты.
Но он-то постарался все успеть. Научен. Жизнью, опытом, затырил денежку трудами и человечьей гнусностью – он уже не тот... Но выложился на дипломе полностью.
В день диплома и потом он зашел к своим однокурсникам – помог кому-то вином и советом, потом у «торфяницы» обсудил проект, признав его нерентабельным за бутылкой прекрасного болгарского – где наша не пропадала... Еще не готов «к труду и обороне». Зашел в «обогащение полезных ископаемых», чей сектор всегда не отказывался от помощи горняков – уж они-то в туши чертить были мастера! Ну как не порадеть блондинке-дипломнице... К вечеру добрался до своей рыжей, споил их всю общагу – гуляй, рванье – поварицкую вместе с их хозяйкой-квартиронаемщицей. Наутро было очень и весьма хреново... Но да то издержки производства... Поварихи его завалили избытком блюд, а он побаловал их... Но то история умалчивает.
Так не пора ли, рыжая, вспомнить – что такое «курс» у твоего пятикурсника... Когда ты его можешь увидать или же – сможешь?!
А что? Мы, пятикурсники, люди занятые: сессия, первая зимой; январь – последние экзамены; начало февраля – долгожданные и заслуженные каникулы; март, до его начала – преддипломная практика, и потом – март, апрель, май – подготовка диплома, июнь – защита, июль, август – военные лагеря, сентябрь – последний отпуск перед рывком... Отдыха нет на войне солдату!
Ну как тут не вспомнить – может и не хочется, но ведь – колись: «Первая руда». Глупо, быть может, для некоторых и остальных, но здорово для первых... А и чем плохо – нагрузился, повез, упал... С кем не бывает, судить сбоку всегда проще.
— Или письмо тебе не шлют, из старого черно-белого кинофильма, оно так и называется – «Неотправленное письмо», где замерзает геолог и изыскатель и плывет потом на плоту по зимней реке – чем не романтика, куда там прошлым целинникам и наступающим бамовцам.
— А «Территория» О. Куваева – настольная книга геологов, вроде как у летчиков дальнего сахалинского гарнизона «Повесть о настоящем человеке». Ту «территорию» – чукотскую, военных лет, поди уже и не найдешь, не встретишь, не разыщешь, не откроешь... И уже не будешь загибаться вусмерть ради НЕЕ.
Два месяца я катал пушки – наши боевые отцы-командиры аж исходили из себя и постоянно «правили» – гаубицы! 122-миллиметровые! Образца... огонь! Ну мы и пуляли два месяца – из своей (не пушки) М-30, Макарова и Калашникова, прямой наводкой из 76-мм пушки (сорокопятку не дали), ползали, копали, в штыковую ходили, склады охраняли, в патруль ходили, гранаты кидали... Да мало ли что там еще – отдыха нет на войне солдату... Мой-то батя весной 45-го был старшим сержантом. А я вот – лейтенант-артиллерист, бог войны! Трудно было, покалечили нескольких, а одного гаубицей переехали, по ребрам – умер парень тот, под 190 см ростом, не удержали тормоза и сошники... Выпили за него вечерком – наши отцы-командиры не будили нас тогда вечером, и утром побудку сделали чуть позднее, но к вечеру и отбой сделали попозже!
Вот и осень пришла за моим военным летом. В сентябре на Урале уже холодно, снимай плащи называется, ну а в октябре... В октябре я уже обязан быть в Восточной Сибири.
... ...
Ну что, рыжая! Вот и время пришло. Прощаться будем?
— Ну что тебе сказать про Сахалин? На острове прекрасная погода... Сижу на берегу и камешки бросаю в проливе Лаперуза. Это от Поронайска далеко?
— Не был еще на Сахалине? Буду? В Сибири своей был – летал к брату в гости и был в Хакассии на практике. Посмотрел на Сорск, Абакан, Минусинск, Знаменское, Шушенское... С Лениным поговорил. Снова к братану съездил... А ты знаешь, рыжая (и остальные) и другие чело-вечи – когда я оказывался в незнакомом городе, я первым делом искал музей (ну явно краеведческий, его всегда легко и просто найти – ищи брошенный и хорошего красного вида монастырь, храм, собор – не ошибешься! Поклонись, так чтобы глупость твою никто не увидал).
Ты ж домой, до родителей – ходок не частый... А может и то правильно, идут годы и утекают его студенческие, да и кто там ждет, кроме стариков-родителей... Сгорело все в том рыжем прошлом пламени... Хочется и колется – хоть одним глазом взглянуть туда, назад – в прошлое-будущее, да нельзя. Не положено... Не берет след твоя собака (красиво, бывший студент, поешь! – А и усохни, как научили, так и умею!).
Да, что-то вот невпопад вспомнилось: несколько лет тому назад, когда искал в соседнем областном центре тот злосчастный автодорожный техникум – и тогда он успел побывать и посетить местный краеведческий музей...
Эх, рыжая ты моя, я к тебе, в этом сентябре и перед своей Сибирью, а ты бросила меня в недоумении на одной из центральных неоновых улиц и грациозно ускакала в свое маленькое общежитие в частном доме... А мне? Если честно – я ж не собираюсь бегать за тобой всю жизнь, не приучен. Не балуйся; не буди зверя; и до чего же климат здешний на любовь влиятелен, и я тоскую по соседству и на расстоянии...
Эх, рыжая ты моя! Прости. Что-то не получается у нас с тобой светлого чувства и большой радости. Не складывается. Скорее я виноват, но от того ведь никому не легче... Ты обожглась, я зачем-то спутал май и сентябрь своей жизни; ты-то полюбила впервые в жизни, так чисто и хорошо, а я это уже прошел. Не рыжий я, видно... И далеко уже не золото.
При чем здесь японская сакура, украинские бук, граб, дуб и вяз, азиатские – карагач и саксаул, северный голубой кедр (сибирская сосна; есть кедр ливийский, к примеру), уральские пихта и лиственница... Увидать бы!
Я сволочь или дерьмо? Добивать будете – это после того, что я видел свой хвощ и папоротник, «щелкающий» плывун (Увидать бы! Увидишь! Скучно не будет, ведь ты не выбирал себе легкую жизнь, этакую прогулку по лучезарным улицам крупнейших больших и огромных городов своей России). Наконец-то и у России «появилась» своя собственная столица: все имели – Украина, Молдавия, Литва, казахи и узбеки, вот только та, что имела от Запада Европы до солнечного Востока Азии – почему-то не имела своего Великого Вавилона, свою Александрию, свою Бухару и Париж... Ладно там, наши дикие и далекие вонючие степные предки имели нас два века и кормились нами – и то не успели наградить столицей – ни себя, ни нас, окончательно и во веки веков, аминь!
Но то будет потом. И нескоро. Доживи.
А пока... Взвод зарывался в облака и уходил по перевалу!
И знаете – вынужден и должен сознаться, не казните, милуйте, упомните ту французскую шутку про несчастную запятую: «казнить нельзя помиловать». Я же хочу увидеть – аль не должен? – иву и тальник, ягель и перекати-поле, луговые маки, полынь, эдельвейс, лилии... Что-то из них уже почуял.
... Однако. Однако не так много отвела нам судьба – всего год, большой и могучий. Да, моя рыжая? Но ведь и за ГОД можно наворочать, натворить такого, что потом не расхлебаешь и годами. Всю оставшуюся жизнь будешь себя подлецом чувствовать...
Правильно.
Ну то-то же!
Сиреневый туман... Над нами проплывает.
А что – в сентябре 1973-го был сиреневый туман, или же его нам родили, потом открыл нам его певец-доброхот... Мы-то туман знали белым сизым клубом, сырым и опадающим в ущелье и в падь, сквозь него бьешься тяжело и плохо...
Сиреневый туман. Над нами проплывает.
Так есть такой необычный туман?
А вы рыжего тумана не видели? А я видел – это когда сизый туман не успел убраться и попал на выходе из ложбины гор под утреннее солнце... Такое редко бывает, ловить надо!
Кондуктор, не спеши.
Кондуктор понимает,
Что с девушкою я
Прощаюсь навсегда.
Еще один звонок
И гулкий крик вокзала...
Как провожают пароходы,
Совсем не так, как поезда;
Морские медленные воды –
Не то что рельсы в два ряда...
Как ни шути,
Волнений больше...
Он улетел. Она осталась.
Он оказался там, на две тыщи верст ближе к Большому Востоку. Она – на нулях.
Ему, горному инженеру, сунули на разработку большой и выгодный проект (для их организации, конечно! Представьте – полгода «пахать» без надежд и продыха... Потом оправдаешь – одним большим махом все надежды!!).
Не это ли стали называть «синей птицей удачи»? Да хоть как назови. В клетку только не куй.
И волю не держи.
Через два месяца, после их тусклого сентября получил он письмо от нее в свою Сибирь... Как она узнала адрес – от Марка и его друзей?
Она не плакалась ему.
Била словесно и честно.
Я тебе не бл...ь и не шалава...
Почему так поступил со мной?
Почему, мой хороший, молчишь?
Не нужна тебе – напиши прямо.
Хватит отмалчиваться.
А еще через два месяца он женился. На местной, в кавычках – девица горный маркшейдер, с Украины, молодой специалист... Свадьба состоялась в конце января, за минус тридцать, сырой промерзший Енисей.
И еще. Последнее. Дай бог досказать, дайте шанс виноватому.
За последний год он побывал на Сахалине. Пять раз.
* В марте. Тогда его «опытный» напарник запорол «кампанию», а он – молодой и наглый, спас честь фирмы... (стал потом старшим инженером, «копеечку» подбросили). (Но ведь рыжей там ЕЩЕ не должно быть – ее второй год учебы только на исходе...)
* В апреле. С хохлом-напарником, маркшейдер. Снять морское побережье Сахалина, восточное месторождение морского песка. Три недели. (США – через Тихий океан). Селедка; и селедки – дешево и сердито, много! И ржавой, но вкусной, дешевле хлеба и вина, барак (от начала века?) между Взморьем и Восточным... До Макарова дотянем? Их светодальномер бил до 400 метров за прострел... Успевай бегать по песку Сахалина Тихого океана... Но ведь опять же рыжей быть еще не должно
* Июнь. И не пора ли в Поронайск? Но, оказывается, поздно или рано: наплыв желающих на Сахалин – и не успевают самолеты... Лови момент, если не хошь вляпаться, и даже блат примени своего соседа по номеру гостиницы «Сахалин» – поможет московский заслуженный железнодорожник, специалист по БАМу и узкоколейке Сахалина?
* Июль. Друга не вовремя ко мне с Урала занесло, туда – в Сибирь... А я вот на Сахалине – заканчивай дела круто, бросай, сворачивайся. Уже не до Поронайска.
* И ведь давали мне последний шанс. Уже в декабре. Там – снежные тоннели, невпроворот, ж/д дороги забиты и тугие. Но что бы ни рвануть: три сотни верст от Южно-Сахалинска до Поронайска, а от Восточного и того ближе – по японской узкоколейке – всего-то сто с копейками... Впрочем, кого трахает чужое горе? Нас с женой срочно ждал переезд (смена адреса) из п. А (Вост. Сибирь) в п. Б (Алтая, партия экспедиции)... Так что торопиться надо – не в Поронайск, на Алтай.
Ну так что там, мой Марк и конкурент-завистник Ося...
Проиграл я ВАМ свою рыжую битву...
Впрочем...
Декада
Вот эта улица, вот этот дом. Он сверился со шпаргалкой – все правильно. Именно этот адрес он и искал почти полтора года. Звонить?
Ну конечно! Он помнил радостное лицо жены, когда она выложила при его приезде из очередной командировки («командировка» здесь неправильно, но да ладно, все потом, потом разберемся): «Вот. Вот, держи. Все точно, не сомневайся. И от нас рядом, рукой подать!» Тут она была права – в большом городе такая удача редка. Но в первый раз ему, как он ни прислушивался к шуму и шорохам, так ему, по крайней мере, казалось, никто не открыл. Открыли дверь ему навстречу только со второго раза, недели две спустя, и что странно – днем. И два мужика – один не выспавшийся, другой – бородатый – уставились друг на друга: «Чо?»
— Здорово, Марк!
И Марк, поплотневший, с чуть сединой, не выспавшийся после ночной смены, ему просто ответил: «Здорово! Это ты? Это – ты??»
Какими судьбами? Через десять (с копейками) лет? Кой черт, почему и зачем тебя занесло в мой родной город?
Отвечай, дружище! Да ты откуда такой, бородатый и угрюмый... Проходи.
И они сгреблись в кучу. «Эх, жалко, жены моей Надьки нет, на работе! Порадовалась бы тоже со мной. Она и тебя знает, заочно». «Да, Марк, уж наши жены споются».
— Заходи, Борода! Раздевайся. Выпьешь? Рассказывай. Знаю, что ты вроде здесь, а все нет и нет... Ждал, старик. Ждал!
И они снова трясли друг друга как в молодости порой, и обнимались как молоденькая, глупая, бестолковая студенческая юность – этаких два очумевших от счастья мужика.
Н-да, не каждому дано такое счастье.
Дорого оно обходится. Ведь между этими десятью годами до встречи лежат и другие годы.
В русском понятии слово «декада» означает десять, десять дней – дека, дека плюс да. По крайней мере, этим словом пользуются именно в таком понимании: декада – десять дней, одна из трех составляющих календарного месяца. Тогда, интересно, студенческий декан – десятник? Интересно и смешно, хотя что тут смешного – кто ж командует студентами, как не декан, ректор – тот уже повыше факультетских деканов. «Дека» – слово из глубины веков, скорее всего из времен Древней Греции и Рима. Дека – десять, и это уже не основополагающая цифра, вроде той буквы в алфавите, но уже первое число будущего бесконечного отсчета чего-либо. Сколько этих «десяток» в жизни человека, если ее разложить на такие кусочки – правильно, от силы шесть-восемь при удачном раскладе; много ли, мало – не нам судить, барьер не перепрыгнешь. Но вот, думается, если точку каждого отсчета десятки брать от любой цифры, то сколько ж тогда набежит в жизни человека этих десятилетних событий, прыжков по жизни, явлений десятилетней давности и событий... Так что просто умножьте число шесть на эти «10» – и это уже для человека много, есть что вспомнить и с чем столкнуться в очередные десять лет его жизни... Смотря с какого события отсчитывать, не зная что будет через эти или те любые десять лет его жизни.
Через десять лет... За десять лет... Много воды утекает. В реку времени никогда не войдешь дважды в одно и то же время – бежит большая река. Только и можешь иногда случайно, даже не хотев, вновь наступить на то же место, вроде как старое, но уже иное сейчас.
Не сказать уж чтобы число 10 было и стало для него магическим и притягательным. Но ведь интересно же, что будет через десять лет, только лиходея и человека нелюбознательного может не заинтересовать. Вот так он и начал привыкать... Не к цифре 10, а к «понятию» – через 10. В 12 лет старший брат притащил его в геологический кружок – через десять лет он окончил горный институт. На дипломном курсе он по ночам написал про своего выдуманного созданного героя, в одной из глав который через десять лет возвращается на родину из далекой чужбины, куда попал невольно по молодости. Так что отсчет начался, тот, который он потом так и обозвал – «через 10 лет».
А вообще-то ведь каждый человек может подтасовать факты и явления своей жизни под эту пресловутую «через 10 лет»? Или же под какую иную ахинею и понятия. Как кому будет угодно. Но чтоб было здорово, неудобоваримо и нестандартно!
Да, чуть не забыл. Есть же еще древнегреческая богиня плодородия Деметра. Тоже интересное сочетание в ее имени – «де» (чуть ли не дека, чуть ли не те самые «десять») и «метр» (метр – это слово что-то значит в греческом и русском языке, которые, стоит заметить, исторические побратимы). Но да то не царское дело для горняков – измысливать переводы и понятия старинных слов, несподручно как-то вместо добычи в недрах искать сущность слов в языках – «пусть пробуют они...».
Вот только перед тем, как состояться встрече Марка с Бородой, которой было все ж суждено сбыться (и должно!), произошло еще вот что – что-то, откуда и их встреча была уже предсказуемой.
К парадному крыльцу приличного и солидного здания крупной изыскательской фирмы рано утром подкатил автобус. На широком вместительном крыльце толпился как обычно в это время немногочисленный люд, все при делах и для дела, с любопытством и одобрением наблюдая за высыпающимися из дверей автобуса людьми в странной «полувоенной» одежде – и не чистая гражданка, и до мундиров далеко, но было что-то в этих лицах, одеяниях, повадках, что нельзя было перепутать ни с чем.
Лавина прибывших хлынула из автобуса на крыльцо, на ходу здороваясь и приветствуя стоящих тут. Среди прибывших был и бородатый мужчина. Никто не должен был по законам сегодняшнего дня встречать его здесь через полтора месяца отсутствия – они только приехали с очередных изысканий. Но в упор с крыльца, в стороне от дверей, стоял человек и пристально смотрел на бородача, будто не узнавая, припоминая...
Они никогда не были друзьями. Разве что их связывал Марк. Теперь эти двое на крыльце встретились на миг глазами, узнали друг друга и разошлись. Десять лет прошло с их последней встречи. Десять лет с тех пор, как один из этих двоих уезжал после окончания института в далекую Сибирь; а второй из них был тот самый Ося, теперь лучше назвать Оса, друг детства Марка, и который просто раньше не «замечался» старшекурсником-горняком.
Они молча разошлись. Не поздоровались. Только за своей спиной бородатый услышал отчетливый вопрос Осы кому-то: «Кто это?». В ответ прозвучало: «Новый начальник партии, у геологов. Он тут недавно».
И больше они не увидались. Оса заканчивал свою работу в фирме, а «недруг» его только начинал здесь свой путь.
Ненасытная утроба их изыскательской фирмы – филиала крупнейшего и известного учреждения страны – постоянно нуждалась в кадрах, которые бы согласились при их профессионализме пожить некоторое время в стесненных и без особых удобств условиях. Фирма принимала на работу новых, увольняла и выкидывала на улицу старых, не отказывалась от тех, кто ей был так нужен в инженерно-геологических изысканиях и кто надеялся выжить там, и то были: геологи, маркшейдеры и топографы, гидрологи, профессиональные камеральщики (на обработке данных), технари, рабочий и служащий люд, опытные и грамотные руководители. Несколько сот человек состояло в штате фирмы; сломавшихся тихо и мирно, без грохота и крутых статей увольняли, отпускали, выпроваживали с миром. И поэтому не мудрено, что сюда попали в свое время Оса и Марк, я – которого обозвал при встрече Бородой Марк, и моя жена – которую я быстренько и круто перетащил в фирму вскоре после себя и по согласованию с начальством.
И в то время когда я стучался в еще закрытые двери Марка, моей жене, опытному топографу, поручили разузнать судьбу одного из работников отдела. Объяснили что-как-зачем, а надо узнать – «почему?». Вот адрес, день в гору и вперед, без ответа не появляйся. Ясно? Тем более – время под новый год.
Ясно. Светит солнышко. Снега полно, как и полагается здесь, в Зауралье, этом не то «Урал – с востока», не то «Сибирь – с запада», одним словом, ни рыба ни мясо, но летом хорошо.
Соседи по улице подсказали, где найти этот дом. От ворот и до крыльца лежал нетронутый, не истоптанный слой снега, даже свежая пороша поверху была девственна и чиста – не запятнана чьим-либо присутствием.
Ворота можно открыть? Открываются.
А двери в дом откроются? Не заперты.
Холодно и неуютно. Мороз вытеснил все тепло из дома, и теперь здесь царит стылый промерзший ад, похлеще даже, чем на дворе.
Что в доме? Брошен... Завален чем-то и как-то, вдоль и поперек... Бесхозная крепость. Аль что случилось здеся? Мор, тоска или большое лихо...
Горе ты мое, хозяин. Где ты, что ты, жив? Не спи, замерзнешь.
В нору залез? Успокоился??
Душу отводил? И ничто не свято...
... В дальнем полутемном углу из сизой мглы, из кучи тряпья и шуб возникла лохматая голова и трезвый голос требовательно спросил: «Ты кто???»
— Я – с твоей работы. Начальник наш хочет знать – ты будешь работать? Пить? Или уйдешь, пока не поздно... Позор отделу не нужен.
— Уйду, изработался в этой фирме. Износился... Мой друг Марк умнее оказался – раньше смотался отсюда...
— Так и передать?
— Да. Только без комментариев.
— И без твоих надрывов?? Они ж видны – по бутылкам пустым и снегу во дворе.
— Кого колыхает чужое горе?!
(... Да и кто сейчас не пьет...)
Странно они молчали, как-то тихо и незаметно друг для друга. Вроде, как будто узнавая опять же друг друга, вспоминая опять же друг друга – и не зная здесь себя сидящих.
— Ты хороший специалист. Тебя ценят. Начинай работать заново, ломай себя.
— А ты вообще-то кто? А не сбегаешь ли мне за хлебом и винцом, тут недалече... А я пока подумаю. Да, женщина-незнакомка? Я в своем отделе вроде всех знаю. Ты из новеньких? Как зовут? Рад познакомиться; я уже холост, но пока не разведен...
Ему ответили. И он захлебнулся той прошлой десятилетней волной зависти и ненависти, которой ох как долго не отстояться, ибо пришла и приходит она из пустоты и небытия надолго и навечно... Таков уж человек и его обоюдная сволочная натура!
— Так ты жена – ЕГО?! Это ж надо: жена САМОГО пришла ко мне? Да?!
— Да, Оса, к тебе. Я что-то знаю про вас обоих... Этого мне достаточно.
О чем они поговорили потом, два часа подряд – Оса и моя жена – я, честно говоря, толком и не узнал. Она мне об этом скупо и редко рассказывает, иногда скорее цедит...
... Однако, с тех пор и надолго, жена слушалась меня, любила и обожала, всегда стремилась по возможности встречать меня после моих многочисленных (вечных, больших и маленьких...) командировок; но что-то сломалось и во мне... Не тот ли механизм заработал: любишь одну, женишься на второй, встречаешься с третьей. Смеюсь, старики-разбойники и молодые удальцы...
И вот теперь становилось явным, откуда знал Марк о «моем приходе Иисуса». Вот только теперь скручивалось в единую тугую бесконечную спираль «по восходящей» очередные «мои и наши» «через десять лет»... Врагу не пожелаю!
— Ты что, Борода, думал, что пропал от своей рыжей поварихи бесследно там, в Восточной Сибири?
— Я же не писал ей. На письмо не ответил.
— А на твоей свадьбе был твой младший братишка? А он знал нас – твоих маркшейдеров, с которыми ты «куковал», – мы-то, хоть и младше тебя на курс и горные маркшейдеры, но ведь и он – младше нас на курс, хоть и горняк... Факультет один. Да ты ж и не забыл, что мы тебе «гонца» от нас посылали в твою Сибирь на твою свадьбу... Где знают все – узнает и она... Повариха твоя рыжая и мой друг Ося. Мир тесен, не скроешься...
— На рудниках Сибири, — хмыкнул Марк, — куются лучшие люди. И пусть тебя не берет печаль за твое «рыжее» прошлое. За моего друга Осю ты не в ответе... Была б моя воля – я бы сгреб вас в охапку и заставил примириться. Но ведь то невозможно двум диким студентам, делящим одну девицу на выданье. Ну, тебя-то я видел – против той рыжей, а что уж мой Ося так закинулся на нее... И сгорел. Каждый из вас – и ты, и Ося – пробивался по-своему через «свои эти десять лет».
Десять лет он, путаясь в мелочах, что вязали по ногам, пробивался в свое будущее (если сказать, что в «светлое будущее» – будет ошибкой, да и рано еще жизнеутверждаться). Но и туннели и маяки, пристани и вокзалы, аэропорты и города, деревни и мечты, наставники и учителя (не средней школы!), вера в людей (но не в бога) дадут ему силы, чтобы не сломаться и не загибнуть в его трудном забеге на его очередные «через десять лет».
Трудно он шел эти его десять лет.
Вместе с женой после Алтая они перебрались на Урал. На Южный Урал, на его родину. В том числе жили и работали в Миассе. А ведь 10 лет назад его старший брат здесь заканчивал геологоразведочный техникум; стоит техникум на самой окраине старого города (далеко от новых жилмассивов и маш-городка), и если от него долго и не спеша идти вверх, то выйдешь на трассу до областного города; но если чуть ранее свернуть налево – попадешь в переулок Гончарный, старый поселок, заброшенный кирпичный завод и частный горный сектор... Воспоминаний много, удобств мало, перспектив никаких.
Они все время «двигались» на Запад. Так, по крайней мере, ему казалось. Со времен Восточной Сибири. Он наконец был на Урале, она мечтала о своей Украине. И вдруг его жена – а она облазила на предмет обмена квартир «вокруг» несколько городов – вместо Запада предложила вариант назад на 400 с лишним км; что уж «он» ей так понравился, не знаю... Впрочем, она когда-то успела уже там побывать в своей очередной малой командировке. Вот так они и попали в «теплый» областной город, откуда родом – как вспомнилось ему не сразу – были Марк с его Осей. Зацепились, чуть где-то поработали – и затем попали в цепкие щупальца филиала – вроде как «Мы вас ждали»...
Просто. Доходчиво. Просчитаны года и километры. Расставлены пешки в игре. Знают ходы как минимум до десятого. Партия началась. Белые начинают и дают мат в три хода. Этюд в багровых тонах. И да приснится же такая хрень... Кто ж такие тогда мои противники и мои советники и что они делали свои 10 лет? И, оказывается, они могут уложиться в несколько строк: для тебя, постороннего, чужого там, в тех их 10-ти... ты бы ТАК не сложился!
Жутковато, но правильно.
— В Пермской области я работал после института, — рассказывал Марк. — Ну да ты же знаешь... Хоть и немного, эти подземные разработки. Проходческие работы, сбойки. Все там – в десятках и сотнях метров в глубине, в разные стороны и под разными углами. На то и мы – маркшейдеры, чтобы сбойку сделать и в тесноте и мраке, в глуши и в камне, и на поверхности в ее дали... Маркшейдер, топограф, геодезист – одна компания, это вроде как купцы, но разной гильдии.
— И что я это тебе разжевываю! — недовольно вдруг забурчал Марк. — У тебя самого жена маркшейдер, нашел же ее... Вместо поварихи. Значит – не рыжая твоя судьба...
— А вот знаешь! — вдруг мечтательно заговорил Марк. — Я как-то запорол сбойку подземных выработок... Не сильняк, конечно, и слава богу – не добычные штреки; полметра несостыковка вышла...
— Ну и че? — откликнулся его собеседник. — Подумаешь – пятьдесят сэ-мэ!
— А вдумайся – объем работ какой лишний за десятки метров кривой проходки...
— Н-да, Марк. Расстреляли?
— Не. Премии лишили. Расстреливали 50 лет назад, при Петре Первом однако могли головы лишить. Да я не про то... Примчалась ко мне туда на шахту моя Надька, со школы знаемся, и забрала меня... Спиваться я там стал от одиночества и страха.
... А жены наши и на самом деле прекрасно спелись... Пока мы с Марком ведем суровые индейские споры и курим трубку мира в большом тронном зале – наши жены (скво) успевают грузиться на кухне сплетнями, информацией, вином... Одним словом – идиллия!
И ужо потом (Марк скупо рассказывал об Осе) я что-то мог «узнать» из скупых строк «Совинформ – наши жены» про того же Осу и его рыжую жену-повариху.
И опять же. Не так уж часто доводилось мне за эти несколько лет работы в экспедиции видеться и встречаться с Марком. Так что эта «рыжая летопись с Осей-богатырем» долго говорилась и так толком не утряслась... По крайней мере, в моих мыслях.
А после нашей первой и долгожданной встречи с Марком унесла меня нелегкая вскоре, сразу после Нового года, на три с лишним месяца на Север под Ханты. Снова толком так и не узнал, что хотелось бы знать. Надо ли, знать свою «кривую»? А потом весь оставшийся год кочевал по тысячекилометровой трассе изысканий – от Севера и Тюменщины через Западную Сибирь и Зауралье до Казахстана, не бывая дома месяцами. Оборзел, заматерел, седеть стал. Снова перекинули на Север, где доконал его холод и неустрой... Выжил, очухался – и снова пожалуйте в путь!
За четыре года работы экспедиции много было что в его жизни, много воды утекло, есть что вспомнить. И те же его пресловутые «через 10 лет» тоже продолжали существовать в его жизни... А как же! Вот к примеру так: «через 10 лет» его снова понесло на Алтай, родину его дочери – там она у них с женой родилась, так уж получилось и другого не дано. Только не как раньше – с юга на север, он проехал и прошел ее уже сейчас с запада на восток... Закончил дела там и через Северный Казахстан вернулся в свое «стойло» – на базу филиала. Или вот – «через 10 лет» его с экспедицией снова занесло на Южный Урал (после Миасса, куда попал на «житие» с Алтая) на изыскания в южной части области, где степь и целина, снег и лисы, водные ресурсы, золото и тайга... Здесь тоже нужны были их инженерно-геологические изыскания.
«А помните, я бывал на Сахалине? Летал туда». По-разному. Напрямую, с посадкой, с пересадкой. Первый раз летел с промежуточной посадкой в Чите; как он тогда ерзал и волновался, что так и не сможет увидать Читу, не побывает в ней, когда еще будет случай посмотреть... «Может, в город съездить? Тем более рейс наш задерживают на несколько часов». Его напарник был неумолим: «Нет. Можем и не успеть из города. А опаздывать нам на рейс нельзя, путь долгий». А когда второй раз летел на Сахалин, когда билетов туда не было, и они вначале осели в Хабаровске и сутки там проторчали, чтобы улететь дальше со своим напарником-маркшейдером для топосъемки приморского месторождения песков... Посмотреть Хабаровск у них времени было вволю, в том числе и полюбоваться на памятник Хабарову на берегу Амура. Смешно, но последующие командировки на Сахалин были прямыми восьмичасовыми беспосадочными авиарейсами; вот так, чем черт шутит! Сверху и Татарский пролив можно было увидать между материком и островом. Жалко, сверху не рассмотреть город Чехов... И порт-переправа Ванино – это не Холмск, случайно? После сахалинских вояжей он купил книгу, за которой долго гонялся – чеховский «Сахалин», и тщательно изучил ее, чуть ли не обнюхал. Потом внимательно прочитал «Каторга» Пикуля, где каторжане дальних российских рубежей оборонялись от японцев в начале XX века.
Потом он на Украине от дальних родственников его тещи слушал рассказы, как вербовали в тридцатых годах хохлов на работу на Сахалин. Потом, не перебивая, слушал родного дядьку – младшего брата своего отца, как тот бил япошат летом 45-го и как их гнали в три шеи с Южного Сахалина и из Порт-Артура... «Впрочем, — поправлялся дядька, — я более в Маньчжурии обретался». Так что, видно, значил что-то для него Сахалин – край света, где он сам для себя должен был тщательно зафиксироваться. Ну что сказать про Сахалин – край удивительный и суровый, сакура и кета, горные Пади, обильные снега, порт Корсаков, странный климат... Но по-прежнему он остался таким же, каким никогда не был – ласковым и пушистым...
Да попал он в свою Читу. Вызвали, дали задание, документы, деньги и срочно отправили – добирайся, как сможешь и можешь. Время не терпит, и на прямой рейс авиабилетов уже нет. Опять же из-за своих «через 10 лет». Ждала, родимая, Чи-та иль Чи-не та?! Сопки, тайга и город, синий воздух, скрип снега, деревянные дома, вертикальные дымки, искристый блеск, нет птичьего гомона, стынут руки даже в меховушках, народ в валенках и унтах, при лохматых звериных шапках... Непонятно и здорово! Не тут ли где-то рядом знаменитая Даурия?
С женой ему повезло. Родственные души: он – горняк, она – маркшейдер, обоих черт занес за романтикой в «дальние сибиря». Да ей и не должно быть иной – их техникум союзного значения и рассылал своих спецов далеко и далёко. Ведь далеко со стороны Богдана Хмельницкого до Великих Сибаров, согласитесь! По крайней мере, для романтиков хватает: не меряны те версты и хлебать их ох как долго и муторно! Эх-гей, долог и «путь» украинского Устина Кармелюка до казачьего сибирского городишка Красный Яр, не всяк пройдет... Не все возвернутся! Вот так и расшвыривал щедрой рукой по своей великой державе Каменец-Подольский свои горные кадры: в Забайкальскую партию, в Алтайскую, в Красноярскую партию... Даже в том же Миассе... но тот же их Волков, бывший военный (!) топограф и их главный преподаватель их главного дела в их родимом техникуме мог гордиться своими выпускниками, питомцами, выкормышами – ведь правильно говорил: та будет билеты продавать в кинотеатре, а та выйдет быстро замуж и деток нарожает, но вот третьи – пройдут трудной дорогой за всех вас, тупых-неудачников-непрофессионалов-приспособленцев-мамаш... Того Волкова знали те, кто был в Сибири и в уральском Миассе и Челябинске, знал его и напарник на Сахалине по трудной трехнедельной топосъемке сахалинского приморского месторождения песков. Он, свердловский горняк, знал того Волкова... Видел этот удивительный и неповторимый град Каменец-Подольский, что на Подоле Хмельнитчины; только вот пока чухался и делал разведнабеги на этот пограничный город (до 1939 года) – до третьего их совместного, его и жены, в этот город и именно к Волкову... последний уже не дожил, слал им пригласительную записку. Страшен мир, тот, который недопостигнут... и уже не плачешь, а лишь корежит и вывертывает... впрочем, не впервые.
Заканчивалась моя четырехлетняя работа в Зауральской экспедиции. Куда дальше, командир?
Пылали закаты,
И ливень бил в стекло,
Все было когда-то,
Было да прошло...
Тяжко ай стало, дыхалка не держит, что потянуло вас поближе к теплым краям, под бок благодатной Украины, в российское благодатное Черноземье... Аль жена снова затребовала невостребованного? Что ты завернул гужи, закусил удила, тебя ударили шпорами – и снова уехал в свой 12-й семейный жизненный переезд – в Белые (уже не синие) Горы России!..
На запад, на долгожданный Запад российский.
Вот тебе и А-у-у... голос твой и эхо его. А ведь даже эхо отражается потом и дальше... (знамо нам, законы физики не изломаешь... вот только саму суть физики не хотим понимать).
Так что... то и остается: голос и эхо, отзвук и отголосок. Голос (глас) и (его) эхо! Что ж, будем знать; быть может, поумнеем в европейской стороне России. Главное – не ерничать... Брежнев уж как пять лет в могиле и уже везде перестраиваются...
На авиаперегоне Курган – Москва можно и в порядок привести наконец свое прошлое... Марк старался рассказать и объяснить мне эти годы – что-то я ведь понял?!
Москва не приняла, отправила в Воронеж. Вот так и мыкаемся: туда не принимают, там не ждут... Снова припомнилась та Чита. Тогда он хоть и с задержкой вылетел рейсом Курган – Омск – Новосибирск, все поближе к Чите, других ближних не оказалось. В аэропорту Омска репродуктор простужено захрипел: есть свободные места до Иркутска; граждане, желающие вылететь до Иркутска, просим пройти к билетной кассе, вне очереди... Ну и что, спрашивается, мне не улететь в Иркутск, все ж будет поближе к Чите. Багажа нет, только наплечная тощая сумка, где меховушки да нехитрая мелочь... А Новосибирск? Да что Новосибирск, был он там, опять же «10 лет назад», летел с группой в творческую, по обмену опытом командировку еще в тот прошлый Куйбышев на Волге.
... В свои нечастые приезды он никогда не забывал Марка. Бывало, предупреждал заранее, а то и нет. Они по-царски устраивались в креслах в квартире Марка, тот шлепал на столик пепельницу, пили чай или что покрепче, насколько позволяла возможность. Марк закуривал свою сигарету без фильтра, обычно это была «Прима», а он доставал свой «Беломор» – мол, уважающий себя суровый изыскатель курит только папиросы, но не ахти какие и только «Беломорканал», и ернически спрашивал Марка: «Я тут тебе привез “нищего в горах”, не побрезгуешь?» «“Памир”, что ли? А молчишь! Давай. В нынешние времена все годится. Вспомним седую старину».
— Ну-с, что пить будем? Чай?
— Фу-у... Ты ж на выходном вроде.
— Да. Жена на работе. Сын в школе, потом умчится на тренировку. Так что я пока свободен – от семьи и от «родного» завода аж до завтрашнего дня.
— Тогда накапай, я тут прихватил кое-что из последней поездки.
— Ну и как там контора? Что сейчас нового там и у тебя? — спрашивал Марк и осторожно наливал спирт в стопки.
Марк предпочитал разбавленный спирт, а его собутыльник – неразбавленный, северная привычка.
... Но и спирт в том проклятом северном декабре не спас его тогда от страшнейшей простуды, еле выжил...
— Ну, что тянем? Вертолет не скоро прилетит.
Марк в ответ тихо хохотнул.
— Огненная вода налита.
— Дура, спирт называется!
— Вертолет ждем четвертые сутки.
— Дура, экспедиция называется.
И эти два дурака расплылись в ехидной и знающей ухмылке – мол, знай наших! Ведь и Марк тоже отработал свое в полевой партии, хватил чудес, «поминай как звали» и тягот той тяжелой и неблагодарной работы.
— Ну, дружище! За тех, кто в поле!
— И пусть земля им будет пухом.
... Что нового? Нет особых новостей. Кошмары вот по ночам приходят, просыпаюсь весь в поту. Слава богу, что не успеваю погибнуть во сне. Вся эта память уже не пахнет романтикой. И четко, натурально четко вижу, и слышу, и чувствую, задремав: шуршащие стенки глубоких шурфов, треск льда под ногами, аварии на скважинах, высадка на плывучие берега, холод, гнус, тяжелые маршруты, отблеск костров в ночи, переправы, режущий до боли ослепительный снег...
— Марк, когда подхожу к твоему дому и иду через сквер – там стоит скромненький памятник пионеру-герою Зауралья – Коле Мяготину. В Миассе на Южном Урале чтят Федю Горелова, на Северном Урале знают о Павлике Морозове. Все они оттуда, издалека. Ну и?
— Ты это к чему?
— К непочтению, короткой памяти и забывчивости.
— И то верно. А теперь вернемся к нашим баранам, — и Марк начинал философствовать, это у него здорово получалось – божий дар с яичницей! Но его слушали, ему внимали.
... Когда ты пропал и окончательно сгинул в своей Сибири, народ впал в панику. Ну, ты знаешь, кого я имею в виду. Добраться до тебя уже не было возможности. Про твои Сахалины, кстати, тоже никто не ведал.
Говорят, что от любви до ненависти один шаг. Или наоборот. А впрочем, кто знает истину до конца...
Ты исчез с поля зрения, а ведь свято место пусто не бывает. Ося тебя ненавидел, ты убивал его своим равнодушием к нему. Ты ведь не считал его для себя конкурентом и не замечал как человека – его это бесило и выводило из себя. А рыжая повариха тебя любила, по крайней мере, на свой лад, и мало кого замечала вокруг в тот ваш год знакомства.
Ей и нам оставалось еще учиться по году, и дорожки наши должны были разбежаться. Вот они и бросились друг к другу навстречу – его ненависть и ее любовь, – связкой-то в этом странном союзе был ты, своего рода предтечей. От ненависти до любви ведь тоже один шаг.
Так что – ничто не вечно под луной.
Да она и нравилась Осе, ты просто не хотел этого замечать. Может она и решила так: если нет своей любви, то пусть ее любят.
Что ж, и то верно. В жизни всякое бывает.
Но они оба здорово просчитались, в их семье командовала повариха, а не горный маркшейдер. Командовала она, а Ося был у нее на побегушках.
Что б мы делали без наших «рыжих» жен? Все невесты хороши, откуда же берутся жены-ведьмы?! Невеста в белом, почему ж тогда на свадьбе жених в черном... Выбирайте на свой вкус и лад; на вкус и цвет товарища нет...
/Марк поудобнее устраивался в кресле и продолжал/
... Я там тоже был, мед-пиво пил на их свадьбе: наши жены не сказать чтобы сильно сдружились, но встречались. Правда, моя от своей подруги уставать начала – от ее пересудов и мелкой склочности; меня, конечно, «терпела» и дружбу нашу с Осей понимала, но вот со временем, вижу, уставать стала от жены Осы. Достали мелкопакостные разборки, стервой становилась рыжая повариха, а Ося все пытался не замечать надвигающейся грозы; она и на работу к нему заявлялась, романчик даже закрутила с одним из топографов. Словом, пошло вразнос, разброд и шатание, от коих недалеко и до раскола стало.
С годами мы все становимся «музыкантами поневоле» – начинаем играть на... Научаемся отключаться от суеты, редко паникуем, как в лихой своей молодости, прошло то время и жаль его – не вернется. Да это я уже про себя [сказал Марк]. Спасибо, где-то «там» я был, хоть и сволочью, но человеком. Непонятно говорю? А что вы хотите – ту же водку и вино надо пить умеючи, тогда и не захочешь этого зелья коммунистов, не перепутаешь день с ночью, не завоешь по утрам «вставай, проклятьем заклейменный». Весь мир голодных и рабов. Н-да, работа не красит.
Так что двум мужикам всегда тесно в мире... Доходчиво объясняю?
... За несколько месяцев до твоей встречи с Осей здесь, его повариха забрала их детей и уехала к своей матери. Развелись официально. Запил мужик, пришлось уходить из топопартии. Уехал он из города, нет его сейчас здесь. Так что он где уже там, своих догоняет, хочет образумить. Если не на Сахалине, то где-то на подступах к нему; обещал написать откуда-то с Дальнего Востока...
За последующие четыре года жизни в благодатном Центральном Черноземье он со своей семьей обустраивался капитально – решил, что здесь будет их последняя географическая точка, на всю оставшуюся жизнь. Сделал и сотворил немало.
Обживал новую квартиру (да не в прямом смысле новую, получил по междугороднему обмену), покупал мебель, строил дачу в одиночку и там растил для своей души такие «деликатесы», какие могут только сниться в Сибири и на Севере (и даже на Урале) – черешня, абрикосы, сортовая груша, местные арбузики, дыня и виноград, и прочее... Все то, что он видел, бывая на Балхаше и Украине, на Черном море и опять же в той бескрайней Украине с ее чудесами... Все то и многое, о чем мечтал холодными ночами в уральских бараках, сырыми ночами и другими тоскливыми вечерами на... (впрочем, извините за задержку – долго перечислять; объявляется технический перерыв).
Утряс дела на Украине. Печальные для жены. Потом съездил с ней в Тернопольщину, проведать нашу старую знакомую из города Миасс, что на Южном Урале. Поездили оба и с дочерью по турпутевкам – по российской Европе. Заканчивал восемь лет (по-новому – девять) школы «вместе» с дочерью – ума хватило. Помог тут даже задвинуть в дело курсовые горные работы некоторым своим новым знакомым. Все это называлось досуг в промежутках между работой горного мастера на крупном и знаменитом железорудном карьере России. Геть – ой! Что там еще забылось? Говорить вот даже стал с мягким хохлацким акцентом, усы – вислой скобкой. Библиотеку продолжал собирать свою домашнюю, она не только беллетристикой пахла... Обуржуился, значит, жиреть стал...
С любовью перебирал коллекцию минералов и пород, которую собрали со старшим братом (помните его: Миасс, Тува, Кемерово, Д. Восток, Подкаменная Тунгуска и Таймыр!). Пристроил камни, разложил в шкафу – успокоились, наконец, горемычные, пригрелись, нашли наконец место на виду под стеклом, а не в поисковых мешочках и ящичках. Вот они, родимые, отовсюду – Урал, Север, Сибирь, Алтай, Памир, Казахстан, Украина, Д. Восток, Крым... Много их, и имя им – легион «через 10 лет»! Дочь моя, да и все женщины в мире знают драгоценные камни – алмаз, рубин, сапфир, изумруд; другие вроде чуть попроще – аквамарин, топаз, рубеллит, аметист, александрит и много еще других, что так заманчиво играют в ваших глазах.
Есть, однако, и другие, «хитрые» минералы органического происхождения, так называемые из класса «биолиты», которые уже не глазом воспринимаешь, а умом: янтарь, жемчуг, кораллы, гагат, моржовый клык, бивень мамонта. Но вот поделочные камни, которые начинаешь ценить и понимать, когда увидишь изделия из них и просто их обработку... Вот это да! Самые распространенные и используемые, от чего они не стали отнюдь хуже и неэффектнее – гранит, мрамор, лабродорит, порфирит. Но другие – божий дар, признанные в мире: яшма, амазонит, лазурит, родонит, нефрит, чароит, бирюза – это буйные краски спектра, морской воды, синего, красного, зеленого, фиолетового, небесного!
Разложил их. По полочкам. Погрустил. И остальные – много! – тоже на вид: минералы, шпаты, руды, слюды, породы, сланцы, окаменелости, гранаты, самородные, кварцы, магматика.
И задумался я... А не пора ли в путь, места родные посетить? Сорок лет уже настучало от роду, да и как бы не забыли там, что есть такой...
Посещу своих друзей-горняков в Свердловске. В Челябинске и рядом – знакомых и родных навещу. Заеду в Курган к Марку, как он там кукует, что нового узнаю. А что?! По местам «боевой молодости», родителей и родных повидать, с Марком посидеть – ведь все это чего-то стоит в его сорок! Ну вот и славненько. Пишем письма всем, мол, встречайте, берем билеты в дальнюю дорогу: сначала к Марку в гости, а потом война покажет в каком порядке Свердловск и Челябинск ставить. Какие проблемы! Тем более еду один, без семьи; так сподручнее, да и имею право! Жена заочно передает привет Марку, и его жене, и их сыну. Оттуда и начну.
Прибыл и звоню. Марк узнает по голосу, словно расстались только вчера. У него новый адрес – сменил привокзальный район на центр, рассказывает коротко как проехать, «да ты ж не успел еще забыть центр города», смеется в трубку «Как там Москва, на месте, не перебунтовалась еще», «Давай, жду».
— Чай, к сожалению, кончился. Сам не ожидал. У меня тут... Впрочем, сам увидишь.
Увижу, конечно. Что там еще у него, загадки до порога. Никогда Марк не был любителем загадок, а тут – «сам увидишь».
Увижу.
Улица где такая – знаю. Вот этот дом. Но что-то уже «крутится-вертится» в голове, «хочет упасть».
Марк открыл сразу. Будто ждал за порогом, караулил у двери. Проводил до кухни, и как-то сразу сбежал в комнату. «Я сейчас».
После неразборчивого бурчанья в глубине квартиры – странно, дома не один, что ли? – он резко проявился, будто фотокадр, за ним как-то боком вошел Оса.
— Вот, — Марк торжественно помялся, как потрепанный конферансье в дешевом представлении. — Сам не ждал. Вчера поздно вечером этот друг приехал и с утра в гости ко мне «напросился». Я ему ничего не говорил. Прошу любить и жаловать, мои отпускники. Чай вот только кончился.
Мы нехотя пожали друг другу руки, с горечью и недоумением... Помните картину «Не ждали»? Осю «принесло» с востока, как потом в куцем разговоре выяснилось – откуда-то... Стоит, однако, уважения:
Сусуман, Магаданская область, золото... Или же Сучан (Сучаны?), Хабаровский край, вроде олово... Края те были не знакомы кроме Осы.
... Большой спец, ценят, многое прощают – ибо холостяк...
— Ну а он, — продолжил Марк, — с запада, в карьере...
(Который так же не был интересен Осе, что он вряд ли помнил такой и где «оно» находится).
— Ну вот. Чай будем пить? Ах да, мы ж его с Осой чифирем высосали. — Марк уже не знал, куда себя засунуть – хоть под стол – под этими серыми незрячими взглядами. Трудно было ему позавидовать сейчас, врагу не пожелаешь... Сколько ж можно!
— Да я привез, Марк. Не мельтеши. Не чай. Чай попьешь – какая сила, чай попил – совсем ослаб. Чифирь только в поле да в тюрьме годится, а за столом в цивилизации надо что покрепче. Забери, Марк, из моей сумки; нам должно троим хватить... А то языки усохнут.
Марк подсуетился. Пили, закусывали, молчали, глупых вопросов не задавали. Вроде как поминки шли, а не долгожданная встреча бывших однокашников. Немного подразвезло – от водки, от чифиря, с дороги, от дикой несусветицы, от абсурдной встречи.
Наконец, закосевшего «путника с Востока» прорвало, понесло, он не поддался нашим уговорам «посидеть, отдохнуть, подремать», вырвался от нас, потом из сильных рук Марка, спокойно обошел мимо «западника», обругал его и вывалился прочь на свободу...
Утром Марк вызволял его из местного вытрезвителя. Оса был тих и смирен, зайти на «опохмелку» не пожелал, захотел круто вернуться на любимую работу.
И срочно улетел из города. Не объясняя причин... «Я не рыжий!»
Что ж, прощай, рыжая повариха, прощай, Оса! Больше мы не увидимся даже в этом тесном мире...
... Продолжать? Продолжим, что ли, тем более – знаю, что меня ждало впереди.
10 беспросветных лет. В эти годы он был невыездным – далеко от дома не уезжал, только «дом – работа – дача», никому не звонил, писал редко и по необходимости кому-либо. То были – уже не в СССР – знаменитые лихие 90-е, годы правления Ельцина. Бился за выживание в «темном тоннеле» российского суверенитета, и не он один. Еле сводил концы с концами в этой бартерной и рыночной жизни. Экономика уже давно перестала быть экономной, во главу угла хоть что и хоть кого тычь, алкоголиков «повывели» и оставили их без зеленого змия и табачного зелья. Но зато сейчас спиртного стало вволю, на выбор и в любое время – самогон, водка, заграничная кристально-мягкая и ядовитый спирт «Ройяль», да и сигарет американских завались на прилавке. Спиваемся, что ли? Усиленно заработали «трезвяки», как в народе называли медвытрезвители. Это ж надо только – на пятом десятке лет, первый раз в своей жизни и он попал в это достопочтимое заведение: шел вечерком в субботу со дня рождения знакомого, тихо и никого не трогая, полста метров оставалось до родимого подъезда – ан нет, не дошел, забрали бравые вояки родом из «урядников». До сих пор видится этот заутробный мир медвытрезвителя с его гробовой, душу выматывающей заунывной музыкой, явно не эстрадного происхождения. Тогда рядом с ним оказался и его начальник цеха – «шел из гаража, никого не трогаю, но – в трико и тапочках... Вот они, орлы праведные, крохоборы...». Посмеялись, грустно улыбнулись, покурили его «американскую» заначку. «Тьфу-ты, — сплюнул мой начальник. — Мерзость какая. Горящая трава-сухостой. У тебя ничего?.. Нашего, русского курева – «Беломора», «Примы» наконец? Изъяли? Это они любят, обдерут как липку. Потом шлют «письма» на производство, если не откупишься»... Н-да, стараются служаки, наша милиция нас бережет – гребут всех подряд, правых и виноватых, работягу и пенсионера, бедовых горняков и их начальников, не слишком удачливых, тихих и буйных! Одним словом, менты из вытрезвиловки, дела знают, чуть ли не на хозрасчете сидят. А наверху не думают, что что-то уже не так, набитая колея в тупик идет, а ведь предупреждал же один человек еще в СССР: «И не церковь, и не кабак – ничего не свято, эх, ребята, все не так, все не так, ребята...» Раньше понятно было: «И пил солдат из медной кружки беду и радость пополам»; да и он сам еще помнил из далекого детства, из тех 50-х, когда его многочисленная старшая родня «пила» целый день бутылку с сургучом на всю толпу – н-да, было дело, а сейчас моменты!
Эти десять бестолковых лет запомнились, долго будут сниться и печалиться. Вот взять его соседей по дому. И бродят их души неприкаянные где-то и сейчас средь нас... При нас – разве ж их призабудешь, не то враз жизнь помутнеет без прошлого, без них: вот он, неунывающий «сталинский» Семеныч, и Лешка-неустройка, коего забили до смерти на благоустроенном и цивильном пляже, а вот Седой – уральский офицер Афгана и зек... есть и другой Алексей – повесился от непоняток жизни и красивой сожительницы, а вот пенсионер, горный железнодорожник, «упал» со своего балкона... Много их в памяти. Куда уж без нее. Каждый из них мечтал о своем – вот приедут кореша и други, вспомнят обо мне, на шикарных машинах, и с черной икрой, и с подругами. К кому-то приехали, к кому-то опоздали, кого не вспомнили... Коротка память. Страшно.
Поэтому он сам никогда не опохмелялся. Не приучен был. В мире грез, быть может, и хорошо жить, вот только выплывать оттуда тяжко. Так что он больше двух дней праздничного застолья не выдерживал, не хотел последующей тупой неустроенности – и впадал в транс, он называл такое состояние «черный сплин», что бывало с ним через полгода-год этой лиходейской «десятилетки». От очередного сплина спасала водка, тяжелая работа, дача, забота, пещерная борьба за выживание и долг перед своей семьей. Одно спасение человеку – если он не опохмеляется с утра... Многие же из нас просто после вчерашнего снова пьют с утра.
Но не завидуй чужому, имей свое!
Сам не ездишь – значит, придем из прошлого. Получай! Как-то разговорился с одной девицей на работе... После четвертого курса был на производственной практике в Хакасии – в Сорске, на молибденовом карьере. Первое, что он тогда увидел, когда прибыл в поселок горняков – заиленный метровым слоем разрушенный поселок, снесенную большую школу – прорвало дамбу хвостохранилища, и апрельской ночью сель хлынул на нижний горняцкий поселок; главного инженера отдали под суд. Вот эта девушка сейчас и была его дочерью. Это ж надо «кому-то» – через четверть века напомнить прошлый кошмар!
... Открыли самый дальний закуток, в который не заманят и награды. Но родные пенаты его пока не принимали – видно время не пришло, да и причин не было особых пока резко дергаться в долгожданный путь...
Ему писали, отвергнутому самим собой. Он отвечал, любил письма и не понимал телефонных звонков.
Писал Марк. «Я тут, старик, уже несколько лет не пью спиртного. Но ой как тянет. Снова вот начну – и уже не остановлюсь. Держу свою Надьку в ежовых рукавицах, а она огрызается: “Сам не могешь, другим не мешай”. Беда с этими бабами».
«Помнишь, я насчет твоей жены тебе говорил. Маркшейдеры – они ведь прокляты горным богом и Петром Первым, плохо кончат. Ты, это, присматривай за своей – попивает она сильно, без тормозов, долго ли до беды и бестолковости. Понял?»
«Пытался узнать про своих “другов” – ты их знаешь – из моей группы. Один на Севере, оленей гонял где-то под Салехардом, около Обской губы. Не женат до сих пор, мой лучший маркшейдер нашего курса. А ты оленей пас? Ах да, ты южнее был. Второй мой дружище на шахте работает в Артемовске – Свердловском, семья и дом в избытке...»
«Оса тут начирикал мне посланьице. Всё почти же там, до Сахалина и своих так и не добрался...»
Писал отец. Старый уже стал, мой батя, семь с половиной десятков стучит в его дверь. Аккуратно поздравляет с 23 февраля, почему-то с 9-м Мая – Днем Победы, спрашивает постоянно о внучке любимой и о своей невестке. С Днем Победы своего старика тоже поздравляю обязательно – он кровью заработал этот ДЕНЬ. А внучку свою, дочь мою, он любит – доказал своим вниманием и делом, тем более если учесть, что у него куча детей, невесток, зять и внуки.
Друг мой, с третьего класса школы знакомы, химик сейчас (институт такой закончил в нашем родном городе), холостяк «поневоле» – пишет постоянно, хорошо и периодически. На дни рождения шлет экзотические подарки – книги, камни, фрегаты... Я ему отвечаю телеграммами, скупыми вестями и странными подарками, которые не вписываются ни во что...
И вот пишет мне друг-«третьеклассник»:
«...Нарыл новые копи, фото прилагаю; чуть не завалило в этом драном известном ильменском заповеднике, туда сейчас, кстати, просто так и не прорвешься. Там твой старший брат тоже проходил свою миасскую ознакомительную практику...»
«Да я не о том, старик! Раз я убежал от «урядников» через заборы какие-то там и дворовые тупики, но на другой раз меня все ж «повязали» и доставили в их ср...ый вон...ий... А это плохо, капнут на мою незапятнанную биографию – ну, ты понял?»
«Видел твою любовь! Рыжую и «школьную». Цветет и пахнет. Красива, меры нет. И что ты в ней нашел? Я случайно ее встретил. Она-то меня не узнала, видела-то раза два случайно «тогда» в твоей компании. А что? Болит сердце? Да плюнь ты...»
А ты вот, мой дружище, плюнул на свою первую школьную любовь – Иринку, до которой домогались десятки поклонников и да не все были облагодетельствованы... Вот то-то и оно, и бродишь ты, мой дружище, до сих пор неженатым и холостяком, кучу баб и девиц перепортил и загубил. Что? Плюнь?! Плюнул??
И утерся. А в холодильнике у отца кисла годами водка...
Не было печали – черти принесли. Беда одна не приходит. Пришла беда – отворяй ворота. Да пошире, чтоб гуж прошел во всю беду, на всю ширь.
Вот и закончилось твое безделье, старик, твои «десять безвыездных»... Время пришло, однако, труба зовет! Отдохнул от забот, от маяты... Раньше тебе, крутому мужику, было сорок, сейчас напрессовало на твои могучие плечи 54-го размера и седую голову еще ДЕСЯТЬ жизненного груза. Подымаешь? Весь битый и травмированный, подлеченный и латанный... И жена твоя, уже далеко не огурец: постоянной работы нет, но пока не подкрасится и не подмажется, пока не наутюжится – на улицу не выйдет. Да и я... А что я? Уже могу, оказывается, и на пенсию выйти, государство за мои «заслуги» дает уже мне такое право... Хотя все остальные, пусть даже молодые пенсионеры, все ж... могли бы еще и поработать во славу нарождающейся свободной и Независимой великой трехцветной России! Поработаем, куда ж денемся... Но сначала...
Странный это был отпуск. Редкий до пакости. Реликтовый и драгоценный. Из породы динозавров и мушки в янтаре... Да простите вы меня за такие сравнения! Уж не я ли хотел увидать уральскую березу – ее рощи, она там особенная; хотел взглянуть еще раз на наш горелый лес от хиросимовского огня... Главное, не гоните лошадей, не войте «ямщик, не гони лошадей», не погоняйте их – «нам некуда больше спешить»... Всему свое время, и фрукт тот уродится вовремя, в сей местности – что и должно быть??!
Странно и смешно наш устроен мир...
В 19 лет?!
Я поехал в отпуск. Тот, Большой свой отпуск (затыкающий XX столетие)... Перед этим, поздней осенью, получил известие, что умерла моя мать. И хоть я отлично знал, что буду здорово и сильно не печален – маман моя почему-то страшно невзлюбила мою жену, свою (нашу дочь) внучку, Украину с моей тещей, – но отца мне было искренне жаль, они сильно были привязаны друг к другу и здорово заботились друг о друге – сирота из 30-х и инвалид войны из 40-х. Я им не судья, и даже Великий Бог не вправе вершить моей матери СУД; но я у ней был третий и нелюбимый ребенок. В общем, на 73-ем году жизни смерть скосила мою мать. Уехать мне на похороны сразу не удалось – светило только в феврале, в лучшем варианте. А восьмого марта – трагикомедия то ли в шекспировском стиле, то ли в духе пролетарского бунта женщин? – умер на моей родине и мой «школьный» верный друг. Как Юлий Цезарь – пришел, упал и не возвернулся, возрастом не дотягивая до своих 50! И все ж только к лету я «окреп» и ринулся на разборки к своему неблагодарному Уралу...
Первую пилюлю я получил в поезде «Воронеж – Новосибирск», где ко мне в купе случайно переселили молодого мужчину. Покрякали, представились нехотя и заинтересовались «общей географией» из времен СССР. И тогда волосы встали дыбом...
Скажите, разве может такое быть?
Через тридцать лет.
Едет сын к отцу, в Казахстан, на Балхаш.
(...У меня у самого отец из Северного Казахстана, а мать – из уральских обрусевших башкир...)
А что Балхаш? Знаком. Да-да, его горняцкий поселок Коунрад. Знаете, когда я устроился только на наш, здесь, железорудный ГОК в Черноземье, то сразу нарвался на «балхашского»!
... Сам я его не признал, машиниста с экскаватора, но вот его жена, работающая на почте в том поселке, запомнила последнего студента-горняка – все «его» уже уехали, а он бился до последнего, приметен был тот паренек, серьезен и угрюм, что так женщина запомнила его и так впечатала в свою память фамилию того студента, практиканта-«буровика»... Любил он письма, часто их спрашивал на почте и нечасто получал. Она, женщина почтовый служащий, спрашивала: «Поди, от любимой? Жди».
Но это ведь из сказок про Али-Бабу или того же Аладдина, которого все ж не дождались из седьмого путешествия Синдбада на его «острове» Итака в Каменном поясе его – рыжая майская заря!
КМА-руда, «Новая» криворожская магнитная аномалия с 50-60-х усиленно нуждалась в горных и классифицированных кадрах... И она их «ела» – из Рудного, с Казахстана, с Сибая, от Карпинска, да мало ли откуда – где гас горняцкий промысел... И вроде КМА – всероссийская, всесоюзная свалка кадров и квартир, рванувшая «на» и «во» свет, железо знаменитой Аномалии – процветала!
Хвала геологам и горнякам!
Но мы отвлеклись, не зная того.
Куда ж ехал мой «балхашский» знакомый в нашем «дурном» и долгожданном для нас же самих поезде «Воронеж – Новосибирск»?
... Но-но-но! Вспоминается мне на самом деле и тот еще Балхаш – Коунрад мой после третьего курса, где я все еще ждал, надеялся и верил, что моя рыжая и пламенная, майская и «школьная» любовь все же ответит мне, скажет «ДА», и полечу я туда на крыльях к моей рыжей и ненаглядной девушке. Писем не было, красивая женщина в местном поселковом почтовом отделении отвечала: «Нет тебе, парень, ничего. Жди!» И он ждал, до упора, до ответа – кончилась практика и подходили к концу даже его собственные студенческие каникулы, – он не дождался и в этой битве проиграл. Круто приехал домой в «деревянном поезде», услышал от своей матери долгожданное «да твоя замуж собралась» и...
Да не лезьте мне в душу!
... Коунрад свихнулся. Гонят спаренные уступы, крутых радиусов, и это при ж/д транспорте основном в карьере. С СБШ-250 в бурении скатились до старинных СБШ-200, экскаваторы в прямых забоях мельчают... Составы падают с рельс из-за крутых подъемов и радиусов... Куда катимся...
«Батя мой, работы в поселке самом нет, работает сторожем в карьере». Они, случайные попутчики поезда «Воронеж – Новосибирск», выпили уже как братья по крови.
— Может, судя по вашим годам? — спросил странный мужчина... Одет как на подбор, а в глазах – медная тоска Балхаша, его родного отца. — Может вы знали Комиссарова, машиниста бур/станка... Время совпадает. Там еще был, не помню точно, отец их часто вспоминал и называл просто: Китаец (а он и на самом деле на китайца махал...).
— Я не помню Комиссарова. Фамилию такую не знаю. Но Китайца я точно знаю. Я работал в основной бригаде у Гейта... Вам не знакомо?
Но ведь фамилию «Комиссаров» он знал и ведал от своего непревзойденного «немца-казаха» Гейта. Призабылось?
... Уж не на его ли фотографиях у бурового станка СБШ-250 (станок буровой шарошечный, диаметр бурения 250 мм) так красиво застывали в спокойных и толковых позах его машинист Гейт, машинист другого СБШ Комиссаров, помощник машиниста Китаец и студент «того 71-го»...
Да, он «знает» Комиссарова, твоего отца, парень! И Китайца тоже... Что ж не знать! Ведь он же сам снимал всех их – ВСЕХ НАС ТОГДА! – своим скромным черно-белым фотоаппаратом – «Юность» или...? Забывается... И оставил фото на память всем: себе, вам, нам и им!
Он догадался: не сказал многого; тем более его поразил другой – курящий по их тамбуру, вот уж насмешил!.. «Настырникам» в поездах особо не подают – сигарет на халяву, свои иметь надо, путь долгий, да и станции с их дорогими ларьками имеются – засекай время, масштаб, платформу и размах – от и до! И даже отходить далеко не надо...
Сам видел! Знаю. Зуб даю. Рыбу с Волги? Камень с Урала? Ножи – булат Златоуста? Оренбургский пуховый... Срез пихты – под старину узорный...
И катится, катится «голубой вагон»...
Вот они спокойно стояли и говорили. И знаете – удивлялись оба. «Сутки»-«двое» поезда убьют любого, их возраста – тем более. Они были ровесниками, крепышами, чуть покурить и не любители выпить по дальним краям... Вот только бывает же такая подляна!..
Он, родом с Лиски Воронежской, ехал под Свердловск жену свою забирать от родственников, а он – из-под Воронежа, плыл на свое свидание долгожданное с Уралом! И чего только не бывает в этом противном мире! Да если еще и учесть, что они оба – выпускники свердловских институтов. Да мало ли чего не бывает в этом подлунном мире!
Так что один из моих попутчиков должен был «плыть» далее через Петропавловск – в «свой» Казахстан, другого пути из дружественной России туда, в Балхаш, не было, не предстояло, не предвиделось... Не завидую русским горнякам и сторожам Балхаша! Но другой мой попутчик уж точно должон был попасть с Челябинска в Свердловск, уж не оно ли – в Екатеринбург?
Он никогда не верил в суеверия и приметы, считал их как «крап» в жизненной колоде – и когда видишь эти крапленые, вторичные и забитые карты в игре, то уж предвидишь, предположишь (предполагаешь?), что случится (с тобой), что имеешь и что поимеешь.
Вот таким он прибыл на Урал, на свою долгую и большую родину, пенаты свои. И дым отечества был для него так же горек, непонятен и плох...
Да судите сами! Нехорошо.
Марк пил по-черному. Пошел с ним в гости, посидели и ушли во втором часу... Идем по центральной площади, ночь, тишина. Вот они! Спрашивается – зачем Марк побежал? Меня менты, при галстуке и костюме, спокойно отпустили, Марка же забрали: «Зачем? Почему бежал? От кого? Грешен, значит...»
И мне это здорово напомнило Москву того времени: «Холодное, огнестрельное оружие есть? Наркотики? Контрабанда? Почему в зимнем плаще? Вы не в Центр Москвы?»
Теперь – в Свердловске, следующая моя остановка. Тоже 10 лет с друзьями-горняками не виделся, их у меня здесь, в вашем нонешнем Екатеринбурге, все так же осталось двое. Просто ли упихать десять лет разлуки в два дня, даже если для этого ничего не пожалели организаторы и не добавил приехавший виновник торжества – гулевали двое суток на даче, с размахом и шиком, подсчитали – прослезились, но «оборот» принимать не стали, списали на «давность лет», дело закрыли... Было муторно: отъезд «третьего» проспали, приезд второго не запланировали, а первый прошляпил общую ситуацию.
... Несправедливо, поганенько, но вот – нас скучно приглашает стюардесса, похожая на весь гражданский флот... Кое-как мы уехали из дачной зоны, но на привокзальном районе – вот они! Красавцы... Одного из нас забрали, ибо опохмелялся утром и запах был свежаком...
Ну. Так что. Всех через 10 лет сдал? А что? Курган «взял», Свердловск – «захомутали»... Теперь что – под Челябой...?
А вы там, э-гей, батя и другие, меня еще ждете? Дурака.
Ждали его. Припоздал, конечно, немного. Батя извлек из холодильника толковую водяру образца этак... этакого незасранного года, пробурчал сыну нерадивому: «Забыл ты меня поздравить с Днем Победы... Смотри, пару медалей подбросили: медаль Жукова и еще...
— А ты не хочешь ли (ТЫ!) со своим старшим братцем на берег сходить – там мемориал нам – 55 лет – открыли... Не видел ведь!
Был на кладбище.
Был на крутом яру озера, где встал гордый «55-ть» Великой Войне». Спасибо, батя. И плакал, а отец был по-прежнему – суров, сволочь дотошная, и справедлив.
Я был на могиле друга и матери. Все правильно, так и должно быть.
Я взял в руки телефонную книгу города и позвонил ее тетке. Она узнала меня сразу. Ищи, сказала, в городе, звони, приходи туда...
Что, она спросила, меня нашел наконец? Через три десятка лет. Я ведь тоже высматривала тебя, но да трудно было тебя найти в твоем мире... Она все так же мило покраснела, я – усердно и зло побледнел...
... Через 10 лет после моей свадьбы – после твоего Балхаша, когда ты не захотел меня видеть и я вышла замуж за Николая – я развелась с ним, он как вроде чувствовал и тыкал тобою мне (Да! Я любила тебя), но мне сказали, бабки нашептали, а тетка моя не верила, что ты погибаешь и не выживешь...
У меня двое детей, Николая дети, не твои; сменила 4 адреса по нашему городу, давно уже не работаю по специальности «автодорожной»... Но то – сказ особый и рассказ отдельный...
Видно, не судьба...
И хватит нам о нем рассказывать...
... Повадилась лиса таскать рыбку у рыбака... Пусть теперь он сам о себе расскажет, как говорится – вот тебе карты в руки, вот тебе свисток и перо в полет на удачу. Так что слушаем дальнейшее повествование – от первого лица. Видно, не судьба – все укрываться под сенью (в тени), пора и честь знать, милейший – к барьеру, сударь! И пусть вам повезет в ваших дальнейших «сказках».
Поведай, дружище!
О том
... Где не был,
Что не успел,
Что не сделал
И куда не попал...
Всего, конечно, не расскажешь, трудно объять необъятное, забывается пройденное и неиспытанное. Но да осилит дорогу идущий, а уходящий пусть уходит... Что на роду написано – ...?!!
Так вот он, я – перед вами. Видно, не судьба – отбрехаться от своей судьбы, смеюсь, «смеюсь» над своим каламбуром. Порой и в смешки-снежки стоит перекинуться. Однако, понял, что самому себе врать трудно, ибо в противном случае тебе обеспечены кошмары в оставшейся жизни. А кошмары – они и есть «эхо» твоих голосов, трудно спорить с ними, даже во сне.
Сознаюсь – жизнь вынудила меня порой хвататься за перо (ныне называется авторучка), я не любитель дневников, больше доверял своей неблагодарной памяти, вел полевые дневники и иные немногословные короткие записи в виде слов и фраз – по ним я «восстанавливал» факты.
Хочешь выжить (так я понял!) – имей свое: наследство, талант, веру, гордыню, духу, уверенность... – в общем, имей все СВОЕ, когда все еще «остальное» придет... по завещанию от предков и пращуров.
* * *
Что для борзых (собак), что для борзых (людей) – занятие одно, лихое: охота пуще неволи; здесь только акценты (упор) разные: охотиться и хочется... Догоняют и хватают, что плохо «лежит»?
Здравствуй, моя рыжая майская и неповторимая любовь... Со школьной скамьи и до студенческих лет... До твоего автодорожного техникума и моего проклятого третьекурсного Балхаша! Здравствуй. Я много лет «гонялся» за тобой... За призраком?
Я тут задержался немного. Лет на 30.
Не припоздал? Ждала?
Не опоздал еще?
Еще нужен?
Ну, здравствуй, это я!
... Ну и пусть будет
Нелегким мой путь...
Рано начал – раньше кончишь.
— Долго же ты искал меня.
— Старался! — в моих глазах стыло...
— Верю. Сама...
Конечно, мы изменились. Годы не красят людей... Выбеливают, высушивают, гонят в жизненный тупик. Но нам было наплевать. Какое мне дело до них до всех, а им – до меня? Я это право заработал, увидел, осознал! Увиделись, осознали... И пусть поздно, и другие узнали про них – какое ВАМ дело до нас ДВОИХ!
И пусть рушится этот мир, так тщательно сделанный и латаный, – но мы должны вновь и вновь видеться через две с половиной тысячи км и годы! И нас судьба не обидела. И Бог не обделил. Не осудили нас, грешных – видно, не судьба! Еще десять следующих лет, хоть и не каждый год, я догонял свой поезд с развевающейся рыжей мечтой, но он уходил, стуча на перестыках лет и времени, все дальше и дальше... От меня и моего далекого прошлого, настоящего и будущего. Уходил в никуда, в былую неизведанность. Умирали мои... Умерли за эти десять лет, моих последних хороших и некошмарных лет, все, «кому не лень»: кум, любимая долгожительница – собака, отец (мой Батя!), моя старшая сестра... Никого не забыл? Надо быть сволочью, чтобы не знать год рождения братьев и сестры, родителей, жены и дочери – есть такие? Вы как в школе учились? Я когда за два первых класса сменил четыре школы – то не сказал бы, что учился блестяще (это мои 50-е годы, те еще годы детства и бараков).
Я хорошо говорил, или по крайней мере старался, эти ТРИДЦАТЬ лет – все ж был лидером, ИТР-ом, руководителем, комсомольским вожаком, не партийцем, профессионалом, знал и иное, и прочее... Сейчас я разучился говорить по-человечески и уже почему-то не доверяю эмоциональным человеческим словам.
... В последние годы круто не стало моей жены, а потом и моего старшего брата. А они, что интересно, очень даже ценили свои мнения и понятия друг о друге, ценили оба и меня. Ну, в общем, эта – «с черной косой» – не зря трудится... Не задарма!
И дай бог моей рыжей звезде огромного счастья... У ней есть внук и забота по имени Данька – помните Данилу, мастера с Горно-Уральска, Баженовского рода... И ему тоже, Даниилу Озерскому, большой Дороги в этой светлой жизни! Да мне б такого...
Видно, не судьба!
* * *
Я не искал чудес в мире. Скорей, они меня искали. И находили. Я не верю в чудеса; тем более не понимаю предрассудки и суеверия, заклятья тоже! Но с годами понимаешь: ценно не то, где был, а что видел! Я мечтал быть археологом: что я, зря копал, что ли, древнее становище в своем родном урочище таежно-уральском... И если я не думал за весь Акрополь в древних Афинах и за египетские Пирамиды (и именно, в правописании здесь – с большой Буквы Истории) – то ведь езжай, смотри, зри, копай, понимай этот и наш МИР... А? И вдруг бы понял, увидел... Это ж здорово!
— Натаскали здесь черепков и камней, — ворчала моя мать, выгребая из тайников под ванной консервные банки с кремниевыми древними наконечниками и осколками глиняных чаш... А то и гильзы, штыки иль каску времен Гражданской Колчака.
Это было здорово – находить,
и печально – расставаться с ними.
Правда – она ведь кособокая, неудобоваримая и непонятная – в наших детях... Это мы уже потом и взрослые, быть может начинаем понимать и разгадывать – что ж мы сотворили с детскими душами... Удавили что-то???
... Не поздно ли седому мужику, горняку и геологу, что-то повидавшему, быть оплеванным в детстве, ибо он – «будущий» археолог, не состоялся. Что, не судьба? Мечты и балабол... да? А если он до старости роется в копях, залежах и провалах... Не мстится? В кошмарном аду и Большой Советской Энциклопедии и Известиях Археологии.
И не бог ему судья. Люди. Свои же; правду, однодневную и тем более неудобоваримую, ведь никто не признает, никто с ней не поздоровается на манер В. Высоцкого «ну, здравствуй, это я», мимо пройдут, не оглянутся, скособочатся – она ж, «правда не в бровь, а в глаз» – дорогая вещь, не всем по карману, тем же слюнтяям («нюни распустил»), проходимцам («пройду мимо»), молокососам («молоко на губах не обсохло) и др. (от конского тпру... тормоз).
Я не верю в чудеса. Но я их видел. Близко и здорово. Непонятно и интересно. Зачем и почему. Чудно, страшно, удивительно... Я, конечно, не скажу за «всю Одессу, вся Одесса очень велика», но... по СССР-у могу кое-что свое рассказать!
Ну, во-первых. У меня дурная привычка, вроде как «отметиться», обязательно плюнуть в «водную артерию» СССР... Но-но: именно культурно плюнуть, большая вода стерпит, а не носки там стирать, как в том анекдоте про Чапаева, его Петьку, носки, реку Урал и дохлую рыбу ниже по течению... В общем, скорее я плевал-то условно, больше таращился и смотрел на... Слушайте и немного позавидуйте: Амур, Енисей, Иртыш, Волга, Дон, Ю. Буг, Прут, Днепр и пр. Там нет, скажете вы – Колыма, Ангара, Индигирка, Обь, Кама, Днестр, Лена, – и вы будете правы, не бывал там слишком близко.
Да, а вот белые ночи на Севере и в Ленинграде удивительно схожи. Сам убедился.
Что там говорят про сакуру японскую... Да, красива, но обычный российский (точнее бы – украинский) цвет не уступает, вишня – она ведь и есть вишня. Я сравнивал их – на Сахалине и Украине – красота идентична... Вишня цветет!!
Сдуру (после «ста грамм по пять» кумыса, тана иль айрана) можешь и не отличить казахского верблюда от уральского лося... Такой фокус со мной не пройдет.
Но все равно – мир интересен. И не перестает меня (нас!) удивлять...
Слышал. Видел. Почувствовал. Узнал.
Рассказываю. Что слышал, видел, понял, учуял и познал. Может, другим будет неповадно. Почувствовал на своей шкуре.
Слушайте, рассказываю. Метео, в мире животных, белые пятна географии, новости природы в СССР!
... В твоем (моем) мелкомасштабном понимании:
– Под минус пятьдесят градусов – Красноярск и Ю. Урал (Челябинская обл., 1979 г.; здесь вам не Якутия, здесь климат иной; не путайте с Оймяконом и Антарктидой); кстати, под Хантами тоже холодно... Как в Норильске и Дудинке?
– Я привык спать не по ночам – эти часовые пояса СССР, 25 часов работы в сутки в экспедиции, ночные штурмовые звонки (а утром – будь добр к «барьеру»), студенческие экзамены и курсовые – значит, я сова?
– А интересно: вылетаем с женой из Киева, плюс девятнадцать, а в нашем Красноярске – минус семь, при нашем летнем одеяньице, у-у-у! С югов, значит, прилетели.
– Знаю, что в Красноярске (это-то там) было плюс 36, а на Урале и Балхаше в тени отдыхал под плюс 44 (в Сахаре не был).
– А вот выехал в конце февраля на дипломную практику (в зимней шапке) из Свердловска в Кривой Рог – а там и снега нет, и теплые ветры задувают... Пришлось снять сибирский малахай; солнышко, тепло, ветерок южный.
– А на Сахалине двухметровые сугробы – тоннели там бьют для пешеходов прямо в центре областного города. Каково?
– В июне сильный снег видал, там, на Алтае; а в декабре, под новый аж год, в Красноярске видел молнию, слышал гром – что было уж потом...!
– У тещи любимой, на Украине в Винницкой области – наливаю себе утреннюю стопку добротного 40-ка с лишним изделия... И стекла, стены, посуда – все в разброд и унисон... Я – артиллерист, знамо такое – оказывается, в Румынии землетрясение было сильное, напугать меня успело, не привычен я.
– Вы видели каштаны на Крещатике? У меня они под балконом дома в моем Черноземье тоже были (жена страшно уважала каштаны, что с нее возьмешь – хохлачка, я более уважаю пихту и кедр голубой, что видел на Севере).
– НЛО я тоже видал, приехал на Урал в отпуск и увидал; я в них не верю, но тут встали всей толпой и долго наблюдали за их «броуновским движением» – ничто из земного так бы не смогло.
– Я, конечно, понимаю, что самолеты пошли сейчас крутые и поезда скорые... Я летел самолетом (беспосадочно) ИЛ-18 8 часов, а в поездах ехал трое суток (более не приходилось; в общем вагоне, было дело, до полутора-двух суток).
– Видел – и как здорово и интересно – ДнепроГЭС-II в Запорожье, и Красноярскую ГЭС в Дивногорске.
– А знаете – видал северное сияние под Хантами, один раз шикарное, другое – чуть похуже.
Не утомил?
А мне – интересно.
Здорово гоняться за чудесами.
Марево в степях. Миражи (самые натуральные и правильные, спрашивал местных, не померещилось): один – кладбище в нескольких километрах, другой – сам горняцкий поселок («издалека») – жуть, до точности, тем более сам немного знал этот поселок – но мираж показывал именно казахскую (не русскую) часть горного поселка...
Под Златоустом (да, это Ю. Урал, недалекая западная граница с Башкирией) есть такая гора, называется Таганай, что в переводе с таган-ай означает «подставка (для) луны»... высок, значит, Таганай и знатен в местной округе, но самое там (даже не знаю, как выразиться) – это Каменная (с большой буквы) река в 6 км длиной и 200 м в ширину... Невелика речушка – из больших окатанных валунов! И перейти ее не так просто, ноги изломаешь! Нет там воды.
Сам я не был на целине, не вырос тогда из штанишек. Но тех людей знал, знавал, видел, слышал... Земли и поселки их тоже довелось узнать. Целинные земли, медали, трактора на пьедестале... 54... 56 год... Пылью и прахом они тогда еще не покрылись! ТА ЦЕЛИНА вобрала в себя земли западного Алтая, восток и юг Курганской области, южную часть Челябинской области, северный Казахстан. Я ведь не голословно упоминаю их – я прошел по ним, мне БЫЛО надо... Но по своим водным изысканиям. А то!
Я, конечно, не большой знаток Казахстана и его земель. Только не говорите, что Казах – одна сплошная степь. Это удивительный край. Вот еду (с женой, в редком долгожданном отпуске), в Казахстане из санатория «озеро Боровое» в какой-то урановый город (но, конечно, не г. Щучье) – степь, большая! Глаз не охватит, ковылем плещет, а то – глаз загляденье! – ковер маков алых... А потом сурки, много-много, столбиками стоят, провожают (иль, встречая, не доверяют). Я-то ведь уральский, таежный.
Мы в Красноярске искали с моей будущей женой частное жилье для себя. Какие уж там условности для будущей семейной пары, если они (мы) – вдалеке, за тыщи км от своих, должны решить для себя – где и как (впрочем, «как» уже не решало проблемы, но вот «где») жить дальше и, конечно, совместно. В благих районах пока не светило, не нашли, да и дороговато. Ищем дальше. И забрели они в так называемый красноярский «Шанхай»; а что? Там сдавали внаем местные хибары. Квартал большой... Заблудишься. Но если Китай с его полутора миллиардами плюс Шанхай, то что же тогда такое Красноярск с его «740 тысяч населения тогда»... И где такой его Шанхай, огромный бич (не путайте, не жил. массив) – массив в картонке-фанере-узкопленочном... Впрочем, их не ограбили там, не побили, и они с ужасом вышли из «Шанхая»... И как будто заработала жизнь: вот они, милиционеры, трасса, дома, свет. Как они шарахнулись оттуда, и вечером еще где-то в общаге не могли напиться дешевого вина (что уж продавали).
— Ну? — спросил он.
Она не ответила. У ней до сих пор стучали зубы.
— Ну? — переспросил он.
Жизнь тупо и неудачно начиналась. Его и ее родственники – ой как далеко, скарб – три чемодана на двоих. Помощи ждать неоткуда, нескоро, незачем...
... А знаешь, судьба моя, я потом, через десяток лет спустя, в Кургане – есть там в промзоне, в районе моста, свой Шанхай, путанный клубок узкопленочного лабиринта фанерных и ублюдочных домов, где и убить могут, но никак не облагодетельствовать, страшно; я там в его узких, грязных, вонючих, похабных улицах (не то слово!) искал – где же может заблудиться наш экспедиционный «Урал» с его шофером (да кто ж его принимал к нам на работу, ведь предупреждал руководство о его дурости).
Я нашел. Этого придурка. Вот только до сих пор не могу понять, каким образом он заехал в тот тупичок... мы с моим водилой выезжали прочь два часа с лишним, пока окончательно не заблудились. Шанхай! Нам ткнули влево – оказалось, две минуты езды. Ну? А говорят, чудес не бывает.
Так что нет чудеснее того, чтоб возвращаться под крышу дома своего...
Посмеялись – и будет! Не все так мирно под луной. Виноват – под солнцем мало крыши.
Вы в Магадане были? И я не был. Как из одного кинофильма: «лучше вы к нам, гости из солнечного Магадана!» Но, знаете, я бы глянул все ж на Магадан, одним глазом (вторым – телевизор показывает про «магаданца» артиста Жженова – которого я страшно уважаю). Не был я там, черт меня не заносил в (столицу Колымского края?) Магадан; я читал «Колымские рассказы» Шаламова (я читал «Один день Ивана Денисовича» Солженицына в издании Роман-газета 1961 (или 2-го) года... Но держал его уже через 20 с лишним; непонятно – и здорово, да?!). И еще, эта популярная зачем-то песня про «Солнечный Магадан». Молчу.
А еще мне жалко мою родную Хакассию, бедная моя – ее топит, трясет, жжет, метелит...
За что ж такие ей напасти?
«Дорогу» в Хакассию открыл в нашей семье первым я, уехав туда на свою II-ю производственную практику в 1972-ом. Сейчас там со своей семьей доживает мой младший брат – братишка. Попал он туда уже позднее, случайно; и зачем? Но ведь живет, шишку-кедр бьет, в ус не дует на своей пенсии. Но ежели ковырнуть (но вот стоит ли?)...
Но все равно интересно. Послушайте. Да и без компромата все, сухо и факты. А итоги бить уж вам.
Из нас, троих братьев, рождения 50-х, в принципе-то не должно выйти уголовников – хоть и шло такое время, но ведь и нарождалось новое, что-то хорошее. Да и батя наш зорко смотрел за своими сорванцами-сынами. И если у старшего сына его осталось глубокое «не укради», то почему-то у двух других того не было. Может, время такое было... 50 на 50, 50-е годы. И нас, младших, приучала потихоньку воровать амнистированная уголовная братва (а она умела). У меня не закоренело, у моего младшего – закостенело; вроде тех декабристов, что хотели бы повоевать, да не успели.
Старший утянул меня в геологический кружок. У меня с моим младшим братишкой этот фокус не удался, но зато я его «утянул» в свой институт. Так что догоняй, братишка, все равно своего брата; его однокурсники знали про его старшего брата – младший был посему авторитет и неприкасаем. Я женился... Жена и братишка оказались одногодки; глупые, бурчат они что-то, да пусть развлекается молодежь – а мне дело надо делать! Дочь у меня родилась (на далеком Алтае) – в тот же день, точь-в-точь, как мой младший братан (догоняй!). Догонял? Доказывал он... Кому? Вот я, допустим, против своего старшего братана – ни-ни, хоть и худенький он супротив, а заломает как зверь. А ведь я младшего научил томагавк метать, гирю швырять, боксом пыряться - неймется все малышу... Ну раз, ну два на руках обломал, гири выжал чуть ли не в два раза поболе; морду не бил (а зря). Он – догонял, не по силе, так по борзоте, даже жена моя взмолилась и запросила помощи (у меня) и пощады (у него). Остервенел я... Некогда было мне пустельгой заниматься, да и сволочь та – родная кровь. Убег он в Хакассию, по своим проблемам и со своими заботами. Почему он там оказался – не скажу, да и чуть ранее вам то говорил. «Там» он мотался и осел... Адрес его «хитрый», не забудешь: Алтайский район, село (от слова «очуметь» или же «окочуриться»), улица – такая же, где живут родители на Урале, дом – такой же, где живет его сестра на Урале.
Я знаю, там, на Алтае, прекрасные родились люди – Василий Шукшин, Евдокимов, Золотухин и моя дочь...
Вот и я бы хотел сказать своим «младшим»: трудно надеяться на царский стол (опасно и ненадежно), так что будь добр вовремя позаботиться о своем.
Скажите... Угадайте... мою судьбу: «А если бы я женился раньше, еще в институте, как замечтал тогда... То что бы было?»
Что бы стало?
... Н-да, вот не сумел, не успел я поздравить младшего братишку с 60-летним его юбилеем – не «догнал». Хотя...
Так уж я вырос. Не завидуя. Чем и был силен мой БАТЯ. Он не «успевал» отгрести мебель, ковер, холодильник – впрочем, ему оно потом приходило само, как ветерану и инвалиду ВОВ... В его Большой Конторе таких ценили, берегли и лелеяли... Только вот «баловал» он нас ровно настолько, насколько позволяла скромность ЕГО – а она у него сильна была, в автобусе даже лишний раз не присядет. Не жалел денег на ЛЮБОЙ спортинвентарь – за деньги, по блату, по знакомству (уж извините), для всего двора, «списанный».
Биться в лоб, об стену, имеют только право царский революционер или мужик в доме, женщине же дано право – от природы – объехать домашние разборки по кривой. Отец называл нашу мать – при нас, уже взрослых – как «мать», а она его звала всегда и везде только по имени... Ох уже женская непредвзятость! Когда нас «разогнали», мать стала усиленно и круто обувать и одевать – не нас – Батю! А то! В шляпе, костюме, галстуке... Она – в шубе... Он-то всегда отдавал ей всю получку, не пил и не курил, наш герой той страшной войны... Впрочем, сказ ведь не о том, но пока что о любви!
Отец пережил нашу мать на шесть лет. Может и мне такое дано? Я верю в Батю, спросил бы его (вряд ли), и он бы не стал мне отвечать! Думайте сами, решайте сами, быть или не быть... Тут я с ним полностью согласен. Вот бы так, как отец – лечь и тихо под утро умереть – я бы тоже так хотел; но не верю я, тогда находящийся от него в двух с половиной тысячах км и двух года, что он вот так... Но ведь я, к сожалению, большего не знаю, и ветер не скажет. Так что прощай, Батя, мой великий человек, не успели мы с тобой договорить и допить, хоть я и торопился до твоей прокисшей бутылки водки в холодильнике, что ты всегда берег до меня... Мы с тобой, отец, в чем-то похожи – ты намаялся под конец со своей женой перед ее смертью, я – тоже. Бог-то бог, но ведь и сам не будь плох; почему мужики не верят в бога? Я не за всех говорю. Я ведь и забыл, с какого бока подкрадываться к церкви... Да и надо ли.
Так вот – если б я женился в институте...
* * *
Был бы я рано женат – в свои 19-20 лет, значит бы я и не состоялся таким жизненным бродягой, солдатом удачи, каким я оказался и быть должон. Вот и весь ответ, простой по своей сути. Значит, не мотало бы меня по свету, как таково досталось, и к чему я был готов чуть ли не с детства. Как в таких случаях говорится – рожден не ползать... Меня всегда тянуло – бросить родной дом и уехать, только потом останавливался, когда вопрос вставал ребром: «А куда и когда возвращаться?» К кому, зачем... Почему и для чего мне там быть? И почему не иначе тому быть?!
В итоге получилось, что моя чаша странствий перевесила чашу весов всех остальных вместе взятых членов моей большой семьи – моих родителей, братьев и сестры. А ведь про них всех нельзя было сказать, что они «тяжелы на подъем»: за десятки километров – смело и без проблем, за сотню верст – по необходимости, и если надо. Вот за тыщу верст, киселя хлебать, когда труба зовет иль редкий общий сбор должен статься – то дело нечастое, но и тогда готовы к делу. Но у меня вот получилось чуть попроще и доступнее: за десятки километров в сторону – семечки (а семечки я не любил), сотни км дороги – как для моряка брызги, не то еще должно быть и будет в обязательном порядке; но вот когда ждут тысячи, кисель с туманом и зги – вот тогда душа разворачивается, часто подкармливая и обеспечивая «карман» госрасходами... да если еще сюда добавить свой скромный доппаек... А! Каково?! И нет тогда тормозов, нет расстояний и времени, и цель впереди порой смутная... Вот это жизнь!
За семь бед – один ответ. Защищая себя – не обвиняй прочих. Если нет дела – то нет ошибок??
Вот не был там-то и там. А хотелось бы. Думалось и гадалось – успеется. Ан нет – судьба если и дает второй шанс, то редко и скупо. Возможно, лишь для выживания.
Я не оправдывался по жизни. Не приучен был. Да так и не научился. Этой хитрой науке – рвать и щипать подло. Меня «пинали»... И здорово ценили как человека и профессионала. Я не был добреньким и «зубы» мог показать – мало не покажется. Много болтался по свету и о многом жалею. Ну как, к примеру, о том не пожалеть, что когда в первый раз летел в жизни самолетом рейсом Свердловск – Кокчетав – Целиноград – Балхаш, потоптавшись на степных аэродромах Кокчетава и Целинограда, не попал именно в эти города, да и как это было сделать практически... Потоптавшись среди ковыля и мошки, мы летели дальше. Однако, в Кокчетавской области потом удалось побывать – в отпуске, и повидать это горное чудо 20х20 км в степях Казахстана... Но вот в Целиноград, ставший городом Астана и столицей будущей республики Казахстан, так и не удалось попасть... Там сейчас, говорят и показывают, здорово и красиво! Да и Свердловск, Средний Урал, столица Урала, ныне уж зовется Екатеринбург (как-то сейчас там Яков Свердлов «чувствует» себя – памятником – в районе крупнейшего уральского института УПИ? Стоит еще?); в Свердловске я еще успел увидеть и показать своим знаменитый расстрельный дом Ипатьева, где закончилась царская династия Романовых, в Екатеринбурге же увидал только огромный деревянный белый крест.
... Нас стюардесса скучно приглашает, похожая на весь гражданский флот...
... Открыли самый дальний закуток, в который не заманят и награды... «Поехали в Алма-Ату? — спросил я жену на Алтае. — Отсюда нам недалеко. А там...! Мы ж скоро в отпуск идем».
Там – Хива, Бухара, Самарканд, экзотика и восток, базары и фрукты.
— А что? Давай. Да запросто...
И уже лежали в кармане билеты на поезд до Алма-Аты, столичного города. Там даже знакомые казахи у меня были, из студентов по недавнему Балхашу. Но вместо Средней Азии мы заполучили скромную поездку в Прокопьевск Кемеровской области, куда чуть раньше уехала к своим подруга моей жены, оттянувшая свой трехгодичный срок после института. Мы, конечно, оторвались там, молодые и горячие... А в Бухару – что Бухара – потом меня приглашал туда к себе в гости главный инженер кирпичного завода, с которым мы вскоре вместе повышали «квалификацию» на курсах в Красково под Москвой. Вот так я «побывал» в Алма-Ате и Бухаре – не получилось, что-то не сработало, заело механизм подачи.
Но в Ленинских местах я успел побывать. Тогда это было – модно? – но мне интересно. За границей, где был Ленин, я конечно не побывал – в наши времена дальше Болгарии тогда и не мечтали, это сейчас при баксах... Но побывал и увидел Шушенское, Смольный, Мавзолей, Кремлевский кабинет, Горки, ссыльный ленинский пароход в Красноярске. Но вот в Ульяновск не довелось, хотя в Самаре (еще том Куйбышеве) и Тольятти пришлось быть. Но ничего – в Ульяновске жена была, насмотрелась на ленинские дома.
В общем-то, где я сам не был или не успел – там жена меня «заменяла» с успехом. Что ж тут уже сделаешь – видно, не судьба... Но я ей завидовал; и слушал ее после этих поездок всегда с огромным интересом. Да посудите сами. Рассудите нас, грешных бродяг и любителей посмотреть мир.
В Минск, Белоруссию – так и не успел во времена СССР (а потом уж, после 91-го, и поздно стало). Приглашали ребята знакомые – по военным сборам, литовцы из Вильнюса – к себе посмотреть, погостить, и не сумел вовремя воспользоваться приглашением. Теперь возьмем Калининград, интереснейший и далекий для меня город: под Кенигсбергом, в восточной Пруссии в 45-ом воевал мой отец, потом – в свое время, в 71-ом – там служил в БАО – батальоне аэродромного обслуживания – мой школьный друг... Там, в Калининграде – янтарь, сырые казематы, порт... А вот в 88-ом моя жена одним махом, по турпутевке, побывала и в Вильнюсе, Минске, Хатыни, Калининграде – что уж тут добавить! Привезла минскую обувь, янтарь, консервы «мясо кита», литовский шикарный плащ, рыбу.
Я мечтал побывать в Молдавии, даже знакомые молдаване были – имени и фамилии у них интересные и ласковые, их певицу Чепрагу видел на концерте, даже на Украину хотел полететь как-то раз через Кишинев – не получилось. Но потом, опять же благодаря стараниям жены, был в Кишиневе, в Одессе-маме... Так что – что суждено, того не объехать на коне, если гору штурмом не взять – обойдешь; в жизни существует еще тактика измора и осады.
Как минимум дважды я чуть не опаздывал к новогоднему столу, все готово и накрыто и 10-15 минут до Нового года – вот только тогда я появляюсь в унтах и меховой куртке после перелета с севера на АН-2 (самолет на лыжах) или из Омска после командировки из Читы... Вроде как с судьбой поигрался. Но как настоящий Дед Мороз или Странник, всегда привозил подарки – кто же их не любит – разные: экзотические и бытовые сувениры и вещи; и было то изделия из кости, кольца с малахитом и из нефрита, консервы разные, вино (и «Токай» тоже), книги редкие, «тряпки», рыба (язь, стерлядь, щука), пеньюар, шапки, японская посуда, елка с кедровой шишкой, оленья шкура. И тогда в доме забывались недели и месяцы моего отсутствия, все устаканивалось и устраивалось разом, и не было глупых вопросов типа «через неделю или раньше уезжаешь (улетаешь, уходишь в «поле», идешь на изыскания, уплываешь в свои болота и Иртыш)?» И снова тянуло, еще не отошедшего... Вот такая хрень и тень, такая дрянь, однако живут же люди и жить будут через «эти» штуки!
А ведь, получается, что я сестре и браться, родителям и теще, друзьям своим МИР этот показал, когда они ко мне в гости наезжали (не забывали!). И сим горжусь – знай наших! Поделюсь с вами красотой дальних дорог и мест, ведь кабы не я... Показал и рассказал своим благодарным людям, что смог – от Восточной Сибири до Восточной Европы.
Меньше знаешь – лучше спишь. Не любопытствуй, пока тебе не «сказали». Я не доверяю левшам – сам пробовал им стать несколько месяцев подряд, когда мне раздавило палец на правой руке; не люблю глупых логопедов с их «скажите р-р-р», в детстве плохо эту «р» выговаривал, но даже собак ведь так не дразнят.
Я немного тут отвлекусь от темы. Для чего?
Знаете, что поражает в горных уральских озерах – их холод в любое время года и прозрачность их вод. Просматривается глубоко, и только увеличивающаяся глубина не дает уже в глубинных сумраках увидать дальнейшую жизнь вод – уже не видишь прибрежных раков, мальков, донной гальки, рыбу, и синева переходит с глубиной в загадочную тень.
Когда появилось «окно» на Камчатку, я запросился отправить меня туда, а мне: «Езжай на «свой» Сахалин, там сейчас важнее, а на Камчатку мы пошлем начальника партии». Вот так. Но несколько значков оттуда мне тогда привезли.
Мне иногда, промеж делами и нечастым досугом, говорили порой, что я здорово обликом и манерой смахиваю на белогвардейского офицера. Да и грех обижаться; может, это их невнятная «речь»? С годами я стал сухощав и поджарый, не лысый (темный волос при густой седине), глубинные серо-зеленые глаза с упрямым и пронзительным взглядом (уж не смотрю прямо на людей, не испугались бы пристальности и «дальности»), волевой подбородок (ямочки на щеках ой как давно «усохли»); в золотых очках (оправе желтой, серебристого цвета меня уже не устраивает).
Так вот – брешут все они, что похож на такого-то такого – меня жизнь таким сделала (из комсомола ушел раньше, к коммунистам не успел пристать), с выправкой кадрового офицера и золотыми очками профессора, с неулыбчивым лицом выхолощенного аристократа и действиями дипломата... Не будите во мне таежного зверя и моих предков с их башкирской лютостью, немецким педантизмом, отвагой тульских сибирских первопроходцев, свирепых горцев, царских солдат! Ибо я – русский, с Урала, чем все и сказано.
А что – сам себя не похвалишь, то кто сделает. Современные ведь новогодние концерты-огоньки больше напоминают корпоратив, где артисты больше занимаются тем, что восхваляют друг друга – они давно уже забыли про народ, который их слушал в «Голубом Огоньке»...
* * *
Я, наверное, все ж «неплохо» изучал курс наук под названием «Видно, не судьба», который в институтах не преподают.
Вот сейчас мне – за шестьдесят, шестьдесят с копейками. И, надо же, попались мне под «занавес» два человека – одному за сорок с хвостиком, второму чуть за пятьдесят. Может, мне везло или не рассмотрел я таких вот странных людей, или же не встретил их на своем долгом пути. Но впечатление от них осталось такое, что каждый из них повторит через десять лет судьбу другого, более старшего – и, дай то им Бог, дожить до шестидесяти с гаком... Это только дети не знают прошлого и будущего, зная только настоящее, настоящую жизнь в своем настоящем... А у взрослых же будет всегда прошлое и должно наступить будущее, и каково будет последнее – один Бог ведает для них, неведомый и странный, не дожили бы они до разбитого корыта!
Который «помладше» - это человек, которому явно все и всё мешает, он даже сам себя не терпит, сам не живет, считая себя «альма-матер», незаменимым, «пуп Земли», неповторимой личностью. Но что горько: сам не живет – и другим не дает; вот потому именно русские говорят про таких – бодливому да Бог рога не дал! Терпят ли такие кого? А самого себя? Для таких только один праздник – день бытия и сталинская конституция 5-го декабря.
Который постарше – уже начинает понимать, что жизнь его далеко не в радость для окружающих. И если раньше спасала молодость и жизненные стремления, то сейчас запас этих жизненных сил иссяк... Что, видел лучшие времена? Что же ты тогда их бросил? Так что живи и не каркай, не раздражай...
После окончания института во Владивосток по направлению – этот мною запланированный «край света» – мне попасть не удалось (свернули программу местных изысканий). И оказался я в Красноярске, поближе.
Через два года, уже на Алтае, мне посветил Бийск с его гравийно-галечными залежами, но пока суд да дело – и попал я уже в другое алтайское место – в южную степную зону, на границе с Казахстаном.
Безлесистая местность меня не устроила, да и силен здесь был отшиб цивилизации, больше царили целинные времена и редко горные; одним словом – край Ойкумены.
Пришли официальные запросы и приглашения. Чукот-золото, мастером. Енисей-золото; Мам-слюда... Остальные – отмел, близко и неправедно. Еще на Урал два гарантированных и пробивных: главным инженером ДОКа (домостроительный комбинат родного города, требуется именно горный инженер, сразу предоставляется 2-х комнатная квартира, через три месяца – трех... новой планировки) и в Миасс, приличный городишко (стараниями жены; с хорошей должностью при минимум и долгости хорошего жилья).
С женой не спорил. Не устраивает жить в шикарном городе с моими родными – значит тогда Миасс.
Тут нам помаяло что-то уже получше и покруче. Искали горного инспектора по нашим краям. «Нашли» нас обоих с женой и дали квартиру новой планировки уже не в горняцком поселке, где жил старый инспектор, а аж в самом крутом горном Златоусте, от долинного Миасса полста километров по горной автомобильной дороге, и там стоит знаменитый указатель Азия – Европа.
Какие времена были! Интересные и толковые. Правильные и не очень. Но когда через наших четыре года нависла какая-то странная и очередная реконструкция горного надзора, жена ринулась искать – не буду ж я, профессионал-горняк, заниматься таким скрежетом – новый вариант шила-на-мыло, новое место под солнцем. Побывала по обмену в Тюмени, в Челябинске, и подконтрольные фирмы предлагали нам неплохие и удобоваримые варианты обмена и новой работы.
Одним словом – убрались мы снова в Азию, за четыре сотни кэ-мэ восточнее от Златоуста. В центр областного города Курган. Устроились, потом сменили работы. В итоге меня начало так «носить» по СССР, что и рад не был.
И тогда моя «старуха» возжелала вернуться на «ридну Украйну».
«Кукиш тебе, — сказал ей ее 36-летний «старик», — я там ничего не забыл на вашей окраине, вот если где-нибудь рядышком, то еще годится – кости обогреть, фрукты не из холодных краев поесть, да и не гутарим мы с дочерью по-иноземному на твоем басурманском».
Нашла же! В центральном Черноземном регионе, с крупнейшим карьером и перспективами... Так что вот, вместо Восточной Украины кукую на Западном Российском рубеже.
Правда, жена уже и здесь все пыталась обменять квартиру – побольше, поширше, получше. Но вперся я, не согласный и правильный...
Чего и вам желаю – здоровья и спокойной жизни.
Быть добру!! Доверьтесь эху...
Я – грузчик
Я грузчик уже с десятилетним стажем и даже чуть поболее – работаю в сети универсальных магазинов почти ровно столько, сколько нахожусь на пенсии. Судьба меня балует, отправив на пенсию уже в пятьдесят лет. Нет, я не военный и не трудовой инвалид – цел, здоров, при памяти, руки и ноги на месте. Стаж мой подваливает под сорок лет. А почему ж так тогда маловато? – спрашиваете вы; правильно; отвечаю, что я сразу после школы затратил целых «очных» пять лет на учебу в институте. Тогда – все правильно? Сходится? Добавлю, что после института я, как в старые былые времена царя Гороха (так говорили и говорят пожилые люди и ветераны от СССР), как толковый рекрут отработал свои 25 с гаком лет на службе ИТР-ом (ИТР – если вы еще не забыли: инженерно-технический работник), но с приличными лычками, будучи как минимум ИТР-ом среднего и выше звена... Что, однако, не давало права и лавров почивать на боярских лавках, в тепле и чиновьих палатах.
Пишу и читаю в этой «сказульке» без кавычек... Согласны? Их и так у нас многовато в нашей долгой, нудной, идейной, дурно пахнущей жизни – мне ли этого не знать за свои 60. Да, и желательно без восклицательных и вопросительных знаков в письме и в жизни. До добра это не доводит. Вы спросили – так я отвечаю. За примером бегать далеко не буду. Сейчас, даже болотники и кирзачи не надевая, пройдусь до младшего братана в Сибири; до старшого, на Урале, конечно, поближе, но он пока не идет под наш прицел. Здорово, брат, вот и я.
Чем мы с ним разнились и что я потом так долго-нудно-обстоятельно-бестолково не удосужился вбить в его голову, так это... Видно, бестолочь. Когда два незримых таланта или непризнанные художник и рассказчик толкутся на одних полях сражения, тогда обычно младший или побежденный бежит с поля боя. Так вот, отвлеклись, или же отвлекся; так вы со мною, или в чем дело?..
Ведь я объяснял, когда зрите что-то неладное, интересное и странное, пусть мозги ваши не с одной извилиной заработают так, чтобы вместо команды на удивление стоял закон на понимание и переваривание. Значит и проще это так: информация выше крыши давит вам в голове, и ваш несчастный лоб начинает морщиться от глаз и бровей все выше и выше. Чуете морщины на лбу, с годами все более похожие на борозды... Это вы и мой младший мудрый брат, а уж ему тоже досталось в жизни приключений. Но вот второй вариант, где прослывешь угрюмым и мудрым человеком, сгоняя раздумья ходом глаз и бровей вниз лица, вот тогда и лоб у вас гладкий в 50, и мнение о вас как о человеке вдумчивом, далеком и умном, главное при этом, чтобы вы не начинали седеть в 20-22 года, под тридцать – немного можно, дальше Бог подаст.
Так я не о том, командиры. Да, я не кадровый офицер, из партизан, но все ж капитан запаса и командир батареи. Почему я так сейчас ко всем обращаюсь – при чем здесь вроде командир, да... Товарищ, господин, мужик, баба, девушка, женщина – und so weiter (нем. – и т.д.) – мы проходили, дай Бог моей памяти, даже я, незряшный, успел от Сталина (ухватил два его последних года) до НЫНЕ. Я, конечно, не говорю слова командир как понятие и действие хунты и власти, но ведь все мы должны быть командирами своего слова, действия, работы, машин, семьи. К политике прилагаемо слово командир? Думается, что нет, политика – не вещь и даже не дело грязное, как таковой ее в космосе нет, там понимается только время и расстояние до предела.
Но ведь я даже не о том. Проработав червонец с копейками лет, я думаю, а есть ли грузчики зубатые?
Был когда-то и я по-ребячьи крылатым, исходил я немало по жизни дорог (а дальше знаете?), сказал Есенин. Я тоже хотел стать ВСЕМИ СРАЗУ, признания и монументов не требовал, овации и рукоплескания буйные потом.
На человека и для человека Ее Величество Природа отпустила странное число зубов – 32 с душераздирающим зубом мудрости. Вот теперь наконец вы поняли, откуда ветер дует, типа бог любит троицу; а если две сразу то еще лучше.
Зубы – великое Благо и богатство человека. Зубы. Зубы и ногти – вот и все вооружение мохноногого нашего предка. Акула ведь тоже вооружена, да и зубов у ней побольше. Однако выжил в этом дремучем мире только человек, Акула и глупая Обезьяна. Н-да, и еще Грузчик, ибо от Начала Мира все равно что-то и как-то требовалось таскать куда-то, определяемое Аксиомой как из п. А в п. Б.
Вот я и грузчик, конечно уже старый, с усами и седой, но почему ж я тогда на старость лет так возжелал сладкого – не брезгую ложками свое же варенье, шоколад, шоколадные конфеты. Говорят, что сладкое активирует творчество мозга, а мясное только восстанавливает активно-мышечный организм человека. Свой организм, этого поганца-потребителя, я уважаю, куда денешься – пихаю туда, спасибо моим домочадцам, дешевое мясо – курицу, колбасу, пельмени. Почему именно это? Да и то поймете, как я потом. В свои три первых года жизни я переел сладкого, и с чего бы это и как, после войны-то; был толстым и неуклюжим, мои чуть постарше сестра и брат отмахивались от меня, как от дурной обузы, но я пыхтел за ними. Потом долго мой организм не хотел и не желал сладкого – уже мой мозг управлял им, а не обратно; я рос, организм требовал и орал «давай калории», а мозг мой нарастал и спокойно диктовал свои условия. Так и должно быть – в двух ипостасях должен человек быть, хоть брюхо и мысли – понятие разно.
С годами юношескими и студенческими я накачал себя гирями, боксом, борьбой, футболом, водными процедурами. Я уже становился моржом, пловцом (благо озеро рядом и заплыть в октябре иль летом не грех); озеро глубокое, горно-уральское, слабаков не любит и может враз скрутить своими холодными подводными тисками.
Из толстого с сахарной коркой на голове я превратился в стройного петровского гвардейца («брать в мою гвардию не ниже сажени ростом, быстрых к атаке и не тупых»). Задолго до школы я был в поселковой библиотеке постоянным ходоком, картинок в книжках не любил, начал уважать прилично-толстые книжки, и потом с годами свалился на приключения, историю, фантастику (маюсь с тех пор: ежедневная минимальная норма в день – 50-70 страниц, газеты побоку, а телевизор только в свободное время от работы, дачи и забот).
Но ведь живем. Дружно и весело. Мой мозг и мой организм. Надо тебе, скотина, таблетки и пилюли – значит, дадим, только где ж ты так, уважаемый организм мой, успел надорваться и запакоститься?
Смотри, ты ж, организм, умудрился угробить своему хозяину печень, легкие... Хорошо хоть не испортил желудок. «А ты бы не брякал, мозги твои куриные, поменьше бы его совал на Сахалин, в Сибирь, на Алтай, Урал и хрен куда». «Но-но...»
Каждый зубы показывает!
Когда я измотанный и измочаленный появился в своей холодной трехкомнатной квартире на Алтае, жена меня ошарашила: «У дочери зубы режутся».
Да уже не те, молочные, настоящие.
А зубы-то, зубы? Да что там зуб, как в том анекдоте. Как уж бедолага ни старался выдрать себе больной зуб, а врачей этих самых, коновалов зубодробильных, до паники не терпел – за ручку дверную привязывал, ручка оторвалась, пришлось сыну малолетнему ненароком оплеуху отвесить; гирю сверху подвешивал – для зуба, уронить его вниз, в звериную ловушку, пол конечно потом проломил.
—Так где же твой зуб? — уныло вопрошал его знакомый дантист, матерый зубоврачеватель с лошадиной чеховской фамилией.
— Так я же привязал его по твоему мудрому совету к железнодорожному составу.
— Ну...
— Вот тебе и ну. Состав вдребезги; да ты не волнуйся, сработало: мне потом ентот зуб начальник станции выдробил.
Чем отличается зубатый грузчик от зубатого ИТР-а? А и есть ли различие меж такими классами?
Чем отличается грузчик-пенсионер с высшим техническим образованием от современного менеджера? Что они выиграли в этой схватке или что еще по старинке пытаются выиграть...
Бог их рассудит, которого и нет там.
Да не нами сказано: спасение утопающего – дело рук самого утопающего.
Ну а зубы-то где?.. В Караганде.
На верхней полке, где трясутся волки.
Пардон, я тогда не был французом в свои 20 лет. Это я сейчас могу с уверенностью сказать: «Мне глубоко плевать, какие там цветы...»
И все равно тоскливо... Опять же, жизнь пройти – не поле перейти. А вы когда-нибудь видели большую степь с «перекати-поле»... Это здорово! Когда приходят миражи в Казахстане, когда вас явит северное сияние – это ли не здорово? Когда вас грохнет под минус пятьдесят в Чите, когда вы в минус 44 провалитесь в унтах в северной протоке – это ли не здорово! Когда вас завалит до обморока плюс 45 в Балхаше – как оно?
И когда днями, неделями и месяцами надо вставать по утрам КАЖДЫЙ день в 4:30 и удремать в 2:30 ночи... Это называлось тогда начальник изыскательской партии.
Да, за моим бортом несколько лет двух экспедиций. Так я их и зову: времена Э-I и Э-II, за ними стоят два года моей жизни и плюс еще четыре беспросветных.
Зубы я еще тогда показывал.
Научился. Обучили. Садили – но не посадили. Мечтал для начала быть нач. партии – не дали; но потом стал.
Уходящий пусть уходит. Они ушли, пришло время мое. Не горжусь, не хвастаюсь. Я свое отмотал... Стал грузчиком. Ну и что?
А за стеною так звонко,
Так отчетливо слышно,
Будто в бой поднимают
Последних солдат.
ЕСЕНИН
Я плохо понимаю самих поэтов, но их стихи должен и вынужден уважать, иначе я никто.
Грузчик всегда должен быть пьяным и зубастым... Логично и неправильно! Не берите бича синего в свои правила... плохо. Но как их отгадать?
Работать на хозяина вольному человеку? Но, говорят, хозяин-барин.
Вы что-то поняли, этот бред с многоточиями...
А я вот не хочу, не смогу, не могу ломать себя, горбатого после этих фокусов 90-х годов.
Извините, я в том времени оставил более чем своего здоровья. Что прикажете делать?
Рвать тельняшку! Где вы, мужики, старая гвардия и опора СССР?
Дед погиб под Ленинградом; второй дед убит кулаками, тестя у меня не было.
Есть, есть зуб на других и многих, только зря ты ополчился на весь мир, грузчик.
— А что, бабушка не говорила тебе: учись, внучок, в люди выбьешься.
Мне не говорили, не успели. Мудрые деды вовремя погибли, а мужественные бабки... Не довели дело до конца.
Ну, в общем, когда мой борзой предок пришел оттуда, откуда стесняются ныне приходить некоторые... Что уж тут добавить.
Теперь про 32 + 1. Какие зубы и плюс еще другое? Рвет мышцы как на нищей паперти, по ночам не спим... Какие тут зубы, если уже их нет, а организм со всеми его печень, легкие, селезенка, почки еще есть. Но это уже неплохо... А мотор, мотор работает? Да пошли вы?!
А зубы-то, зубы?
А вот тут уж как в дурном анекдоте.
Это как?
Перестаньте какать, не детвора.
И вспомните: рабов как набирали толковых, мышцы и зубы смотрели их, правильно? Вот тогда и годится, тогда и пойдет. Что пойдет – и сейчас понятно.
Так вот, если грузчик остался при памяти и здоровье (кстати, это для него обязательно), при зубах (а то же?)...
Понятия мужицкие просто так не выбьешь (хотя как сказать). Память его неблагодарную можно зашибить, но остальное сомнительно. Вот так.
Мужик же самый тупоголовый.
Ладно, чую, призабыл про себя.
Ну а зубы?
— А там крах, командир. Зубы – это спорт молодежный... Помнишь, зубами поднимал в студентах сотню килограмм, своей шеей шевелил вправо-влево, вверх-вниз...
... Я когда, редко, приезжал до дома, мать ворчала «Навез тут мне!». Н-да, полы мыть и переставлять гири – занятие не из приятных.
Зубы-то что?
А ничего. Жрать меньше надо:
«Зубы – это вещь прекрасная; только с годами начинаешь понимать «их». Они же как, зубы, живут сами по себе, 32 в строй – и ладно. Но вот когда портишь их по молодости – может, простится: в табуретку нагружаешь много гирь и рвешь их шеей вверх-вниз... Видно поэтому морда у меня широкая и хмурая, ну и шея точно не стала бычьей».
Где зубы? Я спрашиваю себя. А нет их... Тю-тю, как говорила мне дочь шестилетняя... Но это ей простительно, такую крамолу лепить в детстве. Я-то чем буду отчитываться перед самим собой и иже до кучи?
А нечем! Спортивная зубатая жизнь молодняка – зубы и гири; две северные цинги – не хуже Америго Веспуччи на моем пути гремучем. Мои буровики «потом» стали мудрые: набирали запас чеснока и темные противосолнечные очки. Понятно для чего? От чеснока и портянок стояла вонь несусветная – но кто из нас ее чуял... Вот беду всяко-разную чуяли и пытались предотвратить. Когда спасали скопом заблудшие наши бригады в минус 40. И все же когда чистишь зубы при минусовой температуре холодной водой – малоприятно. Я еще понимаю, когда лицо сполоснешь льдом с похмелья...
Так этого достаточно? Спорт, цинга, ранняя радиация – и к 60 уже нет этих самых зубов... Не могу ж я командовать, не открыв рта и не «порвав» кому-то пасть... Чем рвать? Мне, грузчику, за 60, один зуб в два ряда – ну не смешно ли показывать свое «Я» и свою оторопь, и не поздно ли?
Ну и ладно с вами! Нет зубов – нет проблем.
Ну и? Оно вроде бы и надо – зубы, чтоб золотом блестели и все 32 были на месте, тогда бы и усы скобкой на угрюмой физиономии не требовались.
Вот только беда: древний Экклезиаст сказал много-много лет назад: «Умножающий знания умножает скорбь».
Но нет зубов – обвешиваюсь крутыми усами.
Я пока закончил. Зубатьтесь дальше сами.
Грузчик пока еще жив.
Я не из портовых грузчиков и не знаменитый биндюжник, я – грузчик обыкновенного магазина, который (как он сам хочет думать и мечтает) ни за что и ни за кого не отвечает на работе, находясь в своем пути в начале конца.
Будни нашего Магазина
Я вам, конечно, не скажу про всю Одессу, вся Одесса очень велика. Но про «наш» есть чудное и интересное: не захочешь – посмеешься, захочешь – язык проглотишь от хохм и удали покупателей-клиентов, поставщиков и потребителей наших, да храни их господь (и поболее – товар!).
Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны. Что ж, и то правда.
Наши – то же! – знают себе цену. Эка невидаль: умняк на рожу, улыбайся, главное не хами ИМ – и потянешь на «отл» (а как иногда охота в морду пьяному покупателю ночью...). Но да на то есть старо-древний и умный кодекс про потребителя, который вместе с потреблением не брезгует вашим терпением, нервами и здоровьем, и вот перед этим фактом-фактором пасуют почему-то все – продавцы и благопристойные покупатели, но отнюдь никак не другие...
Открыл новое?
Или вопрос сей давно закрыт?
Да ни то и ни другое.
Ну а третьего не дано.
Да и не собираюсь я вам ничего нового открывать.
А зачем тогда «пинаешь» дверь?
А... Охота! Охота, которая пуще неволи. На то она и охота!
Служебные будни и ужасы Второго магазина
* — Сегодня у нас какое? 28-е?? А что же «мой» про аванс ни слова... Получает его 25-го. А сегодня? Аванс надо в семью приносить, а не куда-то относить!
— Алло, дорогой, что там у нас...
— Перечислили, не волнуйся, уже узнавал. Просто не снимал с карточки, не успевал.
* — Слушай, мама (дело было зимой, когда день ох как короток)! А что это ты меня по ночам в детский садик таскаешь... Днем нельзя? Твое утро и твой вечер темные и зябкие.
* Заходит женщина в магазин, не отходя от кассы разворачивает список-свиток будущих покупок, интересуется: «1,5-литровая Пепси, вино 1 л. В картонной упаковке... Сказали люди добрые, что только у вас!» — «Кончилось... Кончились 8-е Марта и люди добрые...»
* — Мама, я есть хочу! Скоро будем кушать?
— Потерпи, сынок, видишь – магазин закончился.
— Ну, тогда я поскакал, может что дадут?
* Продавщица, утром, после ночной смены надевая сапоги: «Усохли, что ли? Иль соль съела зимняя? Послушала совета, подсушила за ночь! Да и какие-то еще сырые». Ей: «Да уймись ты! И сними сапоги своей сменщицы».
* — Ну ты?!! — Я это, я. — Ну ты! Чё не звонишь? — Дык не прорвешься к тебе по сотовому.
* — Ой, кофе украли! Выпили! Ну, явно грузчик... Да ты пей, пей... Я свое, оказывается, еще не успела навести. Дергают, покурить не дадут...
* Да я еще толком и не курила... Грузчик тут натаскал в зал! Только сейчас расставила.
* Грузчик везет товар в зал, как и положено по утрам... Где что не хватает или «опоздали» за ночь – соки, водку, пиво, продукты и коробки. «А что это ты везешь? Нам не надо... все есть!» — начинается утренняя истерика «отгадай и догадайся» продавцов, у которых нюх за десять метров... до «черного воронка-телеги».
* Насчет поставщиков – вопрос отдельный. Чем и что – наш клиент-покупатель... Что будет пить и чем закусывать? Хлеб и молоко – далеко не копеечное решение вопроса... Что пить-то будем?.. С утра.
* Как сказали наши великие: «Сюда не зарастет народная тропа...» И то правда – в туалет и покурить около эстакады – все кому большая лень не-ту-да.
* Так я ж обедаю! — дым от сигареты вокруг. — А ты-то что притащилась из зала от кассы? А, подруга...
* Говорят, больше чем по одному в «курилке» и столовке не собираться, правда? А то! Двое – это уже неуправляемая толпа; да не я это сказала – Николай II.
* — Врагу не сдается наш гордый Варяг... Пощады никто не желает. — Ну, утоп да и утоп.
Новые рукописи
- Берегите мужчин! Автор: Шелейкова Нина Жанр: Публицистика
- Утки Автор: Виктор Верин Жанр: Проза
- Долина царей Автор: Крюкова Елена Жанр: Проза
Книжные новинки
- Владимиров А.А. "Формирование микрогеометрии поверхности при вибрационном точении" Автор: Информационная служба РОСА Жанр: Книги РОСА
- Истина Рая Автор: Карханина Валентина Жанр: Книги РОСА
- Монография О.А. Лазуткиной о концепция человека в циклах рассказов Германа Гессе Автор: Информационная служба РОСА Жанр: Книги РОСА
 Видеогалерея
Видеогалерея Фотогалерея
Фотогалерея Аудиогалерея
Аудиогалерея Магазин
Магазин