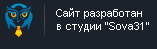РЕКВИЕМ ДЕТСТВУ
Дата: 7 Мая 2014 Автор: Новичихин Борис
1.
Оркестр играл «Прощание славянки». Уже несколько дней наши воинские части шли с запада в сторону Воронежа. На селе поговаривали об отступлении и скорой оккупации. Но как-то особенно остро запахло несчастьем с момента этой торжественной невеселой мелодии.
Войска двигались по большаку близ нашего планта. Я с соседскими ребятишками бегал смотреть на редкое зрелище. Но остановка грузовика, перевозившего музыкантов в открытом кузове была недолгой. Оркестр удалился, а я с ребятами задержался, с интересом наблюдая за передвижением воинских частей и техники.
- Зачем наши отступают? – возмущался Ерка Ерошкин, - вооружены до зубов, даже против танков ружья несут, а отсутпают…
- А нас немцам на съедение оставляют, - подхватил Вовка Чебуркин, - совесть у них есть?
- Цыц, мелюзга! – авторитетно вступил в разговор Колька Тюрин, - что вы понимаете? Чтобы врага победить, надо заманить его в ловушку… Читали про французов в двенадцатом году?
- Не… Нет… Не читали, - послышались неуверенные голоса.
- То-то! – твердо сказал Колька, - надо знать историю. Кутузов французам даже Москву отдал, а через год погнал их аж до Парижа. А наши дальше Дона не пойдут. Закрепятся на левом берегу, а Воронеж не отдадут. Зимой же погонят немцев восвояси. Вот увидите!..
Возразить Кольке было нечем, и мы молчали. Потом Ерка вспомнил про оркестр?
- Лучше бы им дали винтовки и автоматы. Была бы польза! А трубами немца не испугаешь…
- Что ты понимаешь, Цуцик? Ты видел, как ходят в психическую атаку?
Спорить с Колькой было бесполезно. Не только потому, что был он старше любого из нас на два-три года. Он много знал и все мы против него были просто невежды.
- А слышал, что играл оркестр? То-то! Это был марш «Прощание славянки». А почему играли этот, а не другой марш? Не знаешь? То-то! Они хотели вам дуракам сказать, что оставляют нас ненадолго и скоро вернутся.
- Мало играли, - сожалел Вовка, - я уже забыл музыку.
- Приходите вечером ко мне во двор. Я сыграю вам марш на гармошке, - пригласил всех Колька.
2.
Дома я застал тётю Фросю с Толиком. Между нею и матерью шел какой-то серьезный разговор.
- Куда я с коровой и двумя детьми, - говорила мать. – У тебя один Толик и тот ровесник Бориса. Да и деньги по аттестату какие-никакие, а у вас будут. А я с трехлетним Юркой как справлюсь? Лучше уж здесь помереть, чем идти на погибель не весть куда.
- Корову можно продать…
- Да, кто ж её сейчас купит?.. И как мы без коровы? Ни молока, ни картошки, ни денег, помрем с голоду, как пить дать.
- Борис, ты куда пропал? – переключилась на меня мать, - про Милку совсем забыл? Весь день взаперти – голодная…
Я удалился. Сказал ждавшему во дворе Толику: «Может, завтра приду» и пошел выпускать из сарая корову. В тот день возвратились мы с пастбища раньше обычного. Мать была недовольна. Я постарался не попадаться ей на глаза и при первых звуках гармошки за дорогой побежал к Кольке.
Он сидел на пеньке за покосившимся плетнем своего двора. На коленях – видавшая виды, старая хромка Колька старательно восстанавливал мелодию «… славянки», но получалось как-то не так.
- Мне бы трубу из оркестра… - виновато произнес он, увидя меня, - ну ничего, щас отдохну, а завтра освою, будь я не Колькой Тюриным.
Он привычно перешел на веселые нотки и заиграл «Мотаню». Стали собираться ребятишки. Ерка пришел с каким-то незнакомым пацаном. Потом подошел Вовка Чебуркин. Из соседнего двора неожиданно выпорхнула девчонка. Она как ветер ворвалась в нашу компанию. Как солнце обожгла меня своими лучистыми глазами. Голова моя закружилась, я сел на примятую траву и неотрывно смотрел в её сторону. Я забыл, зачем пришел к Кольке. С этого момента я перестал видеть вокруг. Не было ни Кольки, ни других ребят.
Коля, Коля на гармони
Ты сыграй, а я спляшу
Отложить дела на завтра
Мамку Веру попрошу.
С появлением девчонки Колька заиграл ещё веселее. Было так или мне привиделось, что Колька горел глазами, взирая на Настю, и пальцы его двигались по клавишам автоматом.
«Если бы его заставить играть что-то другое, а не привычную Мотаню, он наверняка бы сбился», - подумал тогда я. Потом долго пытался воскресить в памяти: «Кто же первый из ребят произнес имя «Настя»? Но так и не вспомнил. Оно появилось вместе с нею. Вроде и другого быть не могло. Узнать это имя было проще простого: каждый паренек в этот вечер повторял его не один раз.
Необыкновенным было это имя. Но еще необычнее была изумительная, огромная Настина коса ниже пояса. Да я вся её девичья фигура, фигура уже сформировавшейся девушки. На вид была она ровесницей Кольки. Ростом я оказался выше неё. Но Колька почему-то обзывал меня «жердью». Хотя его я в росте пока не обошел.
Остаток этого вечера прошел как в тумане. Час ли два слушал я Колькину музыку и Настины частушки? Кажется, он что-то ещё играл. Кажется, и Настя что-то ещё пела. Я покинул их только в сумерках, когда до меня дошли настойчивые призывы матери, которая меня давно искала.
3.
- Приходила тетя Фрося, - сообщила мать, - опять уговаривала эвакуироваться. Я окончательно решила не уходить. Разве, что куда-нибудь поблизости на самое смутное время. Как ты думаешь, можно ли нам всё оставить: и корову и курочек? Всё оставить, а самим потом зубами щелкать…
Я соглашался, тем более появился у меня в этот день ещё один повод не покидать родные места.
На следующий день по селу поползли слухи, что на станции Курбатово жгут зерно. Курбачи, все у кого ноги ходят, тащат, сколько могут, делают запасы. Я, как обычно, весь день был на выгоне с Милкой. Возвратившись к исходу дня, застал дома веселую компанию. В гостях у нас впервые были Маня с Танькой, внесшие разнообразие в Юркину скучную жизнь. Играли в догонялки, и трехлетний Юрка был ключевой фигуркой. Он не только сам развлекался, но и развлекал всех. Даже уставшая мать оживилась, глядя на то, как Юрка постоянно закатывается от хохота по поводу и без повода. Догнал и поймал Таньку – захохотал. Не догнал и не поймал никого – захохотал ещё звонче и радостней. А мне казалось: чему тут радоваться?
- Тётя Паша ушла в Курбатово, - сообщила мать, - девочек оставила у нас, а Олю отнесла к Насте. Ты им не мешай, пусть играют, я корову подою.
Потом все ужинали молоком, которого Милка наша давала вдоволь. Его всегда и на все хватало, кроме сметаны и масла. Потому что молоко было настолько постным, что походило на снятое.
Тётя Паша возвратилась поздно. Рассказывала:
- Все склады с хлебом горят – не подступишься. Зерно подожгли со всех сторон. А там где не сильно горит – охрана не допускает. Я говорю одному: «Разве я для немцев набираю. Трое детей – полгода хлеба не видели. Забыли какой он с виду… Разрешишь…» Пуда два набрала…
- Как же ты дотащила?! – удивлялась мать. И я тоже удивлялся. Тётя Паша была маленькой худенькой женщиной. Как говорят, кожа да кости.
После поджога зерна ни у кого не осталось сомнения: наши решили оставить местность и скоро здесь будут фашисты.
В эти дни, когда властям было уже не до нас, а немцы ещё не пришли, многим, особенно курбачам удалось сделать немалые запасы. Они пригодились в тяжелое время оккупации и многих спасли от голода. И не только запасшихся, но и тех, кто не имел паленого зерна, но мог предложить что-то в обмен. Натуральный обмен стал в почете, деньги потеряли ценность. Самой ценной оказалась соль, которую нынче назвали бы валютой, а тогда бедные женщины называли ласково – «солнышко». Хлеб, зерно, мука любого происхождения оставались в самом большом почете. От запаха дыма избавиться было невозможно. Но на ценность такого хлеба дым не мог никак повлиять. Другого просто не было.
4.
На следующий день тётя Фрося прибежала днем. Сообщила, что побывала в ближайшем хуторе Гнилом у тетки Маркуты – дальней нашей родственницы и договорилась пожить у неё на время оккупации или хотя бы пока всё успокоится.
- Это дело другое, - согласилась мать, - в Гнилой мы и корову возьмем и картошку на первый случай, всё с голоду не помрем.
Наметили уходить завтра. Но такой скорый отход как-то сам собой не получился. С утра мать решила «напоследок покормить курочек». Было их всего три без петуха. Но «зёрнышка» негде было взять, и она готовила для них мешанку из мятой картошки с рубленой крапивой. Потом для нас кашу варила. Рано нас с Юркой будить не стала. Дала выспаться:
- Неизвестно, что нас ждет на новом месте…
Да и дела со сборами в дорогу не закончила. Мне же наказала после завтрака попасти корову.
- Только на выгон не гони, я туда не закричусь. Дальше оврага не уходи. Я потом позову, - наказала она.
Я рад был такому наказу. Светил шанс увидеть Настю, которая часто посла свою козочку в овраге. Но Настя так и не появилась. Мать со сборами затянула до обеда. Позвала, когда солнце забралось высоко и жарко стало не только мне, но и Милке, которую к тому, же стали докучать мухи.
Когда мы с Милкой возвратились, мать усадила меня и Юрку за стол. Перед нами был редкий, можно сказать, царский обед: по два вареных яйца, по большому куску хлеба и кружке молока.
Быстро уничтожив свою долю, я задремал прямо за столом. Видно, изрядно разморило июньское солнце, да и за столом через окно оно продолжала меня допекать. Очнулся от того, что вокруг всё тряслось и дрожало. Непривычный адский грохот и шум, звенели стекла окон. А мать сильно трясла меня за плечо:
- Борис, очнись! Быстро побежали в бомбоубежище! Некогда спать! Скорей, скорей…
Она подхватила Юрку на руки и за двери… Я за ней. Через дорогу перебежал, опередив их на несколько метров. Спрыгнув в бомбоубежище, увидел многих наших соседей и… Настю. Я сразу преобразился. Страх тут же исчез и больше не появлялся во все время бомбежки.
Убежище было открытым. Это был обычный окоп, чуть выше моего роста. Его вырыли женщины и дети при подготовке к бомбежкам. Бабы скрывались в нем, сидя на земле и на корточках.
Бомбежка вскоре прекратилась, и мы увидели в небе над собою два самолета: один большой был немецким бомбардировщиком с черными крестами на корпусе, второй – в два раза меньше, со звездочками – наш ястребок. Наш заходил то сбоку, то сзади врага, но тому удавалось выворачиваться и не допускать атаки. Однако ястребок вскоре вытеснил фашиста из воздушного пространства над нашими головами, отогнал его от села, и мы их больше не видели.
Осмелевшие бабы и дети постепенно разбрелись по своим избам. В тот же день стало известно большинство сельских потерь. Первое известие принесла бабка Дуня. Её надрывный голос послышался ещё из-за нашего порога:
- Ой – ёй – ёй, люди добрые, - голосила она, - щё делать-та, как жить-та теперя. Половина хаты, как корова языком слизала. Как мы с Катериной живы, остались один Бог знаить, - продолжала она, уже переступив порог хаты. – Маруся, милая, Танюшку убило Натальину, ровесницу твоего Борьки.
- Ох – хо-хо! – вздохнула мать. - Как же теперь Наталья?
- Одна наташка осталась. Фёдор на хронте, третий месяц нету…
Позже узнали о гибели ещё и Лидии Ивановны – жены школьного учителя, который также был в армии. Из сельчан, будто, кто-то ещё был ранен.
У военных потерь не было. Оставшиеся в селе немногочисленные войска были размещены в лозниках. Видимо вражеский самолет или самолеты не заметили их с воздуха. Мать, непуганая бомбежкой в тот день отменила эвакуацию и перенесла её на завтра.
5.
Встали и вышли рано. Мать вела корову на поводу за веревку, обмотанную на рогах. Я с хворостиной должен был погонять Милку и следить за Юркой и грузом. На бедной корове была совсем немалая ноша. С одного боку почти полный мешок картошки, с другого – постель и ещё какие-то вещи и сумки. Надо всем этим верхом возвышался Юрка. Ему это, видно, доставляло немалое удовольствие. Но мать всю дорогу напоминала, чтоб я не забывал за ним следить: «Как бы он не слетел с коровы».
Милка с большой неохотой шла в неизведанные края. Груз также ей явно не нравился. Мать натягивала веревку, а корова часто совсем останавливалась и мычала, выражая свое недовольство. Для меня Милка не была чужой. Я всегда её жалел, редко применяя хворостину. Да и, по сути, не бил её никогда, а больше пугал, размахивая прутом в воздухе, едва прикасаясь к животине. Вдоль железнодорожной дороги во множестве зеленела трава, и это тоже останавливало нас с коровой.
Гнилой был лесом, ближайшим к селу. Название ему дали пни, которые во множестве находились здесь после порубки, и многие из них гнили. Жители села, что жили близ белой горы, запасались дровами на зимы из Гнилого. Таким образом, превратили деревья в низкорослые кустарники. Они узкой полосой вдоль лощины тянулись на несколько километров к хутору, располагавшемуся в конце леса и в отдалении от села. В хуторе было всего три двора. Один из них – бабки Марфы, стоял у самого леса, а два других поодаль, вдоль заросшей травой хуторской дороги, шедшей в соседнее Нижне-Турово.
Лес возле хутора был совсем не гнилым. Здесь росли высокие дубы, осины и другие деревья. Порубки встречались нечасто. На полянах хватало травы. И это очень обрадовало нас с Милкой. При таком обилии корова вряд ли будет бегать и у меня будет много времени для других дел.
Тётя Фрося с Толиком ждали нас уже второй день. Начались расспросы: что да как? Они ушли ещё до бомбежки села.
Толик поманил меня во двор, мы подошли к сараю, где хрюкал поросенок. Толик приоткрыл дверь и вытащил из темного угла ту самую сбрую, которую использовал ещё на селе. Он был большим выдумщиком. Связав несколько ремней и веревок, сделал из них сбрую, похожую на ту, чем запрягают лошадей. Попробовал запрячь козу. Но упряжь оказалась маловатой. Тогда он запряг поросенка. Оседлав его, он прокатился от дому у Белой горы почти до колодца в низине, куда люди ходили за водой. Поросенок тогда его сбросил, возвратился домой, где в сбруе увидела его хозяйка. Она устроила скандал тёте Фросе. Не знаю, как удалось Толику снять и запрятать сбрую. Но её, точно её я увидел на хуторе.
Вместе со сбруей лежало и другое изобретение Толика: деревянный пистолет с дулом из медной трубки. Толик сказал, что он заряжен. Но чем заряжен и как это удалось ему, пояснять не стал. Он тут же предложил испытать пистолет, удалившись от дому в лес. Я согласился, и мы вскоре оказались в сотне метрах от нашего нового жилья.
Толик долго возился, зажигая спичкой порох в дуле пистолета. Наконец, это ему удалось. Он прицелился в ближайшее дерево.
- Отойди в сторону, - сказал мне.
Но трубка, прикрученная проволокой к корпусу, оторвалась и полетела в обратную сторону от цели. Она влепилась загнутым концом в живот Толику, оставив пятно на майке. Под майкой остался красный прямоугольник на животе Толика. Несмотря на реальный результат, я не воспринял всерьез это оружие и мечтал о другом, более серьезном, настоящем автомате.
Дня через два после нашего новоселья на хутор дошел слух, что село заняли фашисты.
- Хорошо, что мы вовремя ушли, - говорила тётя Фрося.
- А если сюда придут? – отозвалась мать. – Что мы скажем, если спросят: зачем мы здесь?
- Что им немцам тут делать?
Но через неделю хуторяне увидели немецких мотоциклистов. Они проехали не останавливаясь. Но внесли большую тревогу во взрослом мире. Даже бабка Марфа забеспокоилась:
- А что если фрицы начнут пытать, что за люди тут живут?
Мать набралась смелости и решила пойти в разведку на село. Без нас и без коровы, это было проще. Ушла она в конце дня, рассчитывая добраться в сумерках, заночевать дома или у бабки Дуни, а утром вернуться назад.
6.
Эту ночь, всю ночь напролёт, я не сомкнул глаз. Не то, чтобы сильно переживал за мать, ушедшую в занятое фашистами село… Да волновался. Но не так уж очень. Свою родительницу я считал очень сильной и боевой женщиной. А главное практичной. Всегда реально, здраво смотревшую на жизнь. К тому же ей всегда хватало ума и осторожности выходить без особых потерь из самых сложных ситуаций. А их было ой как много в военные года… Больше всего я переживал за Настю. «Как там она в оккупированном селе, - думал я. – Если мы здесь в Гнилом, где не было немцев, постоянно опасались за свою жизнь, как же ей там, в селе занятом фашистами. Немцы, наверно, всюду и на дорогах и во дворах, и в хатах. И требования свои предъявляют».
Я много слышал о зверствах фашистов на оккупированных территориях. Репродукторы ещё в начале войны у нас отобрали. Но пропаганда наша работала. И через газеты, и через почтальонов слухами земля полнилась. Я переживал сильно и за девочек маню и Таню и за своих друзей Кольку и Ерку, которых оставил на селе. Но это были не такие сильные переживания, как за Настю.
Ещё всю эту ночь мне не давали покоя её прикосновения. Я просто ощущал на своих руках, шее и пояснице её нежные девичьи руки. Воспоминания были ещё свежими и настолько реальными, что спустя десять дней от её прикосновений сильно кружилась голова.
Во второй половине дня, после бомбежки я побежал к девчонкам сообщить о нашем уходе из села. Неизвестно надолго ли такое расставание. Как часто случалось и раньше, их мамки с Олькой дома не было. Манька с Танькой сидели в сенях возле открытого погреба, а перед ними лежал металлический противень, заполненный румяной аппетитной картошкой. Я был приглашен к трапезе. Ел с удовольствием, так как такой деликатес случилось испробовать впервые. Мать всегда готовила картошку с приправой: тушеную или пюре с молоком, даже если больше ничего в доме не было. А тут цельная, крупная, румяная горячая картошка!
Девочки о чем-то болтали. То одна, то другая задавали мне какие-то нелепые вопросы о школе, на которые не находил ответа, ибо они совсем не касались учебы. Увлекшись картошкой, я на мгновенье забыл об открытом погребе за спиной. Приподнял ноги и полетел вниз головой. Как появилась Настя, не помню, так как на несколько минут потерял сознание. Когда очнулся, Настя была уже рядом в погребе и пыталась вытащить меня на поверхность.
- Настя? – произнёс удивленно и замер от блаженства, чувствуя её руки.
Она помогла мне вылезть из погреба
- Ничего не ушиб? - спросила.
- Всё в порядке, - ответил я по-взрослому.
- Ну и до свидания, - и тут же направилась к выходу.
- Подожди, Насть, - поспешил я её остановить, - мы завтра уходим в Гнилой… На долго ли не знаю…
- А нам некуда уходить. Будь, что будет. Авось немец не тронет.
И потрепав девчонок по стриженым головкам, ушла.
- Зачем приходила Настя? – спросил я у сестренок.
- К мамке по делам, - ответила Маня.
Потом я узнал, что к тёте Паше Настя заходила часто. Была она ей будто племянницей.
«Как раньше я не обратил на это внимания, мог бы встречаться с нею почаще», - таковы были мои запоздалые сожаления.
Я думал о ней эту ночь. Я вспоминал её длинную, прекрасную косу с желтой лентой, вплетенной в самом низу. Но больше всего вспоминал, точнее, ощущал её теплые нежные руки, касавшиеся моих рук, лица и шеи. Я не просто вспоминал. Временами я реально, наяву ощущал их прикосновение и тепло. Так были они милы и приятны, что готов был отдать за них всё, что имел… И это было так глупо: ничего-то я тогда не имел.
Конечно, я вспоминал эту ночь и о матери. Но больше и с нетерпением ожидал её возвращения из-за Насти. Был уверен, что мать обязательно хоть что-нибудь да расскажет о ней.
- В хату нашу никто не заходил, замок не тронут, - рассказывала она по возвращении, - а по картошнику будто черти плясали. Возвратимся, не знать, что есть будем, - с беспокойством рассказывала мать, рано возвратившись на хутор. – Паша с девчонками сидит полуголодная. Кроме картошки ничего не осталось. И я не знаю чем ей помочь.
- А зерно? - спросил я, - она же недавно со станции принесла?
- Сколько того зерна! Это за четыре километра тащить тяжело. А поесть можно. Тем более девочкам одевать нечего: она больше половины на одежонку обменяла.
- Куришек двух немцы половили и съели, - продолжала мать. – Остались наседка с кошкой. И те целы, потому что на чердаке в сене попрятались… Девочки про тебя спрашивали. Особенно Маня допытывалась, что ты делаешь на хуторе, с кем играешь.
Я не отходил от матери, всё ждал вестей о Насте.
- Возле клуба на площади повесили одного пленного, из сельских пока никого не тронули. Ольгу Ивановну взяли переводчицей в комендатуру. Тётка Дуня рассказала, что Николай Иванча назначили старостой. Теперь будет выслуживаться.
Я всё ждал, ждал… И так и не дождался ни одного слова о Насте.
На взрослом совете решили пока не возвращаться. Но немцы через несколько дней снова появились. Опять проездом, но теперь уж на грузовике, командой семь человек. И это снова вызвало тревогу.
Мать стала настаивать на возвращении. Побывав в Верхнее-Турове, она поняла, что без особой причины фашисты пока никого не трогают. Возможно избежать с ними столкновений. Здесь же, в Гнилом, мы вызывали явное подозрение. Но тётя Фрося возвращаться не хотела. Отложили ещё на некоторое время.
Так продолжалось до тех пор, пока тётя Фрося не столкнулась с фашистами вплотную. Легковой автомобиль остановился возле двора. Из него вышел гитлеровец с автоматом. Приблизившись ко двору, он увидел тётю Фросю и показывая на корову требовательно произнес:
- Мле-ко!
Тётя Фрося в панике бросилась в хату к моей матери и бабке Марфе.
- Немцы, - дрожа от страха, произнесла она, – требуют молока. Мать немедля устремилась к погребу, вытащила корчажку с молоком и попросила бабку Марфу отнести немцу. Сама оказаться перед фашистом побоялась. В свои тридцать она выглядела ещё привлекательной. И если не знала, то догадывалась об этом. Бабка поднесла корчажку фашисту. Тот знаками показал, что надо взять ещё и кружку и отнести молоко к машине.
На другой день мы возвращались в село. Несмотря на то, что там были немцы, радость встречи с Настей опьяняла. Милка без картошки шла налегке, тоже торопилась, разделяя со мной радость возвращения. Юрку на тележке поверх постели везла тётя Фрося. Ей помогал Толик. Не доходя до спуска в село, тётя Фрося с Толиком свернули направо, к Белой горе. А Юрка, увидев село, поскакал сам.
Когда село уже всё было на виду, в небе появился наш «кукурузник». Сделав два круга над нами, он помахал крыльями и удалился в сторону Воронежа. До дому мы добрались без приключений.
В тот же день я увидел Настю, когда пас Милку у оврага. Она вышла из оврага с козочкой.
- Где вы пропадали две недели? – спросила. Я так рад был встрече, что не стал ей напоминать о том блаженном дне, когда перед нашим уходом в Гнилой, она вытаскивала меня из погреба. Тогда же сообщил о нашем уходе из села.
- На хуторе, - ответил я и не нашелся, что ещё сказать, что спросить. Будто онемел. А сердце бешено колотилось: помнит обо мне, помнит!
Ночью нас разбудил грохот взрывов, раздававшихся один за другим. Было страшно от неизвестности. Взрывы со стороны станции продолжались и днем.
Как это часто бывало, достоверная информация поступила от бабки Дуни:
- Наши хукурузники ночью побывали на станцах. Курбачей не затронули. А бомбы, будто днем все до единой в снаряды попадали. Цельный ешелон разбомбили. Теперича всю неделю будуть грохотать. Курбачам весело поживется, как на маслину.
- А ну, как и до нас долетят? – беспокоилась мать.
- Не… До нас далеко, не долетять.
Мать часто диву давалась: откуда бабка Дуня всё знала. Как-то сказала о ней:
- Ей бы малость подучиться – любого грамотея за пояс заткнула бы. Хотя и без грамоты всё знает.
- А самолёт-то какой вы видели днём, не простой был, а разведчик, - продолжала выдавать информацию бабка Дуня, - он-то и обнаружил снаряды в Курбатове. А ишшо чево скажу, - продолжала она, - хукурузники наши кажну ночь на нову станцию налетають. Хрицам мпать не дають. Уж и Латную бомбили и Семилуки. Да не раз и не два.
Она перешла на полушепот и как бы по секрету добавила:
- Марусь, ты не поверишь, а в хукурузниках-то этих бабы летають, и не одна-две а люди бають целый бабский полк. Под Воронежом у них еродром. Потому хрицам оказались они не по зубам: вреда много, а сбить не могуть. Мужики-то выше летають, ды днем – все на виду, а бабы из-за посадок вынурнуть, бомбы посбрасывають и опять в посадки: все макушки у деревьев посшибали.
Мать удивлялась, но верила. Бабке Дуне нельзя было не верить. Всё, что от нее исходило, было всегда достоверно. Проверяли и перепроверяли – только зря время тратили.
Ни в этот, ни в последующие дни, ни один снаряд не долетел до села. Но грохот от разрывов был мощным и продолжался всю неделю. Следующую ночь впервые большинство соседей собрались в погребе. Погреб бабы Шуры был большим. Но народу набилось ещё больше. Среди всех была и Настя. Несмотря на темень, я незримо ощущал её присутствие. И был рад тому, что мы рядом. Сидели тихо. Тесно прижавшись, друг к другу, обмениваясь теплом. Не все были тепло одеты, чтобы не мерзнуть. Я прижимался к рядом сидящей матери. Левый бок мне согревала дородная тётя Вера, мать Кольки. Но спину холодила земляная стена сырого погреба. Я пытался отодвинуться. Хотелось поспать, подремать, но сидя, не очень-то удобно. Глухие разрывы снарядов постоянно напоминали о войне, но здесь в погребе, она казалась более далекой, чем там на поверхности.
На коленях матери лежал и посапывал Юрка. И я позавидовал, что не могу с ним поменяться. Вдруг напротив меня из-под лестницы, ведущей наружу, раздался вскрик, а потом возмущенный голос:
- Это хто ж безобразничает? Люди, разве так можно? Хто бросил мне лягушку на голову? – это голос Зинаиды Ивановны. И тут слева от меня веселый смех и звонкий голос Насти:
- Лягушка – такая душка. Спасибо, тётя Зин за подарочек!
Этот случай кого-то развеселил, кто-то не обратил на него внимания. Но на какое-то время все переключились на лягушку и как бы забыли, где и по какому случаю находятся.
- Это я бросила лягушку под лестницу, - призналась на другой день мать, - страшно боюсь этих тварей: холодная, скользкая. Откуда-то прыгнула прямо мне на колени, рядом с Юркой. Я подумала, что под лестницей никого нет. А там Зина оказалась…
На самом деле это была жаба. Они водились у нас в каждом погребе. На селе все называли их лягушками.
8.
День этот навсегда остался ярким воспоминанием в моей жизни. Несмотря на войну, несмотря на оккупацию, несмотря на все невзгоды. День был особым, и я забыл все свои неприятности.
Ещё накануне мать предупредила:
- Завтра пойдем в Большой лог за яблоками.
Наутро, после короткого выгула коровы у оврага, я её замкнул, мать отвела Юрку к бабке Дуне и мы, взяв несколько залатанных мешков в качестве товара для обмена, двинулись туда, где было много садов. Шли конкретно к бабке Проса – двоюродной тётке моего отца зная, что в её саду поспела анисовка.
Мне много раз доводилось взирать на этот угол села сверху, с выгона. Но шел я туда впервые. Во время войны место здесь было довольно глухое из-за удаленности, как от центра села, так и от Большой дороги. От Большака влево раскинулся лес Плоский. За лесом, в глубоких вымоинах оврага можно было найти ключевые источники ледяной воды.
Овраг, удаляясь от Большой дороги, расширялся вместе с лесом. Ещё левее превращался в малозаселенную подлесковую местность, а потом в густозаселенную часть села, где трудно было найти хозяйство, доим или хату, не окруженную садами. Среди садов преобладали яблоневые.
Бабка Проса встретила нас не очень приветливо. Но мешкам обрадовалась и повела в сад, то и дело повторяя:
- С яблонь не рвите. Яблок на земле видимо-невидимо. Сколько наберете – всё ваше.
Подвела нас к двум яблоням с румяными полосатыми плодами:
- Это анисовки. Собирайте только под ними. Остальные яблоки пока не поспели.
Под яблонями росла трава, но её почти не было видно. Так много было яблок, которые устилали поверхность сплошным слоем. Вместо сбора яблок я в первую очередь занялся их уничтожением. Мать уже набрала большую сумку, а я всё не мог остановиться. Анисовка была безумно сладкой и сочной! В центре села, где мы жили, почти не было яблоневых садов. Единственным исключением был сад Егора Павловича. Но он не давал богатых урожаев. К тому же не имел ранних сортов. Да и хозяин не допускал потерь на сторону.
Настя появилась тогда, когда я уже насытился анисовкой и поглядывал на другие красивые яблоки большого сада: каждое яблоко хотелось попробовать. Настю привела, как и нас, бабка Проса с теми же наставлениями:
- На яблони не лазь, собирай внизу…
- Здравствуй, тёть Марусь, - поздоровалась Настя, на меня ноль внимания.
Когда бабка Проса ушла, мне захотелось помочь Насте, да и к себе её внимание как-то привлечь. Я залез на яблоню, под которой она сидела на корточках, и тряхнул большой сук над нею. Яблоки посыпались градом. Она засмеялась и отскочила в сторону.
- Борис, прекрати сейчас же! Увидит тётя Проса – добром не кончится. Вытурит из сада в два счета. Уйдем с пустыми сумками, - отчитала меня мать.
Всю обратную дорогу я шел позади. Сумка моя была тяжелой, но я её будто не замечал. Настя шла впереди, рядом с моей матерью. Они вели взрослую беседу. А я как маленький мальчик, чувствовал себя немного обиженным. Но мне подарком была Настя. Её вид меня и привлекал и смущал, и заставлял забыть обо всем на свете. И это было счастьем.
Не только моя, но и сумки настии и матери были нелегкими. Шли медленно. Часто останавливались, отдыхали. Я пристально смотрел на Настю. Так пристально, что боялся, заметит мать. Я не хотел потом разговоров и её замечаний на эту тему. Но ничего не мог с собой поделать.
Настя заворожила меня всем. И видом своих удивительных, неповторимых прелестей, и блеском глаз. И светло-русою косой, которая не раз снилась мне по ночам.
Обратный путь наш с яблоками был намного дольше, чем путь туда, в Большой лог. Но мне он показался слишком коротким. Я согласился бы идти и идти за Настей хоть на край света. Лишь бы видеть её впереди.
К концу лета и осенью травы у оврага было мало. Мне постоянно приходилось пасти Милку на выгоне. Козочка Настина на выгон не стремилась и довольствовалась овражными колючками. Этот период Настю я видел всё реже и реже. По преимуществу издалека, через дорогу. Но не забывал я ее, ни на минуту.
9.
В январе мне исполнилось десять лет. Мать по этому поводу устроила чаепитие, пригласив тётю Фросю с Толиком. Чай был настоян на каких-то листьях, среди которых я узнал знакомые вишневые. На столе были красивые оладьи, вкус которых очень напоминал картофельное пюре. В качестве сладкого мать подала «конфетки» из сахарной свеклы, выращенной на своем огороде. На столе было молоко и сливочное масло – редкий деликатес для нашей семьи. Я сам накануне сбивал его на деревянной маслобойке. Процесс этот был таким долгим и нудным, что даже в тех полуголодных условиях я предпочел бы отказаться от масла, лишь бы поскорее бросить это дело.
После чая мать послала меня к тёте паше с банкой молока и «конфетками» для девочек. Я позвал Толика. Отставив мам и Юрку, мы убежали к соседям. Все они были дома, к тому же застали у них ещё и Настю. Тётя Паша и Настя сидели за пустым столом, о чем-то беседовали. Маня с Таней веселились на земляном полу, а двухлетняя Оля ходила вокруг сестренок кругами.
Я поставил молоко на стол и «конфетки» рядом положил. Тётя Паша разделила «конфеты» на четыре части и раздала всем поровну. Олька, попробовав одну на вкус, остальные отдала на хранение тёте паше и стала хватать «конфеты» то у Маньки, то у Таньки.
- Отдай, дай, мои… - сестренки не отдавали. Назревал скандал. Тогда вмешалась Настя. Дав по одной «конфетке» из своей доли Мане и Тане, она все оставшиеся отдала Ольке, взяла её на руки, отвлекла от девочек. Капризы прекратились.
Старшие девочки, пытаясь привлечь наше внимание, бросили свои занятия. Но нас с Толиком интересовала Настя. Я попытался узнать про её козу, но неожиданно для себя спросил про Кольку.
- Вчера видела, во дворе дрова колол. Я подошла к плетню. Он с другой стороны. Снял рукавицы, погрел мне руки.
Я осекся и больше ничего не спросил. Мое бедное сердце забилось чаще, а разум протестовал. Он не допускал, чтобы эти нежные руки были в объятиях других рук. Даже рук авторитета моего – Кольки.
10.
В самом конце января ночью нас посетили лыжники в белых халатах. Мать утром рассказала бабке Дуне:
- Ребята молодые, крепкие. Расспрашивали подробно о немцах: где квартируют, какая техника. Сказали напоследок: «Недолго фрицам у вас ночевать - пора домой в Германию».
- Дай-то Бог, - крестилась бабка Дуня, - можа и войне придя конец…
Через день-два на село стали залетать наши снаряды. Попадания были точными, только в расположение немцев. Жителей села, разрывы миновали.
«Но… дело случая», - говорили бабы. И почти все во время обстрелов избирали спасительные погреба.
Тётя паша препоручила старших девочек насте, которая вместе с мамой и братом уходила к знакомым в Большой лог. Сама же осталась решать нелегкие для неё проблемы с питанием.
- Сколько это продлится, никто не знает, а детей кормить чем-то надо.
Собиралась идти во след Насти, но… не успела.
События по освобождению села развивались стремительно в двух направлениях. С целью избежать излишних потерь основных сил, разведвзводу было поручено произвести разведку боем в Большом логу. А в центр села была направлена группа из трех лыжников для определения количества фашистов и их расположения.
Ошибкой было предположение, что в Большом логу расположились второстепенные, небольшие силы противника. Полтора десятка разведчиков благодаря внезапному нападению в ночное время только в начале добились успеха. Было уничтожено больше сотни вражеских солдат и офицеров. Но многократное превосходство врага проявилось после того как неприятельский лагерь очнулся от спячки. Вся разведгруппа была уничтожена. Кто не был убит, тот был ранен и уже не мог сопротивляться. Никто не сдавался, но все были захвачены в плен. Фашисты, рассвирепев от многочисленных потерь, привязали мертвых и живых разведчиков к перилам мостика, облили бензином и сожгли.
Вторая группа разведчиков благополучно выполнила задание и той же ночью возвратилась в свое расположение. Это были те самые лыжники, о которых рассказала мать бабке Дуне.
Мы отказались уходить в Большой лог из-за Милки.
- Куда мы от коровы, неизвестно, сколько это освобождение продлится, - отвергала приглашения мать.
Когда обстрел села усилился, мы покинули хату и, как большинство соседей, спрятались в одном погребе. Это был погреб Ерошкиных. С Еркой я учился в первом классе. Хата их стояла чуть ниже нашей на склоне, с которого как на ладони был виден центр села на противоположной стороне речки Колотушки, а справа – Белая гора и крутой спуск Большака в село со стороны Воронежа.
Тётя паша, не успевшая с Олей до обстрела уйти в Большой лог, оказалась с нами в одном погребе. Снаряды в основном достигали центра села. Меня и Ерку разбирало любопытство. Мы то и дело высовывались из погреба. Я иногда пытался вылезти совсем наружу, за пределы погреба, откуда обзор был шире. Мать постоянно меня одергивала, но это мало помогало, так как «руки её до меня не доставали», о чем она постоянно сожалела. Но Юрка тоже не хотел сидеть на месте. И это меня спасало.
Я часто поглядывал на Белую гору, ожидая появления наших. Но не все возможно было рассмотреть на расстоянии, тем более значительную часть происходящего скрывали несколько хат, расположенных у Большака на спуске с Белой горы.
Любопытную историю рассказала нам потом тётя Фрося, которая квартировала в одной из этих самых хат. Она вместе со своей хозяйкой и Толиком, как и все мы, пряталась в погребе, расположенном в сенях, а во дворе была открытая полу обвалившаяся яма, оставшаяся от старого погреба.
Тётя Фрося прибежала к нам в день освобождения, когда всё закончилось.
- Я на минутку, - сказала, - узнать, как перенесли обстрел, живы ли, невредимы? Толика одного оставила. Мало ли чего! От него всё можно ожидать. Кругом столько военного хламу, а он до этого большой охотник.
- Фрицы-то почуяли неладное еще до того, как наши появились, - продолжала тётя Фрося. – Под большими тополями две полевые кухни оставили. Котлы в них огромадные, а суп жирный весь сожрали – по ведру на каждого пришлось…
- Да ну? – изумилась мать, - не может быть?!
- Я не мерила, а по полведра это точно. Фрицев-то было немного. Всего-то два-три десятка. Так вот: сидим мы в погребе, а мне пить приспичило. Вылезла из погреба, в избу за водой. Глядь в окно – а фриц в яму спрыгнул. Напилась… Глядь, а в яму ещё двое прыгают. А первый оттуда вылазит, на ходу застегивается. Меня любопытство разбирает6 дай, думаю, понаблюдаю. Дверь в сенях приоткрыла. Марусь, не поверишь: второй и третий выскочили со спущенными штанами и без подштанников. На виду у меня натягивали на голое тело: весь срам наружу.
Тётя Фрося, видимо, стесняясь меня моего присутствия, сглаживала выражения, но даже мне все было ясно.
- Ну, я побегу, - продолжала она, а то придется ещё яму закапывать. Туда все двадцать фрицев спрыгивали и двадцать загаженных кальсонов оставили, а ещё и кучи6 кто меньше, кто круче. Рядом с хатой, вони больше чем от свиньи Хавроньи.
- А может этот понос напал совсем не от супа, а с перепугу, - предположила мать.
- Может и так, - согласилась тётя Фрося, - наши-то уже через полчаса с Белой горы спустились. Мы с Толиком придем не завтра, так послезавтра, - и убежала.
Приблизительно в это же время или чуть позже я наблюдал за событиями, которые происходили в центре села. Что-то выносили из немецкой комендатуры и загружали стоявший рядом грузовик. Из-за школы видна была часть повозки и запряженный в неё немецкий жеребец-тяжеловоз. На повозку тоже что-то грузили. Рядом разорвался снаряд. Лошадь упала. Два снаряда угодили в здание клуба, который был ближе к нам, чем школа. Возникшая было паника в центре села, вскоре прекратилась.
Возле магазина, близ школы появилась фигура гитлеровского офицера – образец дисциплины и порядка (это было видно даже на расстоянии!). не совсем стройная, но многочисленная, до сорока человек, группа солдат в считанные минуты была приведена в идеальное состояние.
Вдруг на самой высокой точке Большака стали появляться силуэты наших бойцов, послышались голоса с Белой горы. Различить, что кричали, при таком расстоянии было трудно. Но возгласы «Ура!» и «вашу мать!» звучали отчетливо. Обозначилось орудие, несколько залпов, которого ещё раз и насовсем изменили картину в центре села. Один из снарядов попал в идеальный строй гитлеровцев и в одно мгновение поменял обстановку. Фрицы разбежались. Офицера тоже не было видно. Осталось лишь несколько трупов на площади.
В это время в Большом логу происходили другие события. В тридцати метрах от мостика, где стояли сгоревшие труппы разведчиков, произошла еще одна трагедия. Хозяин дома в погребе, которого прятались бабы и дети из разных концов села, был мужиком в годах, но крепким хоть куда. По своему возрасту, он не попал в армию. А запасы имел. Голодом семья не жила. Как нарочно, к этому дню хлеб в его доме закончился. И утром хозяйка свежий из печи вынула. Хлебом пахло не только в хате, но и во дворе. Зашел офицер с плеткой в дом:
- Буттер, хлэб, рус… гут – карашо!..
- Какой хлеб, сами голодные, - говорит хозяин.
Но кто поверит, если всюду пахнет хлебом.
Приказал офицер своим солдатам снять с хозяина штаны и пороть до тех пор, пока хлеба не даст. Сколько пришлось плеток на долю хозяина, никто теперь не узнает. Услыхав разрывы снарядов в центре села, солдаты выскочили готовиться к отступлению. Хозяин же, воспользовался их отсутствием и перепрятал хлеб в более надежное место. А сам в погреб.
Запах хлеба не давал покоя голодным фашистам. Офицер возвратился и не найдя хозяина был взбешен. Тут послышались детские голоса из погреба, а среди них голос хозяина. Приказ был однозначным и не допускал никаких отклонений.
Остатки бензина из застрявшей в снегу техники были вылиты в погреб на головы людей. Бензин плеснули на стены и пол дома в нескольких местах. Связка гранат, брошенная в погреб, завершила черное дело: оглушительный взрыв, две-три вспышки бензина, языки пламени.
Мы только что вышли из погреба не успев насладиться радостью освобождения. Навстречу бабка Дуня:
- Кровопийцы! Суки проклятые, - вопила она. – Проса дорогая, держись милая… Все твои погибли… И Маня, и Таня. Чтоб этим иродам век добра не видать. Чтоб их Господь Бог покарал за все их дела… Держись милая. У тебя Олечка осталась, одна теперь сиротиночка…
Тётя паша споткнулась и упала. Закричала и выскользнула из её рук Олька. Мать бросилась поднимать подругу.
- Баб Дунь, а Настя? – не выдержал я и впервые никого не стесняясь, заговорил о Насте.
- Все погибли, Борь, никого не осталось. Ублюдки! Всех изничтожили…
Минуту или две я стоял парализованный, отказываясь верить в реальность происходящего. Впервые засомневался в правдивости бабки Дуни. Потом сорвался с места и, бросив всё и всех, побежал в Большой лог.
11.
Я не знал, где этот дом, где этот погреб. Но нашел сразу. Здесь уже было много народу. Большинство с лопатами. Искали останки своих близких. Хата хозяина была сильно разрушена. Целой оставалась лишь большая русская печь. Да часть обуглившихся стен чернела на её светлом фоне. Машинально отметив разрушения, я остановил свой взор на содержимом погреба.
- Растяпа, - обругал я себя, - лопату не взял.
Я уставился на молодую женщину, быстро ковырявшуюся в смеси мяса и костей, мерзлой земли и снега. И вдруг увидел её… Её косу… Настину косу. Тут же спрыгнув в яму, я схватил косу и вынес её из погреба.
Я держал косу в руках, задавал себе легкие вроде бы вопросы, но с огромным трудом находил на них ответы. А на большую часть ответов вообще не было…
- Почему коса отдельно от Насти?
- Почему женщина, продолжающая копать на том же месте, ничего больше не находит?
- В чем ушла Настя в Большой лог?
Об этом наверняка знала тётя Паша, но я не догадывался у неё спросить. Да и спрашивать было явно неуместно. А тётя Паша, конечно, тоже была здесь. Она копала лопатой мертвую землю. Искала и не находила никаких следов своих девочек.
- Почему в погребе снег, грязь, обгорелые клочья одежды, а Настина коса такая чистая? – еще один неразрешимый вопрос.
- А где же желтая лента? – вспомнил я про яркую солнечную добавку к косе.
- А коса без ленты почему-то не расплетается?
Вопросы были зачастую глупыми и неуместными. Кто на них мог ответить? Я и сейчас иногда задаю себе подобные вопросы:
- Где ты, Настя? Где ты моя первая юношеская любовь? Почему я тебя до сих пор не встретил?
Не знаю, когда подошел Колька. Он оказался рядом и так же как я смотрел на косу Насти в моих руках.
- Дай подержу, - попросил он, и я безвольно уступил ему реликвию. Однако, Колька, подержав с минуту косу, возвратил её обратно. Он взял лопату из рук отдыхавшей старушки и принялся копать на свободном месте.
Кто-то говорил:
- Летом было бы легче найти и распознать своих…
Кто-то возражал:
- Ничего не легче. Летом было бы ещё хуже…
Кто-то узнал обгоревшую головку знакомого ребенка. Кто-то обнаружил кусок платка своей соседки. Но чаще ничего не находили. Не нашли никаких следов ни тётя Паша, ни Колька. Как будто не было их в этом погребе: ни Насти, ни девочек – мани и Тани.
Я же вроде как окаменел и статуей стоял с Настиной косой в руках:
- Почему Настина коса не сгорела? – мучил меня еще один вопрос.
12.
Дел после освобождения оказалось значительно больше, чем ожидалось. Рано утром разбудила мать:
- Вставай, Борис, побыстрее. Есть срочное дело.
- Какое дело? – спросил, просыпаясь и одеваясь.
- На лугу, возле Колотушки, немецкий мотоцикл с коляской застрял, а в коляске фляга с жиром. Надо срочно забрать флягу. Я одна никак не справлюсь.
- А мотоцикл заберем?
- Как ты его увезешь? Наполовину в снегу утонул. Я пыталась – с места не сдвинула. Хоть бы флягу притащить – на целый год хватит.
Мать взяла деревянные санки и через пять минут мы были возле мотоцикла. Колеса его утопали в снегу. Я сделал попытку качнуть его в одну другую сторону и оставил это бесполезное дело, поняв, свое бессилие.
Кое-как перебазировали сорокалитровую флягу полную жира на санки. Тропинка была узкой, и санки то и дело сползали на более мягкий снег рядом. Флягу трудно было удержать и она падала. Так повторялось многократно. Мы с матерью крайне устали, но всё-таки благополучно завершили эту работу.
Я уже стал беспокоиться, что опоздаю на похороны. Но матери ничего не сказал. Боясь запрета, решил уйти в тайне. Колька был наготове, и мы отправились в Большой лог.
К нашему приходу поиски останков родственников затихли. Жители окрестных домов переносили трупы разведчиков, сожженных на мостиках в общую могилу-погреб. Мы с Колькой помогли перетащить один из трупов.
Начались проводы в последний путь безвинно погибших. Было много слез и причитаний. Мне запомнились безутешные рыдания тёти Паши по своим девочкам. Я вспомнил, как когда-то играл с этими милыми безобидными существами, по моим щекам потекли слезы. Я старался как можно незаметнее убрать их со своего лица, ошибочно полагая, что мужчины не плачут.
Начали засыпать могилу. Сначала каждый бросил свои две-три горсти земли. Потом в ход пошли лопаты. Мы с Колькой не спешили схоронить Настину косу. С одной стороны коса была неотъемлемой Настиной принадлежностью. «Но ведь и корона – неотъемлемая принадлежность королевы. Однако, если королева мертва, то корона чаще всего хранится в музее», - примерно так рассуждал я. Уверен, что аналогичными были тогдашние размышления Кольки.
Когда могила была уже наполовину засыпана, мы с Колькой зашли за печь, где лежала спрятанная накануне коса. Не сговариваясь, наклонились, взяли косу двумя парами рук и торжественно вынесли из-за печи к могиле. Мы несли косу Насти, точно гирлянду цветов к памятнику.
Бабы, увидя нас с косой, одна за другой зарыдали, заголосили и расступились, освободив нам путь. Мы приблизились, постояли с минуту в полном молчании и одновременно опустили косу, возложив её с краю могилы. Все присутствовавшие ещё раз бросили в захоронение по горсти земли. Потом были поминки, о чем сообщила нам тётя паша. Она же пригласила нас с Колькой принять участие, но мы отказались.
На обратном пути я услыхал от Кольки о велосипедах, брошенных немцами в овраге.
13.
Колька переложил мне сегодня же, не откладывая сходить на свалку, куда отступающие фашисты выбросили свои средства передвижения, ставшие помехой для них на наших заснеженных дорогах. Договорились встретиться у оврага сразу после обеда.
Мать ничего не спрашивала. По мне догадалась, то ли узнала от соседей: на похоронах было немало её знакомых. Она посадила нас с Юркой за стол и поставила огромную сковороду жареной картошки.
- Подожди не ешь, - сказал Юрка. Он взял большую ложку и разделил картошку на две равные части.
Если бы была хоть крошка хлеба, то обед не мог быть лучше. Жареную картошку мы не ели с довоенного времени. Правда, от неё попахивало каким-то непривычным ароматом: жир был неизвестного происхождения. Тюлений или китовый мы так никогда и не узнали. Уничтожив свою половину картошки, я заторопился к оврагу.
Колька уже работал, вытаскивая один за другим наиболее исправные велосипеды на обочину оврага.
- Зачем тебе так много? – удивился я.
- Из нескольких хороших можно выбрать наилучший. Во многих шины проколоты… выбирай себе один или два.
Вся сторона оврага со стороны нашего планта была завалена велосипедами. Их тут было несколько сотен: с поломанными колесами, погнутыми вилками и рамами. Но попадались совершенно исправные. Хоть сейчас садись и поезжай. Жаль нельзя по такому снегу.
Дольше всего провозились, подбирая исправные шины. Часть из них были проколоты, другие просто спущены. Приходилось качать по десятку колес каждому. Хорошо, что насосов было навалом и все исправные.
Я завез свой велосипед в сени, позвал мать.
- Мой трофей, - сказал, - придет весна, научусь управлять.
- Не торопись: легко достался, ещё легче расстался. Это трофей военный, а значит не твой. Советую спрятать до лучших времен.
- До каких лучших?
- Хотя бы до возвращения отца домой.
Согласился спрятать пока до лета. С помощью матери кое-как затащили двухколесного красавца на чердак.
Я сидел перед своим трофеем в полумраке чердака. Его черные крылья и рама не отражали блеска февральского солнца. Но я касался руками его колес, педалей, гладил его кожаное сиденье. И на меня нахлынули воспоминания другого солнечного довоенного дня. Тогда не трещал мороз, но было изобилие тепла, блеска, радости, счастья и каких-то светлых безоблачных ожиданий.
Перед войной мама с папой взяли меня с собой в поездку в Воронеж. И она навсегда осталась самым ярким воспоминанием моего детства. Самое большое впечатление оставил Кольцовский сквер с фонтаном в центре. Струи фонтанирующей воды били изо рта лягушек. А вокруг фонтана десятки ребятишек моего возраста гоняли на легковых автомобилях. Они крутили педали и рулили куда хотели.
- Пап, купи мне такую машину, - просил я.
- На нашей улице в пыли утонешь вместе с машиной, - возражала мама, опережая папу с ответом.
- Я во дворе буду гонять, - продолжал я просить, не отрывая глаз от воронежских «гонщиков».
От скамейки, где мы отдыхали, я то и дело бегал к фонтану: смотрел лягушек и золотых рыбок. Лягушки казались живыми. От воды рябило в глазах. А золотые рыбки с каждым моим очередным приближением к фонтану казались все крупнее и крупнее.
Всякий раз, приближаясь к скамейке, я продолжал клянчить автомашину. Мама сопротивлялась и придумывала всё новые и новые возражения. А папа долго молчал. Уже в конце, перед уходом из сквера, произнес:
- Хорошо, Борь, куплю. Только придется тебе немножко подождать.
Я радостно бросился ему на шею, нисколько не сомневаясь, что автомобиль у меня скоро появится. Я уже знал, что папе можно верить. Так прошлой зимой у меня появились лыжи.
Но вскоре родился Юрка. Покупку пришлось отложить по понятной причине. Потом я вырос из автомобиля и папа убедил меня, что лучше купить велосипед. Уходя на войну, отец сам заговорил о велосипеде:
- Куплю, Борь, обязательно куплю, когда вернусь. Жди!
И я ждал, но уже вскоре стал сознавать, что отец мне нужен больше, чем обещанный им велосипед.
- Что же теперь делать? – думал я, сидя на чердаке перед своим трофеем. – Отец наверняка помнит о своем обещании. Значит, надо срочно сообщать ему о своем приобретении.
14.
Много лет подряд мне каждую ночь снилась Настя. Одна, идущая по нашему планту или с козочкой у оврага. Иногда я пытался представить Настю без косы (ведь косу мы похоронили, а Настю нет). Но это мне не удавалось. Часто я задумывался, как мне отмстить фашистам за гибель женщин и детей в Большом логу, за Настю.
Я освоил трофейный автомат: изредка брал его с собой на выгон. Когда вокруг никого не было, стрелял одиночными выстрелами, экономя патроны.
Готовился мстить фашистам и Колька Тюрин. У него было шансов побольше. Но вскоре после оккупации эта самая подготовка свела его шансы на нет.
Осваивая трофейное оружие, он что-то не так повернул в гранате. Она взорвалась у него в руке: оторвало пальцы и покалечило руку. Уже потом взрослого его забраковали на призывном пункте.
Война шла к концу. Я с нетерпением ждал возвращения отца домой, без велосипеда. Трофейный велосипед, прикрытый рваной одеждой, все еще пылился в углу чердака. И об этом знал отец из моего письма.
Мы с Колькой пока побаивались выводить свою технику на показ. Помнили, что наши после оккупации конфисковали безоговорочно все трофеи, какие нашли. В то же время мы чувствовали некое право свое на владение личным трофеем, потому что твердо считали себя непосредственными участниками всех событий в тылу этой войны. Более того, в какой-то степени даже опорой этого тыла.
- Не знаю, чтобы мать без меня делала, - сказал как-то Колька. – Лидуха наша хоть и старше меня, а толку от неё мало: ни дров наколоть, ни сена заготовить… Корову пасти и то боится: то немцев, то бодливых коров…
Он обеспечивал семью дровами, доставляя их на двухколесной тележке из леса, выкашивал свой участок луга и на той же тележке подвозил сено к дому. Моя мать не доверяла мне самостоятельно выполнять такие тяжелые дела. За дровами мы ходили с не вместе. Иногда носили вязанки на плечах. Иногда брали тележку. А однажды взяли в помощь Милку. Но корова упрямилась, не хотела нам помогать.
- Я зареклась от такой помощи, - говорила потом мать соседкам, - это мука, а не помощь.
15.
Возвратился домой отец. Налаживалась мирная жизнь. Колька закончил восьмой класс и очень хотел поступить в ремесленное училище. Преодолевая боязнь провала из-за покалеченной руки, он всё-таки собирался на днях разведать условия приема в Воронеже.
Часто вспоминая Настю в своих разговорах, мы мало бывали на той могиле. Перед своим отъездом Колька предложил мне объехать знакомые места.
Мы взяли велосипеды и поехали в Плоский. День был погожий, жаркий. Захотелось пить. Спустившись за лесом в овраг, нашли воду. Ключ бил из-под земли, как живой. Мы с большим удовольствием в несколько приемов насытились ледяной влагой. Повизгивая от удовольствия, освежили себя до пояса.
- А теперь к Насте, - твердо сказал Колька. – Но сначала заедем за цветами.
- Где нарвём?
- Я знаю где.
Мы выбрались из лога, перерезали Большак и свернули по узкой тропинке к лесу Вязноватому. Видно, Колька не раз здесь бывал. Через сотню метров после углубления в дубовый лес перед нами открылась волшебная поляна с незабудками. Их было так много, что мы без особого труда набрали по большому букету и отправились прямиком к Насте по незнакомой мне ранее заросшей дороге.
На могиле по-прежнему стоял деревянный крест и не было ограды. Мы возложили свои цветы к кресту. Несколько минут посидели на траве рядом.
«Мы никогда не забудем тебя, Настя!» - думал я. Колька молчал, но мне казалось, он думал точно так же.
Мы оставили могилу и незабудки, объехали выгон и уже со стороны села выехали на Большак. Думаю, Колька знал, что уже не возвратится в село, поэтому захотел побывать в школе.
Мы спускались в низину, когда нас обогнал грузовик, в кузове которого были музыканты с трубами. Мне показалось или так и было? Тот же самый духовой оркестр, те же военные музыканты, которые четыре года назад при отступлении наших войск играли «Прощание славянки».
Автомашина с оркестром остановилась, как и тогда на том же самом месте у колодца. И грянул марш. Тот же марш. Но это была как будто другая музыка. Вместе с грустью о прошедшем детстве она вселяла оптимизм и надежду. Марш зарождал веру в будущее. Внутри что-то ёкнуло. Что-то изменилось.
- Прости нас, Настя…
Новые рукописи
- Берегите мужчин! Автор: Шелейкова Нина Жанр: Публицистика
- Утки Автор: Виктор Верин Жанр: Проза
- Долина царей Автор: Крюкова Елена Жанр: Проза
Книжные новинки
- Владимиров А.А. "Формирование микрогеометрии поверхности при вибрационном точении" Автор: Информационная служба РОСА Жанр: Книги РОСА
- Истина Рая Автор: Карханина Валентина Жанр: Книги РОСА
- Монография О.А. Лазуткиной о концепция человека в циклах рассказов Германа Гессе Автор: Информационная служба РОСА Жанр: Книги РОСА
 Видеогалерея
Видеогалерея Фотогалерея
Фотогалерея Аудиогалерея
Аудиогалерея Магазин
Магазин