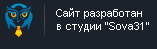Военные рассказы
Дата: 27 Декабря 2014 Автор: Чекусов Юрий
Содержание:
1. А мужики там все богаты...
2. Будь, старшина
3. Исповедь молодого артиллериста
4. Истребители танков
5. Кто вы, поручик Самарин?
А мужики там все богаты...
Издалека мы начнем эту историю, историю о мужиках, которые были - когда им было время - и которые еще есть и поныне...
На юго-западной Украине нет знаменитых широких степей, не гуляли здесь лихие казаки. Нет, не пахнет здесь свободолюбивой казачиной, здесь долгие годы хозяйничал разносбродный люд, от турок до польских панычей. Здесь все насквозь шляхетское, панское и даже сейчас гремит орган о костёлах. И ксёндз проповедует католицизм...
Именно там, в изрезанной балками местности, среди живописных холмов, располагался в середине девятнадцатого столетия один из украинских хуторов. Это был обыкновенный рядовой хутор с десятками мазанок, разбросанных в неописуемом беспорядке в ложбинках и на холмах. То ли по старой традиции, то ли по бедности, все мазанки были крыты соломой.
Осенью и весной в хуторе стояла страшная грязь. И она тащилась в дом, на земляные полы, и ругань женщин часто доносилась в это время из всех хат и мазанок. И вот в один из таких серых осенних дней тысяча восемьсот пятидесятого года появился на свет мальчик, нареченный Петром - сын Михаила и Оксаны Крушинских.
Петру повезло - он родился в семье более-менее зажиточных людей, местной хуторской знати. Невзгоды крепостного права лишь взмахнули над ним своим черным крылом, а в общем-то детство его, в отличие от его четырех сестер, было безмятежным, радужным и счастливым.
Шли годы. Пророкотали в хуторе бури 1861 года, и снова потекла обыденная жизнь крестьянина-хлебороба. Отец Петра, Михаил, работал в поле и по хозяйству день и ночь, выколачивая из земли, своего пота и крови деньги на пропитание и будущее приданое своим дочерям.
Но вот наконец он облегченно вздохнул, перекрестился - выдал замуж последнюю дочь. Сразу меньше стала собственность Михаила, но теперь был у него верный помощник - Петр. Батраков они еще не нанимали - слабы были, но себя не жалели, день за днем гробя свое здоровье под палящим солнцем и в морозные искристые дни.
Но подошла весна. И только запылилась белым цветом вишня, Михаил и его уже взрослый сын парубок Петр были готовы к приему кукушки. Древний обычай Михаил чтил свято - как только наступает весна и кукушка приступает к своему «ку-ку», в кармане шаровал должны находиться деньги, и чем больше - тем лучше. А нет денег - не будет и весь год.
Старый род Крушинских издавна считался дружным, мощным в своей напористости. Таким и был Михаил, продолжатель рода Крушинских - для детей своих он не жалел ничего, за кровь родную он готов был расшибиться в доску. Тронь кто-либо его жену, очерни дочерей - тут уж Михаил не знал спуску, становясь по-звериному беспощадным. Но судьба не дала ему счастья долго жить, смотреть и радоваться жизни своих детей - надорванное здоровье уже не могло биться в жизненном пульсе. Той же весной, не охнув, молча, он рухнул в опустевшей избе у ног своей жены Оксаны. Чего греха таить - бил он ее, бил часто, не жалел ни ее, ни своего здоровья. За это и поплатился. Но женить своего богатыря Петьку, как он звал сына, он все же успел. А через полгода, ненамного пережив своего мужа, ушла в могилу и его верная жена Оксана.
Петра женили в тысяча восемьсот семьдесят первом году. Именно женили, подобрав для молодого парня соответствующую по состоянию невесту, такую же богатую. И Петр начал со своей женой перед богом Катериной семейную жизнь. А легкой жизни впереди не предвиделось - лапы крутого отца Катерины пытались закабалить Петра, сделать из него всего-навсего батрака и чернорабочего, хоть и в нарядной вышитой рубашке. Но не так-то быстро можно было одолеть род Крушинских. Бытовала даже легенда, что их фамилия пошла от слова «крушить». И Петр боролся против своих родственников, пытаясь оградиться от их аппетита на его самостоятельность и быстро растущее хозяйство. Эта невидимая борьба, лишь подчас прорывающаяся на поверхность как извержение вулкана, перековала и скромную тихую Катю, превратив ее в бой-бабу, расчетливую и хитрую женщину. С годами из худенькой женщины с тонкими, будто резными польскими чертами лица она превратилась в красивейшую женщину и прослыла первой красавицей хутора. На нее обращали внимание - от головы и десятника до простых мужиков. Но Петр, вылитый отец в своей жестокости, не давал спуску Катерине. Крепко избив ее, он раз и навсегда отучил жену от походов по чужим подушкам.
Снова мир возобновился в доме Петра. Сам глава дома, как и его отец в свое время, вкладывал все силы и хозяйство. Появились батраки, начал строиться каменный дом. Текли годы, и на свет появлялись потомки Петра Крушинского: спустя год после свадьбы появился Федор, еще через три года - Николай, а после Николая спустя пять лет - Андрей. Петр был доволен своей женой, благодарил за сыновей. Но видно проклятие висело над Крушинскими: в конце девятнадцатого столетия, когда Петру уже подваливало под пятьдесят, один за другим два страшных удара надломили Крушинского-старшего. За один год он сдал сразу как за целых десять, весь поседел, сгорбился. А Катя отдала Богу душу, не пережив смерти двух своих старших сыновей.
Катерина была урожденной Каминской. И именно Каминские тянули лапу к хозяйству Петра Михайловича Крушинского. Не раз доходило до спора, до отчаянной драки между отцом Катерины и Петром. Крут был Петр, но не менее злобен был и Каминский. Сыновья Каминского, погодки Петра, уже боялись сводить с ним в открытую счеты, зная, какой гнев, вплоть до смертоубийства, может это вызвать. С вожделением они ждали появления у своей сестры Кати дочери, чтобы с годами за какую-нибудь оплошность девицы вымазать ворота дегтем или опозорить ее отца каким-либо иным способом. Такого не случилось - у Петра волею судеб были только сыновья. И если сам Петр в конце концов пошел на мировую с Каминским, то внуки последнего и сыновья Петра начали враждовать.
И в одной из драк, начавшейся с пустяков - якобы не поделили какую-то дивчину - старший сын Петра, Федор, был насмерть забит кольями. И сделали это его двоюродные братья - внуки Каминского. Николай, узнав про смерть старшего брата, ринулся мстить. В драку ввязалось полхутора.
Николай, получив шесть ударов ножей, скончался только дома, на глазах плачущей матери. Живуч он был, этот потомок Крушинских.
И остался у бобыля Петра Михайловича только младший из сыновей - Андрей. Вот про него и будет наш сказ...
Двадцатый век вступал неумолимой поступью в города и села Малороссии. И только здесь, на хуторе, казалось, все оставалось по-прежнему, без изменений. Но нет, это не так! Чаша жестокой борьбы голытьбы с зажиточными мужиками начинала клониться в пользу кулаков. И они все сильнее сдавливали горло бедноте, наступая ей на пятки.
Андрей был, как говорится, уже готовым женихом. Сын богатого крестьянина, он с гордостью вышагивал по селу, ловя восхищенные взгляды дивчин на своей статной фигуре с молодцеватой выправкой. Одним он только не вышел - ростом. И черт знает в кого пошел! Но в остальном Андрей был не промах - на вечеринках любил поболтать с девчатами, полапать их за красоты, и в общем - во всем прочем он обладал всем тем, что необходимо молодому гуляке, пока ни о чем не задумывающемуся в жизни.
Вечером, едва чуть притемнеет, со всех концов хутора тянулись парни и девушки на вечорку. Пели песни, говорили, веселились, прятались по парочкам в кустах, откуда и доносились приглушенные вскрики девиц. Здесь и приглянулась Андрею одна из девушек, бедного рода, но чего не скажешь о фигуре и лице. Да и видно Андрей понравился ей, раз она разрешила ему проводить ее до калитки.
Они полюбили друг друга, страстно и крепко. И она, изнемогающая от его ласок и любви к нему, часто шептала Андрею: «Возьми меня, Андрюша, возьми. Нам будет хорошо обоим! Ну что ты?»
А он, и что в него вселилось, отвечал ей:
- Потерпи голубушка, рано пока! Вот предупрежу своего батьку о свадьбе и приведу тебя к себе в дом. То-то будет радости! И заживем же мы с тобой...
Он подхватывал ее на руки и нес по росистой тропинке.
Да недолго нес. Узнал об этом Петр Михайлович, грозно взмахнул кулаком и обрушил его на стол. Дубовый массивный стол загудел. Когда отец говорил громким басом, или же в противоположность - ровно и спокойно, низким приглушенным голосом - все это не предвещало хорошего. Таким был Петр Крушинский и сейча.
- Что, - голос отца сдал, будто сел, - захотел в жены дочь кузнеца? Чай успел с ней снюхаться? Признавайся, стерва!
Андрей, собирающийся было отмалчиваться, не стерпел:
- Не успел еще, а жалко - надо было!
- Что-о-о-о??? - бас отца заглушил Андрея. - Неблагодар-р-рный!
И могучий удар, совсем не говоривший о бессилии пятидесятилетнего старика, отшвырнул Андрея в угол.
Они в ярости остановились друг против друга. Андрей сразу оценил, каков был по силе его противник, все годы проведший в работе, руки которого привыкли к плугу, лопате, топору. Да и отец оценил своего уже взрослого сына - такого теперь на силу не возьмешь, вырос из пеленок.
Глухо промолвив Андрею: «А ну, садись, поговорим», - Петр первый присел на лавку.
- Выбирай, сын, - тяжелые, будто кованные слова отца рушились на Андрея, - или со своей кралей в нищете, или, как это делалось в славные старые времена - мой выбор, а твоя жизнь в богатстве, которое будет все твое. Запомни, среди Крушинских еще не было недоносков. Ну?
Неделю Андрей ходил угрюмый и выбрал второе. О причине своего согласия он ничего не сказал отцу. Через полгода Андрей был женат на молоденькой шестнадцатилетней Фаине, дочери соседа - также зажиточного крестьянина.
- Что я буду делать с этой девчонкой? - сокрушался Андрей перед свадьбой, бывший на добрых пять лет старше Фаины.
- То же, что делают со всеми бабами! - сурово оборвал его отец.
- Да какая же она баба? Дунь - упадет!
- А ты попробуй... Вдуй, - старик похабно захохотал.
Через год после свадьбы, в начале второго года нового столетия Фаина родила девочку. И долго болела - каково рожать семнадцатилетней девчушке. Петр, уже не работавший сам по хозяйству, а только приглядывающий за батраками, гулял по этому поводу три дня. Но на четвертый, уже с похмелья, недоверчиво косился на невестку:
- Ишь, родила дочь, будто не могла мальчишку. Эх, бабы, бабы, одно разорение с ними!
А Андрею было все равно, но и он, если честно признаться, хотел мальчишку - продолжатель рода Крушинских должен же быть. Конечно, не все еще потеряно, можно попробовать еще раз. По ночам, лежа в постели рядом с Фаиной и терзая ее, он яростно шептал:
- Смотри, чтобы сына мне родила.
Но через год после рождения первого ребенка, которую назвали Марией, Фаина снова родила девочку. Эту назвали Анной.
И Андрей и его отец пили с батраками целую неделю. На этот раз с горя. Видя такое, Фаина начала дичиться мужа. И чем она виновата перед ним - она не понимала, ведь не сама же она делает детей, не по своему же выбору. На то и есть природа. Но Андрею и дел не было до такого мистического понятия, ему нужен был сын. И он после годичного охлаждения к жене снова взялся за Фаину. В тысяча девятьсот пятом на свет появилась... третья дочь, Саша. Андрей назвал так ее потому, чтобы хоть таким образом воскресить для себя мечту о сыне.
Он стал равнодушен к Фаине и все свободное время теперь отдавал хозяйству. А по ночам и вечерам скрывался у вдовушек, отдыхал там на мягких подушках.
А хозяйство росло как на дрожжах. Каменный дом, еще выстроенный Петром, теперь высился на холме как стервятник, поджидающий добычу. Батраки работали у них не зная отдыха, да и Андрей не щадил себя. Чем мог, тем и помогал ему отец.
А Фаина, предоставленная самой себе, занялась воспитанием своих детей и тиранством домашней прислуги. Но вскоре добралась и до домочадцев. Первою жертвою пал ее свекор - Петр Михайлович. С изумлением он наблюдал, как его невестка становится агрессивней и настойчивей в своих поползновениях основать в доме матриархат. И надо заметить - ей это удавалось.
«Бес в нее, что ли, вселился? - думал Петр Михайлович. - Или жажда мести за свой бабий род, что раньше не имел никоих прав?»
Но как бы то ни было, вконец изведенный разъяренной Фаиной сдавал свои позиции шаг за шагом. И теперь ему приходилось ходить за невесткой по пятам, умолять о чем-либо и даже выпрашивать еду. Чтобы избавиться от последнего унижения - это ж надо только: старик елозит перед молодкой, будто он и не в своем собственном дома - Петр опустился до того, что начал свое пропитание в общей кухне. И вскоре опустился в глазах Фаины до разряда низких людей - чуть ли не обычного батрака.
Вот так. Покончив со свекром, Фаина с благим намерением расправы и покорения к ее ногам, приступила к своему мужу. Но вышла осечка. На требовательный вопрос, произнесенный раздражительным голосом Фаины, Андрей только хмуро поднял голову. Долго и пристально смотрел на нее своими черными и жгучими глазами, потом неожиданно хватил жену в скулу, как некогда Петр Михайлович ударом кулака отбросил его в угол. Широко расставив ноги, Андрей грозно встал над Фаиной. И заикаясь от сильного волнения, глухо (точь-в-точь как отец) заговорил:
- Куда ты суешься? Есть у тебя твои дочери, - от так и сказал - «твои», - вот ими и занимайся. Но в мои дела не суйся. Все равно не поймешь своими куриными мозгами. Предупреждаю тебя в первый и последний раз. И отца оставь в покое. Если хоть раз увижу его в таком же дурном виде и положении - пеняй на себя, пришибу сразу. Не охнешь!
Сказал и вышел. И снова погрузился в хозяйство.
Так дом Крушинских дал трещину: по одной стороне - строптивая Фаина с дочерьми, по другую - хмурый неразговорчивый Андрей. А Петр Михайлович склонялся между двумя этими лагерями, как неприкаянный.
У Андрея были свои дела: приумножение хозяйства и затягивание мертвой петли на своих должниках. И уже многие из хутора находились в его кабале.
Первая мировая война принесла кому горе, кому смерть, кому беду. Но ничего из этого не коснулось огромного дома Крушинских, лишь умер отец Андрея. Поболел и умер, сам, без принужденья.
Перед его смертью состоялся разговор отца с сыном. Последний.
- Слушай, Андрюша, - медленно, с трудом вытягивая из себя слова, заговорил измученный болезнью старик, - любил я тебя... Нравишься ты мне и сейчас, тем, что унаследовал в себе нашу крушинскую гордость и независимость. Но вот вынужден признать, что жена твоя...
- Сам составил для меня такую пару, - хмуро перебил его сын. - И видишь, что получается. Задергала она тебя вконец.
- А ты бы попытался обуздать ее.
- А зачем? Пусть бесится, себя показывает и... тебя учит.
- Что так, сынок?
- Что, спрашиваешь? А то, что в свое время похоронил ты мою любовь, вот что! Отец, а как бы мы счастливо жили. И пусть бедноваты были бы в первое время, но есть же у нас с тобой работящие мозолистые руки, есть ведь! И создали бы все это чертово богатство, какое имеем сейчас. И даже более того: все это на счастье тебе, мне, ей - дочери кузнеца, твоим внукам. И был бы тогда у нас с тобой смысл в жизни. И не умер бы ты так рано.
- Поздно уже, Андрюша, жалеть об этом.
- Никогда не поздно жалеть о безвозвратно утерянной любви. И никогда не прощу я тебе, отец!
- Но почему ж ты тогда не ушел к ней? Испугался моего проклятия, будущей бедности? Ведь я все равно потом остыл бы, простил тебя и принял обратно.
- Может, отец, и так, может и принял. Хотя сомневаюсь. Но дело, в общем-то, не в этом! Когда ты расшумелся на весь хутор, она через два дня уехала, а через неделю я узнал о том, что она утопилась. С горя.
- Что? Но почему же кузнец об этом ничего не говорил, отмалчивался?
- А зачем говорить? Ты разве понял бы что-нибудь? Совсем обратное - стал бы смеяться...
- Прав ты, сынок. Но я уже достаточно наказан жизнью. Мало ли это: глупая гибель двух старших сыновей - твоих братьев, затем смерть жены, и наконец - твое несчастие.
Они замолчали.
- В левом углу дома, там, где напротив беседка, у меня замуровано золото. Досталось оно мне еще от отца, деда твоего Михайлы. Ну и я, конечно, свою толику вложил. Андрей, я завещаю его тебе.
- А зачем оно мне? Есть ли смысл в нем? Для чего? Чтобы снова обжираться, мучить мужиков, разжигать неуемные страсти Фаины и ее дочерей, уже начинающих привыкать к роскоши?
Отец умер. Его похоронили на кладбище, и Андрей закатил поминки чуть ли не на полхутора. За один вечер были выкинуты на ветер большие деньги. И Фаина начала пилить мужа за эту разнузданность обыкновенного мужика - так она квалифицировала поступок Андрея. В ответ он промолчал, даже не напомнив ей об их договоре - не соваться в его дела и оставить в покое Петра Михайловича.
Андрей вышел во двор и с удивлением, будто заново, увидел свое хозяйство, подумал: «И что не хватает Фаине? Ведь все есть!»
Большой каменный дом оброс пристройками, службами, флигелями. Не дом, а настоящая усадьба. Рядом громоздились амбары, сараи. В конюшне стояли лошади. В хлеву мирно чавкали кабаны, жевали сено коровы и волы. По двору бегали и важно шагали, путаясь под ногами, десятки куриц, уток, гусей, индюков. Приусадебный огород поражал обилием рассады и своей величиной. И за всем этим - десятины плодородной земли.
И дом весь заставлен мебелью, завален посудой. Женщины разнаряжены, в украшениях.
Что еще надо?
Что еще надо???
С тех пор резко разошлись пути Андрея с женой. Они стали жить, не замечая друг друга, каждый занятый своими делами. Про золото Андрей умолчал.
«Хоть до гробовой доски, - мстительно думал он, - но не выдам секрета. А то сдохнет от зависти и передерется со всеми. Пусть оно валяется там, замурованное в дом...»
Без умысла затаил золото Андрей Петрович, но время показало, что он поступил верно.
Что началось в эти годы - не понять. Война, потом снова война, уже гражданская. Немцы, австрийцы, белогвардейцы, петлюровцы, румыны, красные, потом снова белые. И снова красные.
Тяжелые годы для Советской России. А по-своему тяжелые и для Андрея Петровича Крушинского, потерявшего наполовину свое хозяйство. И новые беды. Мария и Анна, уже взрослые девицы, почуяли тягу к мужчинам.
«Что ж, - думал по этому поводу Андрей, - всякая женщина тянется к мужчине. Таков уж закон природы, каждой хочется». Но в эти сумасшедшие годы, когда офицерье заполонило все села и хутора - здесь-то куда уж лезть! Ан нет, прогуливаются под ручку. Анну, ту еще удалось как-то отучить от такого паскудного занятия, грозившего немалыми неприятностями в военные годы. Но Мария оказалась упрямой девкой, да еще такой, что ее похождения, вплоть до тончайших деталей, - как она спала со своим дружком-белогвардейцем, что он с нею делал - выслушивались ее младшей сестрой Сашей с горящими глазами и замирающим сердцем.
Андрей Петрович рвал и метал, а Фаина не поводила даже ухом. Лишь как-то медленно процедила сквозь зубы:
- Ну что ты в самом деле, как переполошенная курица! Девка ведь сама знает, что делает. Пусть порезвится!
Он задохнулся от злости, хлопнул при выходе дверью. И пришел к выводу, что черт с ней, пусть резвится. Но дитя в подоле он не потерпит.
Но Мария и не собиралась приносить ребенка в дом, она просто-напросто побывала у хуторской повитухи.
И все же сияла, видно, счастливая звезда над Крушинским Андреем, если он остался жив, если не погибли его жена и дочери от взрывов и пуль, если на их дворе не разорвался ни один снаряда, если обозленные бандиты не пустили «красного петуха» по сараям и пристройкам дома. Прошла гражданская война, но не наступила для Андрея желанная пора, ибо красный террор и продразверстка тяжелой поступью уже входили в хутор.
Был грех за Андреем перед Советской властью, тяжелый грех. Да и как не быть ему, если вся цель жизни Крушинского была направлена лишь на то, чтобы любой ценой сберечь дом, хлев, амбары, сараи и... свою жизнь. А посему он и принимал у себя на дому и белогвардейцев, и петлюровцев, и поляков. Было время, когда он снабжал оружием и фуражом местные банды. Когда изловили из лесов главаря одной крупной банды - Черного Головня, то последний сознался, что Крушинский помогал ему в чем мог, а потому его бандиты не трогали. Узнав такое, Андрей проматерился:
- Неблагодарная сволочь! Я думал, что он отстоит старые порядки, а он, оказывается, напрасно жрал мой хлеб! - и попытался удрать в лес.
Его вовремя изловили местные чоновцы. На допросе все раскрылось, но учитывая то, что явных проступков у Крушинского перед Советской властью не было, его отпустили с покаянием, предварительно взяв подписку, что он более не будет препятствовать Советской власти. Он дал обещание, но напоследок у него сорвалось:
- Да чтобы я хоть еще раз помогал этим дармоедам, не имеющим ни долга чести, ни совести... Ни за что!
И не стал. Даже сам, самолично, сдал однажды в ЧК двух бывших петлюровцев, предварительно напоив их до отказа самогоном. Петлюровцы, думая, что остановились у верного человека, очнулись в каталажке ЧК.
Но продразверстка окончательно доконала Андрея. Не будь ее, может Крушинский и пристроился бы к столь необычной для него жизни. Но она ведь была: и продразверстка, и Советская власть.
Кто-то из бедняков-соседей видел, как он ночью закапывал зерно в сараях, и сообщил начальнику прибывшего продотряда. Разыгралась драма. С болью в сердце смотрел Андрей, как срывали полы в сараях, пытаясь достать зерно. Но ведь оно было его! И он не выдержал: схватив топор, он бросился на красноармейцев. Остальные продотрядовцы и понятые еще не поняли, в чем дело, как уже разгорелась драка. На шум прибежали Каминские, очередь до которых не дошла (и у них были излишки зерна, да еще какие). Из укрытий и подполов повылезала бывшая петлюра и разноцветный сброд из бывших бандитов - синие, зеленые, белые, местные и неместные. Молодежный отряд ЧОНа поднялся на усмирение.
И снова, как многие годы назад, из-за Крушинских и Каминских (но сейчас они были вместе) разгорелась ожесточенная борьба. И здесь уже применялись не жерди, колья и ножи, а винтовки, штыки и гранаты.
Это была последняя вспышка мятежа в районе. И когда на выручку продотряду прибыл конный полк, оцепивший хутор, перед глазами предстала печальная картина: багрово-красный закат над десятками горящих хат, стрельба, трупы людей по улицам, изрубленные насмерть продотрядовцы. Командира продотряда кулаки в озлоблении сразу же вздернули на дерево, а отряд чоновцев разрознили и начали как за зайцами охотиться за каждым в отдельности. В результате погрома почти все коммунисты, а их и так насчитывалось немного, были вырезаны, а красная комсомолия перебита за исключением нескольких человек, вырвавшихся своевременно в лес.
Хутор стал менее людным и представлял собою искалеченного в боях солдата. Выездной трибунал ЧК разбирался недолго, ибо все факты и доказательства были налицо - десятки матерей и жен рыдало сейчас на кладбище, ставшем за время гражданской войны еще более обширным.
Механизм красного террора пришел в действие: более полутора десятков зачинщиков и главарей было расстреляно тут же, на месте. Менее виновных приговорили к высылке в Сибирь (это с теплой-то Украины). Остальных - оставили и простили.
В хуторе после мятежа и его последствий остались старики да старухи, вдовы да редкие счастливые жены с враз поумневшими мужьями, много детей, полдесятка комсомольцев и два выживших израненных коммуниста. И ни одного кулака, только несколько зажиточных мужиков, которые уже преклоняли голову перед твердостью и силой Советской власти.
А что же стало с Андреем Петровичем Крушинским? Как он - погиб или выжил...
Погибнуть-то он не погиб, чудом остался в живых, но то, что его высылали в Сибирь, как невольного зачинщика мятежа, не сулило ничего хорошего.
«Учитывая ранее контрреволюционную деятельность Андрея Петровича Крушинского и то обстоятельство, что по его причине в хуторе возник мятеж, военный трибунал приговаривает оного гражданина к высылке на вечное поселение в Сибирь». Коротко и ясно. Но гуманно, хотя за все грехи Крушинского можно было расстрелять давно - за невольное и добровольное соучастие с белыми, за десятки загубленных по его вине людей.
На прощанье, озлобленный и угрюмый, он успел шепнуть Фаине:
- В левом углу дома, там, где беседка, замуровано золото. Смотри, храни его, береги пуще ока. Может, вернусь еще.
Но не сразу отправился в путь-дорогу Андрей, успел еще насмотреться на то, как бедняки, ранее ходившие к нему на поклон, с каким-то невольным ожесточением раскулачивали его хозяйство - весь скот передали в образовавшийся недавно кооператив, землю отобрали, половину утвари растащили. Уже идя по «этапу», как он сам обозвал свой тяжелый путь в Сибирь, в мыслях Андрея Петровича было одно - что будет с домом, золотом. Что же станет с дочерями и Фаиной - ему было все равно.
И пропал последний из рода Крушинских где-то в сибирских просторах, загинул так, что не было от него ни слуху, ни духу долгие годы. А Фаина, уже со взрослыми дочерьми, осталось одна. Растерялась, разрыдалась, лишившись своей мрачной и надежной опоры-муженька. И в голову невольно закрадывался страх перед неизвестным: каково будет сейчас... Лучше помереть с тоски-кручинушки, чем жить так!
Но не такова была Фаина, чтобы спасовать перед трудностями. Ей подходило к четырем десяткам, когда Андрея отправили на высылку, но она, как говорится, баба была еще в соку. Вот этим, самым испытанным средством, тем более, что председатель кооператива был мужик, она и воспользовалась. Сначала поклонилась ему в ноги, запричитала:
- Люби мы ж все-таки, как и все! А если выселите, то куда же я пойду с тремя взрослыми дочерями? По белу свету, что ли, милостыню просить?
Вопрос стал на заседании кооператива, где председатель защищал Фаину:
- Ведь в конце концов-то, она-то со своими дочерьми не участвовала в мятеже!
Что ж, доводы председателя были резонные. И за Фаиной оставили дом и часть огорода, почти все остальные постройки разворотили, стройматериал вывезли.
И Фаина с дочерьми зажила в свое удовольствие. В свое время она клялась, что непременно вступит в кооператив. Затем клялась, что вступит в колхоз, но жила самой себе хозяйка.
А хутор помаленьку разрастался. Строился, заселялся пришлыми. Подрастали и свои местные. И Фаина, перебивающаяся торговлей со своего огорода (золото она не трогала, даже пополнила...), да еще благодаря корове и время от времени появляющимся у нее кабанчикам, решила упрочить шаткое положение своих доходов и мнение о ней в образовавшемся колхозе. Сама она в колхозе не работала, да и не собиралась делать такого опрометчивого шага, и поэтому решилась на своего рода сделки: Марию и Анну заставила вступить в колхоз и работать там. Обе отличились большой трудоспособностью. Особенно Мария, самая старшая - казалось, она взялась за ум, вызывая одобрение среди колхозников, но висел на ней один грех молодости. Согрешила она с одним из приезжих, и в 1928 году родила дочь Ирину. Был бы при этом отец, он бы показал что почем, но Фаина лишь махнула рукой:
- Доигралась? Вот и получай.
И тут же сделала глубокое умозаключение:
- Впрочем, пора. В двадцать шесть лет стать матерью - это еще сносно, а то бы вообще не была ею. Ну и времена пошли...
Фаина была права - на ее дочерей никто не зарился - народ в хуторе пошел грамотный, и кому было охота связываться с дочерями бывшего классового врага. Надежда оставалась только на приезжих, мало придающих внимания таким мелочам.
Мария не жалела себя в труде - то, что досталось ей от отца, она вкладывала в колхозный труд - речь здесь идет о ее любви к работе. И быстрорастущий крепнувший колхоз помог ей выстроить собственный дом, куда она и переселилась со своей Иринкой. Дом Марьи находился от дома Фаины далековато, в трех километрах, и был расположен на противоположной окраине хутора. Но Фаина, ставшая бабушкой в сорок три года, полюбила внучку и, когда делать было нечего, - особенно зимой - бегала проведать Ирочку и свою дочь.
А через год повезло Анне - она вышла замуж и вскоре подарила мужу сына. Правда, это был их единственный ребенок. Муж Анны - из приезжих, и он, как на то и рассчитывала Фаина, мало придавал значения сплетням, так и разносимым старухами по хутору. Свадьбу Анны отгрохали приличную, и Фаина не пожалела для этой цели даже части припрятанного золота. И этим была весьма горда. Перед свадьбой она сказала дочери:
- Не печалься, что ты выходишь замуж ровно во столько лет, во сколько твоя старшая сестра уже стала матерью. Не беда, ведь у тебя все еще впереди. И у тебя есть одно значительное преимущество перед Марией - твой муж. А если хотите, то вы можете обосноваться у меня, дом большой и примет всех желающих.
Предложение было принято с благодарностью будущим мужем Анны - деваться-то ему было некуда.
А Фаина при этом имела не только благородную цель, как то предоставление крыши молодым, но и желала свершившимся обстоятельством прочно закрепиться в данном доме. Как видите - ей удалось. И в доме на холме зажили Фаина со своей младшей дочерью Сашей и семья Анны.
Теперь одна отрада осталась у Фаины - двадцатичетырехлетняя, но еще по-прежнему капризная Александра. Изнеженная, прихотливая до ласки, непререкаемая в своих требованиях - ее девичьи годы протекали под влиянием Марии. Но вот Мария наказана жизнью, вновь одарена счастьем (хоть и половинчатым), а у красотки Александры ничего нового в жизни. Все сестры Крушинские были чернобровы, глазастые, стройные и плотные - кровь с молоком, но истинным эталоном красоты среди них была все же Александра, последыш, надежда отца, угнанного в Сибирь.
Александра, как и ее мать, в колхозе еще не работала. По ее словам можно было понять, что даже и не собиралась. Главной ставкой Саши в дальнейшем было замужество, главный козырь - хорошо зарабатывающий муж, при котором можно было бы и дальше вести свободный образ жизни. Такой случай подвернулся.
В соседнем поселке временно стояла воинская часть. И как-то в их хутор под предводительством бравого молодого командира заехал конный разъезд.
Саша стояла у ворот и смотрела, как в ее переулок втягиваются запыленные конники. Напротив, заметив ее, остановился командир.
- Здравствуй, красавица! - весело улыбнулся он и отдал честь. - Водой не угостишь?
Саша рассмеялась:
- Не жалко! - и вынесла им целое ведро воды.
- Налетай, ребята! Промочите свои глотки!
Командир, улыбнувшись, подошел к Саше. И неожиданно сказал:
- Ну, здравствуй! Долго же я тебя, однако, искал.
Саша смутилась - этот парень отличался обаятельностью. Смех заискрился в ее глазах.
- Почему ж долго искал?
- Долго, долго.
- Но нашел же все-таки!
- Обязательно, - ямочки на щеках молодого командира как-то не вязались с его мужественным загорелым лицом. - Мечту имел: кто вынесет мне целое ведро воды, тот и осчастливит.
Александра звонко рассмеялась:
- А если бы старуха вынесла?
Лукавые огоньки забегали в глазах командира:
- Не-е, старуха бы этого не сделала, не донесла бы.
- Ну, а если мужик тогда?
- А что мужик? Он бы до этого не додумался. Все же женщина сердобольнее.
- Ишь, - Саша вновь улыбнулась, - умник какой! Разговорчивый мечтатель. И откуда ты такой взялся?!
Парень с готовностью ухватился за нечаянно вырвавшийся вопрос:
- Из соседнего хутора. А зовут меня Саша.
Девушка округлила глаза и не сразу нашлась, что ответить. Тихо промолвила:
- А это еще к чему?
- Как к чему, все к одному, раз ты спрашиваешь, откуда я взялся. Вот я и ответил. Даже могу добавить - от папы и мамы появился, как и обычно, но их не помню, в приюте воспитывался.
- Слушай, - она обратилась к молодому командиру, - какой ты прыткий! Между прочим, меня тоже Сашей зовут.
- Во, - командир разулыбался, на щеках появились ямочки. Он вскочил на коня - его уже ждали. - Значит, судьба! - и уже отъезжая, крикнул: - Саша, жди, я еще вернусь к тебе!
А она ответила:
- Если не вернешься - воды не дам!
И сама поразилась абсурдности своей мысли: ясно ведь, что если он не приедет, то ему и не потребуется вода.
Он появился через три дня, ранним утром в воскресенье. В буденовке, в гимнастерке с галунами, но без оружия. И сразу храбро постучал в дверь. Открыла ему Фаина - в удивлении она вытаращила глаза от вида бравого вояки и горестно подумала: «Эх, уже пришли и за мной!». Но молодой «вояка» и не пытался арестовывать ее, лишь смущенно спросил:
- Саша дома?
«Эге, - смекнула про себя Фаина, - если так пойдет, то нового зятя приобрету скоро».
И она широко распахнула двери перед гостем:
- Заходи.
Александр неторопливо зашел и сразу же взглядом встретился с Сашей. И пропала вся его боевитость, утонул он в широко распахнутых глазах девушки...
А будущая теща суетилась вокруг него, ублажала, веселила, напоила чаем и накормила блинами. И надо же было Александру неосторожно обронить: «Как у тещи на блинах», как Фаина мертвой хваткой вцепилась в него.
- Пойдем, - шепнула на ухо растерявшемуся парню Александра, - погуляем лучше, а то она заклюет тебя совсем. Она такая, дотошная!
Они сидели на крутом берегу небольшой речушки, которая в летнее время и без того становилась мелководной, и говорили. Саша поинтересовалась:
- Как ты без родителей воспитывался?
- Без них. Я ж тебе в тот раз говорил, что в приюте.
- А я думала неправду говоришь.
- Почему? Я тебя не обманывал. До революции мотался по приютам, а в гражданскую уже был сам себе хозяин - ютился, где придется, воровал, как и тысячи моих сверстников, выброшенных войною на улицу.
- Саш, а ты воевал?
- Пришлось, - об этом он говорил всегда скупо.
- Расскажи. Вот интересно.
Александр рассмеялся:
- Да что тут интересного? В двадцать первом году махал шашкой в песках Средней Азии. Басмачей вырубал.
- А у меня по-другому. Ты знаешь, что я дочь кулака?
- Ну и что же? Дочь за отца не в ответе.
- Это ты так считаешь, а хуторе наоборот.
Александр усмехнулся:
- Не я так считаю, это моими устами говорит Советская власть. Вот как.
Теперь они встречались часто. Александр, служивший в Красной Армии с 1921 года и бывший уже командиром эскадрона, был лишь на год старше Саши. Почти девять лет он отдал службе, но сейчас решил, что надо идти работать в колхоз. Хотелось пожить спокойно, без воинских забот, обзавестись домашним очагом. Он так и сказал Фаине, что увольняется в запас и просит руки ее дочери. Наступила тягостная тишина, которая недоумевающе подействовала на Александра.
- А что, Александр, - осведомилась Фаина, - тебя со службы выгоняют?
- Почему вы так считаете?
- Но ваше решение...
- Вот именно, мое решение. Недавно у нас был разговор с комполка, он добивается моего назначения на командование сотней. Разве это плохо? А вы считаете, что меня гонят со службы.
- Тогда почему вы уходите из армии? Может, начальству не понравились?
- Нравлюсь, - глаза Александра сощурились. - А что, собственно, вас смущает?
- Как? Мы разве не имеем права узнать, чем вы собираетесь заняться дальше?
- Можете, но я, по-моему, ясно сказал в начале разговора, что собираюсь вступить в колхоз.
Для Фаины прогремел гром. Но она была вынуждена молча согласиться - ведь надо же было устраивать счастье своей дочери. Когда молодые остались на время одни, Александр угрюмо спросил:
- Саша, а твое мнение каково?
Она пожала плечами.
- И все же? Отрицательно относишься?
- Да. Я не пойму, зачем ты так делаешь. Боишься за меня, что я не вынесу всех тягот и переездов?
- Нам надо обоим работать.
- Но Александр, и в доме ведь нужны руки - одна мать не успеет. Надо дом содержать в порядке, следить за хозяйством.
- Гуси и коровы, что ли? - резко спросил Александр. - А что, если их разогнать?
- Ты думаешь, нам не надо хозяйства? Подспорья...
Александру уже не хотелось спорить - понял он, что проиграет в словесном поединке. И на время смирился, любовь была сильнее.
В конце 1929 года Александр Клинов уволился в запас и поступил работать в селе. Его сразу назначили бригадиром, а в начале следующего года сыграли их свадьбу с Александрой. Вот что получилось из-за ведра воды.
Клинов оказался деятельным человеком. Как коммунист, он в содружестве с другими партийцами помогал вставать колхозу на ноги, а в свободное от колхозной работы время строил себе дом. Для чего? Ведь он мог жить в большом доме Фаины. Но Александр решил полностью отсоединиться от тещи, ведь она ясно дала понять, что не потерпит вмешательства в ее дела. А Клинов молчать не мог, не позволяла партийная совесть. В том же году Саша родила ему сына. И вовремя! Многие из хуторян гуляли тогда на празднике рождения сына Клиновых и их вселения в новый дом.
Клиновы оказались соседями Марьи Крушинской. И их маленький Витька подружился с дочерью Марьи. Жили хорошо.
Саша сказала мужу, что первый год работать она не сможет - надо смотреть за ребенком. Александр молча согласился.
«Что поделаешь, - подумал он, - надо так надо. И она права, теща ведь не пошевельнет пальцем, чтобы как-то помочь нам. Занята огородом, торговлей и нет ей дел до других, тем более до колхозной работы. Да и оправдание насчет последнего у нее крепкое: мол, работают же в колхозе мои дочери и зятья, могу я в таком случае и спокойно отдохнуть. Видно, навек в своем эгоизме завязнет...»
В тридцать втором году в семье Клиновых родился второй ребенок - дочь, которую назвали Валентиной. Снова выход Саши на работу был отложен. Но прошел год, второй, третий, а Саша и не помышляла трудиться в колхозе.
«Заело, - с горечью размышлял Александр. - Погрязла в домашних делах, точнее в нежелании работать. Копия матери. И все же я был неправ, когда говорил, что дочь кулака за отца не в ответе. Правильно, не отрицаю, любит Саша работу, но только домашнюю».
Когда он попытался сказать это жене дома, она устроила скандал:
- Недоволен? Может, ты недоволен и тем, что приходишь всегда в чистый дом, что всегда для тебя готово поесть, что ты обстиранный и поглаженный, что за детьми есть присмотр? А-а-а?
Александр пытался возражать, говорить, что она не так поняла его, но Александра взорвалась:
- Все, хватит, недоволен - не надо. Вообще ничего делать не буду! Что Александра??? Надоел ты мне своими коммунистическими разглагольствованиями. Попытайся прожить на свои идеи!
Правда, готовить обед, стирать и прочее она не перестала, но вела себя так, будто Александр в доме лишний. Он начинал тяготиться.
Весною 1937 года по обвинению в заговоре против правительства и, соответственно, как заклятый враг народа, был арестован муж Анны - Анатолий Прокофьев. Был он не первый, покинувший хутор по такому обвинению. Покинувший хутор... Как-то странно говорить это, видя, как за осужденным приезжает машина, из нее выскакивают вооруженные люди в тужурках и врываются в дом. И хоть арестовали Прокофьева ранним утром, народу собралось много. Царило недоумение, но кое-где пробивалось и злорадство: допрыгался Анатолий.
И хоть «допрыгался» Прокофьев, даже в то утро враги этого человека называли его не иначе, как Анатолий - таково уж было всеобщее уважение к парторгу колхозной партячейки. Но почему ж тогда его забирают? Высказывались разные догадки, но одна из них, как наиболее «верная», медленно, как гадюка, расползалась по собравшимся в то утро около дома Фаины людям:
- Забирают потому, что стал кулацким отголоском!
И обрастало сведениями:
- Прикрывался личиной партийца, а сам собирал вокруг себя таких же. Говорят, оружие у него нашли, много...
С заложенными назад руками из дома вышел Прокофьев, сопровождаемый двумя энкэвэдэшниками. Остановился, широко расставив ноги, и зорко осмотрел собравшихся.
- Что собрались? - раздался его спокойный голос. - Расходитесь, товарищи, работать - колхоз должен жить. И запомните этот миг, подумайте, как дешево стоит жизнь оклеветанного человека в данное время.
Хмурый капитан, стоявший у закрытой машины, угрюмо промолвил:
- Ладно, хорош агитировать. В машину его!
Но Анатолий отстранился от стражей порядка и сам шагнул к машине.
Анна обвисла на руках матери. Дикий крик вырвался из нее, и она забилась в истерике. Рядом жался сын. А Фаина, державшая дочь, в оцепенении думала: «Опять рушится моя безоблачная жизнь. Одного угнали в Сибирь - еле выкрутилась. Теперь второй что-то натворил. И кого, кого пригрела у себя в доме? Гадюку!»
Кого пригрела? Анатолий Прокофьев, на хуторе пришлый, имел за плечами славную биографию. Одна тысяча девятисотого года рождения, ему выпала доля пройти гражданскую войну от самого ее начала до последнего выстрела на войне с белополяками. Большевик с 1920 года, верный сын партии. И... враг народа с 1937 года.
«Все ли здесь ладно? - задавал каждый из колхозников себе вопрос. - Враг народа. Да быть не может, тем более знаем его добрый десяток лет. Ну а вдруг? Ведь там, сверху, виднее. А не лучше ли сейчас помолчать, чтобы не попасться в бешено крутящуюся мясорубку...»
По-другому думал Александр Клинов. Он, выбранный вместо Анатолия парторгом, был возмущен.
- И куда смотрят эти люди, когда хватают таких, как Анатолий. Они что, с ума посходили?
- А ты потише ори, - обозлилась его жена Александра, - а то и тебя сцапают. Я давно уже поняла, что в мире надо различать только два цвета - черный и белый. Черный - дела хуже некуда, белый - живи и радуйся, что впереди тебя не маячит зловещий черный цвет.
- Интересно, - Клинов резко остановился. - Ну а другие цвета ты признаешь?
- Другие? А зачем? И надо ли? Ведь другие цвета - это самоуспокоение, мираж, блеф, самообман.
- Н-да, грамотная ты стала в последнее время. Меня поражает, где ты такой дряни нахваталась?
- А у тебя. Правда, только то, что посчитала нужным позаимствовать.
- Саша, неужто ты такая близорукая? А красный цвет? Наш багровый флаг страны! Говорит он что-нибудь тебе, красный цвет?
- Это все условности, - устало отмахнулась Александра.
- Так почему ж тогда в гражданскую были такие условности - красные и белые?
- Это означает то же самое - черное и белое.
Клинов вскипел:
- А остальная бандитская братия тех времен - кто они тогда, эти зеленые и синие?
- Это? Опять же недоразумение, дальтонизм политических взглядов атаманов, - Саша щеголяла умными выражениями. - Но согласись сам, что в таком случае черное и белое - превосходящие цвета.
- Так что, следуя твоей логике, белые - признак добропорядочности?
- Да...
- А черный цвет - это красные в гражданской войне?
Она помолчала, подыскивая ответ:
- Я скажу лишь единственное, что черный цвет - это зло и несет с собой горе. Слепой не видит мир перед собой, надвигающаяся тьма душит дневной свет.
- Пустое сравнение! Та же наступающая тьма несет влюбленным радость.
- Или позор поруганной чести, - отпарировала Александра. - Но этим можно заниматься и днем.
- Днем? А не кажется ли тебе, что это не слишком умно...
- Почему же?
Клинов смотрел на свою жену и думал: «Вот так она всегда - идет по жизни, полная гордого самолюбия, сознания своей правоты. Она благоговеет перед чувством собственного достоинства. Что ей дело до других?»
И вслух спросил:
- Значит, можно и днем?
- А что же?! - она усмехнулась. - Если может, то и днем.
Он зло взглянул в ее глаза и шагнул к ней. Через секунду она уже лежала на постели. А еще через полчаса она, оправляя измятые одежду и волосы, придушенно, но довольно говорила:
- Ну и силен же ты. Не ожидала такого удовольствия в такой серый день. Думала, только ругаться будем, а ты, - она рассмеялась, - осчастливил меня!
- У-у, кошка, - тихо процедил сквозь зубы Клинов, что вряд ли она его услышала, и вышел.
Спустя три дня арестовали директора местной школы. Ему были предъявлены еще более серьезные обвинения. И вскоре до населения хутора докатилось, что директор приговорен к расстрелу. Директор школы, старый испытанный коммунист, был четвертым по счету, арестованный НКВД и обвиненный в измене народу. Клинов ждал своей очереди.
«А как же? - думал он с горечью. - Следующим, видно, должен быть я, раз подгребают под метелку преданных людей. И это именно нас обвиняют в измене, нас, отдавших Родине лучшие годы жизни». Но Александра, как он того не ожидал, не взяли, оставив в покое.
Горе нависло над Анной Прокофьевой. Угнетенная не только безвестной участью мужа, но и угрюмыми настороженными взглядами односельчан, она металась в лабиринте беспомощных мыслей. И лишь подрастающий сын служил ей слабой и беспомощной опорой, но именно благодаря ему она и не помышляла с горя утопиться в речке. А такое подчас приходило в ее воспаленный мозг. Поддерживал Анну чем мог в такие периоды Клинов.
- Перестань, Анна! Неужто ты веришь такому бреду? Твой Толя предатель? Вспомни, он хоть раз приносил вред какой колхозу? Нет. Ну, а в чем же дело...
Неодобрительно смотрела на его посещения Фаина. «Одной ногой уже в НКВД, - думала она, - а еще браваду наводит. И так тошно, а ему хоть бы хны!»
Прошел месяц, второй. Потянулись дни. Больше никого не забирали. Хутор приумолк - стало забываться недавнее. И уже на Анну стали смотреть мягче - всё ж свои люди, в одном хуторе живем. Но сторониться ее по-прежнему сторонились.
Неожиданно через хутор потянулись воинские части. Хуторяне переполошились: «Что, война?» И враз были разобраны товары в лавках и магазинах, начали припрятывать дорогие вещи. Но тревога оказалась напрасной - война с черным Гитлером, ожидаемая со дня на день, еще не наступила. А войска шли и шли. Но двигались они для осуществления священной цели - освобождения Западной Украины, территория которой была незаконно отторгнута от революционной России Пилсудской Польшей.
Немного раньше этого события был подписан долгожданный пакт о ненападении между фашистской Германией и Советским Союзом. Хуторяне вздохнули с облегчением - границы отодвинулись подальше, соглашение свидетельствует о нескольких гарантированных счастливых годах. Чего еще более? Пожилые люди успокоились, но старики хмурились - они отлично помнили немцев первой мировой войны, особенно те, которые воевали с ними. А молодежь беспечно распевала по улицам, уверенная в себе и в тысячах таких же, несущих сейчас груз военной службы:
И от тайги до британских морей
Красная Армия всех сильней!
В том, 1941 году был обильный урожай. Гнулись под тяжестью колосья ржи и пшеницы, многие из хуторян мечтали перекрыть осенью крыши своих домов соломой нового урожая, початки кукурузы тяжелели в могучих стеблях, фасоль зеленым плащом покрывала землю.
Хороший был урожай... Но снять его помешала война.
Немцы полудугой охватили остатки роты лейтенанта Александра Клинова. Но этот видавший виды человек крепко помнил наказ комбата - любой ценой сдержать натиск противника. Ибо если враг сомнет бойцов Клинова, он зайдет в тыл батальону. И тогда две с половиной сотни бойцов - все, что осталось от батальона после изнурительных боев - попадут в окружение.
На левом фланге роты, на бугорке, расположился пулеметный расчет. Только благодаря ему потрепанная рота лейтенанта еще держалась. Но когда из небольшой рощицы, что была на противоположном фланге, стала выкатываться цепь немецкой пехоты под прикрытием танков, Александру показалось, что сейчас-то ему несдобровать. Лиха беда начало! И в тот же миг в десяти шагах от лейтенанта разорвалась мина.
Это была четвертая за день атака немцев на роту Клинова. Трижды гитлеровцы откатывались на исходный рубеж, и трижды на позиции лейтенанта обрушивался шквал огня, стали и смерти.
Перед глазами офицера стоял туман и казалось, что никакая сила не сможет его привести в сознание. Но он уже чувствовал, как за руку трясет его ординарец Ваня Зотов, рослый девятнадцатилетний парнишка.
- Сейчас, сейчас, - бормотал Клинов, неестественно медленно протирая глаза. - Сейчас я встану. Минуточку, - он поднялся. По его щеке вниз, к подбородку, алой струйкой текла кровь.
- Счастливый вы, - чуть слышно проговорил Ваня, - рядом садануло. Я к вам, думал, конец. Но вы живучий, - Зотов говорил и в то же время незаметно протискивал свою руку в подмышку лейтенанта. Клинов не возражал - ему было дурно, тошнило. Перед глазами плыли круги, а в ушах периодически звенело, будто постукивали невидимые колокольчики.
Бруствер окопа разворотило. Наконец, когда пелена с глаз спала, Александр цепко вгляделся в наступающую лавину немцев. Было даже слышно, как лязгали танки. «Близко уже», - подумал Клинов и, не услышав знакомого перестука пулемета, обернулся к Зотову: - Ваня, почему пулемет замолчал?
Ординарец пожал плечами и побежал к окопу. Назад он прибежал минут через десять, когда уже кончился обстрел и началось непосредственное отражение атаки.
- Что там? - нетерпеливо спросил Клинов, не отрываясь от оружия. Винтовка в его руках дергалась, изрыгая огонь и выбрасывая в сторону горячие стреляные гильзы.
- Второй номер убит, - быстрым шепотом сообщил пригнувший голову Зотов. - Я сказал командиру третьего взвода, чтобы он выделил человека и внимательно следил за пулеметом.
- Правильно, - не то для себя, не то подтверждая правоту слов Ивана, сквозь грохот прокричал Клинов, - так их! - Зотов, передернув затвор винтовки, примостился рядом с командиром.
На левом фланге, нетерпеливо рыча, отплевывался огнем пулемет - надежда и опора роты. Но весь удар немцев приходился сейчас на правый фланг, где так необходимого в эту минуту пулемета не было. Красноармейцы, однако, держались стойко. Загнав немцев в небольшую балку, они не давали буквально поднять им головы - попробуй, поднимись, если хочешь получить в лоб пулю. Но немцы ползком, перебежками ухитрялись метр за метром придвигаться к позициям роты. Там, где они ползли по полю, было видно, как качается срезанная пулями рожь. И все бы ладно, если бы остановившиеся в нерешительности сзади них танки не зарычали снова, загудев моторами. Три бронированных зверя с интервалом в двадцать метров в ряд поползли вперед.
Клинов почему-то больше полагался на левый фланг, но тут с удивлением увидел, что и правый фланг силен и может еще дать неприятелю должный отпор. Перед одним из танков, который не дополз до окопа чуть более тридцати метров, всклубился столб взрыва, перед ним едва различимым силуэтом распростерся боец первого взвода. Александр знал его хорошо и поэтому добрых полминуты смотрел на красноармейца. Но смельчак, сраженный шальной пулей, продолжал лежать недвижно. У подбитого танка взрывом была сорвана гусеница. Тяжелым рубчатым змеем она рассыпалась по перепаханной земле. Танковая пушка не сдавшегося экипажа грозно опускала свой хобот. Последовал выстрел. В упор, вплотную, и разметалась по воздуху земля, дерево, несколько жизней. В этот момент лейтенант мельком увидел, как встрепенулся солдат около подбитого танка. Что дальше было - Клинов не понял, лишь заметил новый клуб взрыва. Когда рассеялся дым, из него вдруг прямо на окоп лейтенанта выдвинулся, лязгая гусеницами, второй танк.
«Проклятый ветер! Затемнил всю опасность!» Но предпринять что-либо было уже поздно - вжавшись в дно окопа, лейтенант обхватил голову руками. Рядом примерно в такой же позе лежал Зотов. Железная махина остановилась над ними и начала утюжить окоп. А третий танк, чего не видел Клинов и что ввергло бы его в смятение, неожиданно, в один прием проехался по пулемету, сплющил его в лепешку, по ходу дела раздавив пулеметный расчет, и двинулся вглубь уже незащищенных позиций. Два пулеметчика до конца выполнили свой долг, отсекая пехоту от бронированного прикрытия.
Над головой стало светло - танк прошел. Лейтенант, полузадавленный землею, заметил, как Зотов тут же вскочил на ноги и, широко размахнувшись, одну за другой швырнул две противотанковые гранаты. И хоть танки отошел далеко, для такого здоровяка, каким был Иван, не представляло особого труда поразить цель. «Заранее готовил гранаты», - мелькнуло у лейтенанта, и тут же он услышал взрывы. Клинов не видел, как загорелся танк, как огонь, чадя, начал лизать его башню - подкошенный автоматной очередью Зотов ткнулся в дно окопа лицом вниз. По спине его гимнастерки начало растекаться багровое пятно. А через минуту перед только что вставшим на ноги Клиновым вырос немец в грязно-зеленом мундире и с автоматом наперевес. Они схватились врукопашную, не успев применить каждый свое оружие. Немец оказался здоровяком, но и тридцатисемилетнему Александру было еще не занимать силы. Однако молодость и наглость немца и еще то обстоятельство, что Клинов поскользнулся в окопе, перевесило чашу борьбы в пользу молодого вояки - вцепившись в горло Александру, он с силой сжимал его. Слабеющими руками лейтенант пытался оторвать немца, но тщетно - руки скользнули вниз и - о, спасение! - наткнулись на нож за голенищем немца. На последнем исходе сил Клинов всадил острый клинок в бок противника. Тот охнул и с оскаленным лицом отвалился вбок.
На всем протяжении окопа кипел ожесточенный рукопашный бой. Отвага красноармейцев возымела свое действие - немцы выброшены вон, и очередная, четвертая их атака снова заглохла, наткнувшись на несгибаемую волю бойцов Клинова. Вечером лейтенант получил приказ отступить вместе с батальоном.
И вот оставшиеся в живых сто семьдесят солдат бредут в ночной тьме, на ходу огрызаясь от наседавшего врага, преследующего батальон по пятам.
Через два дня тяжелого отступления прервалась связь со штабом полка. Теперь полторы сотни солдат брели как неприкаянные. И вскоре случилось самое страшное - отрезанный от остальных частей, батальон попал в окружение.
Колонна измотанных, усталых бойцов тянулась по проселочным дорогам, полям, лесам. Эти серые пропыленные лица уже начали грезиться Клинову: только он закроет глаза - а сон подчас их смыкал насильно - и будто наяву виделись заросшие обветренные скулы, запавшие затравленные глаза, набухшие шинели и вереница людей, которым, казалось, было все равно. Сон сковывал бойцов на ходу. Время от времени заснувший боец на ходу валился в пыль, грязь, под ноги слепо идущих за ним бойцов. Образовывался завал, который можно было «разобрать» только угрозами и матом. Шуток не было слышно давно. Батальон, крадучись, словно мышь, - хотя какая это мышь - шел притаившись и в основном по ночам. Бойцам не разрешали курить и даже на привалах разжигать костры. Однажды командир третьей роты (он да еще Клинов остались лишь из ротных) сорвался и хриплым голосом стал материться:
- А так их разэдак! Да я что вам, лошадь... что ли? Дайте мне по-человечески отдохнуть, а потом уж требуйте всего!
Комбат хмуро осадил его:
- Что разнюнился? Один ты, что ли, такой?! Оглядись вокруг! - суровые набрякшие глаза комбата с синими обводами смотрели строго. - Дисциплину армейскую забыл? А что будет, если и солдаты забудут ее? Но они ее не забыли, так кто ж тебе, подлец, дал право забыть свой долг перед Родиной?!
И таким страшным был сейчас осипший голос командира батальона, что комроты побледнел, солдаты вокруг виновато подтянулись. А комбат, кадровый офицер, донельзя выведенный из себя, лишь сейчас спохватился, что выговаривает офицеру при рядовом составе. «Поймет, должен понять. И не обидится», - подумал комбат, а вслух сказал:
- Я же знавал тебя в бою отчаянным человеком, так не уподобляйся же деревенской бабе! Теперь... вперед!
Остановившаяся было колонна снова гулко и мерно зашагала.
На третий день перехода авангард батальона наткнулся на засаду. Когда впереди раздались выстрелы, комбат, находившийся в середине колонны, забеспокоился и побежал вперед.
Это была не засада, а арьергард румынского батальона, совершающего марш на фронт, что комбат понял по крикам неприятельских солдат и их форме. Надо же, когда до линии фронта осталось подать рукой, случись такое. Короткие перестрелки слились в единый неразрывный гул.
Клинов находился во второй линии обороны, или наступления - сам черт не понял бы сейчас, - когда по цепи ему передали, что его вызывает комбат. Командира он нашел около какого-то бугорка. С придыхом, заглушаемый автоматными очередями и винтовочными выстрелами, комбат быстро заговорил:
- Клинов, голубчик, тебе опять придется взяться за опасное дело.
Лейтенант взглянул с опасением на командира: что опять тот замыслил? Комбат был на добрых полдесятка лет младше Александра, и хоть держался с Клиновым как со старшим по возрасту и выказывал к нему уважение, частенько называя его по имени-отчеству (в обыденных случаях), дистанцию, однако, держал железной рукой. И вот сейчас в его голосе звучали начальственные нотки. Клинов выслушал его спокойно - душа противилась будущему испытанию, предначертанному властным комбатом, но приказ есть приказ. Ведь именно он был спасением потрепанного в боях батальона.
Клинову вспомнился военкомат, военком и члены призывной комиссии. Казалось, это было давно, не месяцы назад...
- Служили? - Спросили тогда Александра.
- Пришлось. Девять лет отдал.
- Верно, - подтвердил военком, заглянув в анкету. - С оружием знакомы, надеюсь, не забыли еще, что к чему?
- Такое не забывается, - просто ответил Клинов. - Знаком с шашкой, да и она со мной отлично знакома. Знаю пулемет, гранаты, коней. Видел пустыни и чувствовал многодневную жажду. Винтовку, спрашиваете вы? А как же - все время за спиной или жестким прикладом в моих руках. Нет, с автоматом не знаком. Но, думаю, освою, справлюсь.
- Бойцом служили?
- Зачем?! Комэском.
- А почему ушли из армии, когда вас представляли на должность командира сотни?
- Мирный труд больше влек.
- А людьми сможете сейчас командовать?
Клинов пожал плечами:
- Если надо, то смогу.
- В колхозе кем работали?
- Бригадиром.
Члены комиссии переглянулись - подойдет! И аттестовали на звание лейтенанта. С тех пор прошли дни, недели, атаки, бессонные ночи, а ответственность за судьбы людей продолжает тяжелым грузом лежать на плечах Клинова. И тогда, когда их эшелоном перебрасывали на фронт - а он, вот он, был уже рядом, - и тогда, когда над головой впервые засвистели бомбы, и тогда, когда батальон ввязался в тяжелые изнурительные бои.
Вечером в кромешной тьме сотня человек под командованием комбата снялась с временных позиций и повернула вспять, пытаясь уйти обходным маневром. А отвлечь румын должен был заслон лейтенанта Клинова. Снова судьба, как и в тот бой, возложила на него ответственность за судьбу батальона.
- Понимаешь, - объяснял ему комбат, - ты единственный, на кого я обязан возложить такую важную задачу, как прикрытие отхода основных сил батальона. Да и оставляю я тебе почти четыре десятка бойцов. Не так уж мало. А надежды на командира третьей роты у меня нет, нытик он, того и гляди расклеится. Понял, лейтенант?! Жалко, конечно, что лишаюсь такого офицера, как вы, но иначе невозможно.
«Единственный... обязан возложить... иначе невозможно...» - Клинов усмехнулся, перед ним выплыл образ его жены Александры, лица его детей - Вити и Вали. Сердце сжалось - увидит ли он их еще? Не шутка ведь - горстка людей против перепуганного и тем не менее озлобленного батальона румын. Особых шансов на спасение не предвиделось...
Батальон снялся и пропал во тьме, а через два часа румыны пошли в атаку. Сорок добровольцев, отчаянно согласившихся на этот подвиг, противостояли им. Они знали, что им будет нелегко, и что вызвались они на верную смерть. Впрочем, она ходила возле них каждую минуту.
Темнота еще более путала и без того неясную обстановку, и было непонятно, кому она больше на руку - красноармейцам или их противнику. Вскоре Клинов получил пугающую весть: левое крыло его позиций смято, там царит неразбериха и путаница. Откуда слышался вой, лязг оружия, протяжные вскрики, изредка освещали тьму багровые вспышки взрывов гранат. Перестук автоматных очередей не прерывался, в них вплетались винтовочные выстрелы.
Это было чудом, что сорок человек сумели запугать и внушить румынам страх: тем уже начало казаться, что им противостоит упорный неприятель численностью минимум в две-три роты. Но Клинов не тешил себя особой надеждой, понимая, что наступит утро и... это утро для них будет последним. Ползая от одного бойца к другому, он предупредил каждого, чтобы они сходились в его воронку.
- Будем уходить, - ободряюще добавлял он. - Свою задачу мы выполнили!
Очередную атаку румын они выдержали с трудом. Многие из бойцов Клинова замертво ткнулись лицом в холодную землю при ее отражении. Начинало уже сереть, когда оставшиеся в живых восемь человек бегом скрылись в лесу. Румыны их преследовали недолго. В числе восьмерых был и Клинов.
- Что будем делать? - спросил лейтенант, когда все они, задохнувшиеся от быстрого бега, собрались в чащобе.
- Приказывайте, товарищ комроты! - ответил сержант, как старший из остальных.
Но вот подал один из них:
- Тяжеловато будет нам без еды, табака и крова.
- Не на именины шел в армию, - оборвал его сержант. - Решайте, товарищ лейтенант.
Воцарилось тяжелое молчание. «А что делать-то? - думал про себя Клинов, окидывая взглядом бойцов. - Соединиться с основными силами своего батальона мы не сможем, маловато нас. И прав тот боец, сказав, что без харчей нам будет тяжеловато. С пустым желудком не очень-то навоюешь». Он поднял голову и глухо сказал:
- Вот что! Пока человек жив, он должен заботиться о своих харчах. А враг от нас не уйдет.
Бойцы, уже добром не евшие четыре дня, одобрительно закивали головами, поддерживая решение своего командира.
Но одно крепко засевшее решение зрело в голове Александра. Вслух высказывать его он боялся - могут не так понять. К вечеру солдаты поели, отдохнули, и тут Клинов ошарашил бойцов своим замыслом - уйти в лес и начать партизанить, иного выхода у них пока не остается. Все смотрели на него изумленно, но отнюдь не так недоверчиво, как то предполагал Александр...
А хутор затаился. Вечером через него еще тянулись советские войска. Угрюмо смотрели хуторяне, как их покидает последняя надежда, последние колонны красноармейцев. Сейчас на тракте было пусто. А утром в хутор ворвались немцы. Как победители, снисходительные и гордые своей очередной победой, они резали кур, ради потехи кололи коров, гонялись за девушками. И стонами огласился каждый дом, каждая хата.
Гитлеровцы похозяйничали в хуторе два дня и ушли. Наступило временное затишье, которое каждый старался использовать по-своему. Даже прижимистые хозяева и те поняли, что немцы несут не только новую эпоху обогащения, но и тяжелую кару неудачникам и вольнодумцам. Недобитые евреи, блещущие золотом при советской власти, теперь после погрома немцев стали тише воды, ниже травы, зарекаясь поддержкой всесильных хуторян и молясь своему богу. Русские и украинцы прятали свое барахло и оставшиеся ценные вещи. Кто был попредусмотрительнее и не так обременен совестью грабил колхозное добро и зарывал в землю, на хранение - авось пригодится, для выгоды, для пропитания, для будущего богатства, для выкупа. Хлеб - для себя и будущей спекуляции, золото - для наживы и на черное будущее.
Хутор замер, предоставленный самому себе. Подонки и пьяницы, бывшие в опале, поднимали головы. Из райцентра вернулись несколько осужденных из уголовников.
Хуторянам повезло - к ним на постой стали румыны. И хоть последние так же тщательно следили за порядком, они выглядели намного лучше перед своими союзниками-немцами: пороли, били, но расстреливали редко. А в соседнем городишке Бар, где стояли немцы, расстрелы не прекращались. И все же в одном румыны не отличались от немцев - так же грабили и обчищали несчастных хуторян, отправляя машинами фураж и продовольствие немцам. Все ж, как ни крути, румыны были вассалами Гитлера, хоть и называл тот их своими союзниками.
Не было ни в самом хуторе, ни около него ожесточенных боев и схваток. Как и в гражданскую войну, в хуторе не взорвалась ни одна мина и граната, только гремели выстрелы. И даже не горели хаты населения, не был разрушен и консервный завод, перерабатывающий фрукты колхоза и жителей в мирное время. Оккупанты заставили его заработать и расписали жизнь населения по часам: во столько-то вставать, идти-то туда, работать на полях, на току, на консервном заводе, вечером - обязательное затемнение, и во столько-то - уже не появляйся на улице, пристрелят без предупреждения.
Хутор знал горя поменьше, чем соседний городок Бар и райцентр, но времена настали тяжелые. Полицаи рыскали повсюду, гоняя народ за любую провинность.
На окраину, где жили Мария с дочерью и Александра с детьми, румыны заглядывали редко. Но Фаину настигло несчастье, не помогло и то, что ее муж был угнан большевиками в Сибирь и что даже муж дочери Анны репрессирован - дом понравился коменданту румынского гарнизона, и Фаина с дочерью и внуком были выброшены на улицу.
- Где же я буду жить?! - заверещала старуха. - Ироды! Думала, спасение принесете... Ждала вас. И дождалась.
- Молчи, старая, - перебил адъютант коменданта, ему было уже лет под сорок. - Иди к знакомым или же ютись в каком-нибудь сарае! - и он захохотал, довольный своей шуткой.
Анна, тупо смотревшая на эту сцену, потянула мать за рукав:
- Мама, хватит, а то беду накличешь! - но та ее не слушала.
Тогда Анна в сердцах бросила:
- Мать, хватит ныть. Пойдем к Марье или же к саше. Примут же они нас.
Адъютант, собирающийся уходить, неожиданно повернулся к ним, его заинтересовало сказанное Анной. А Фаина встала с колен и медленно поплелась к сараям, обронив на ходу: «В них буду жить, никуда не пойду».
Дочь уже собралась за ней, но была остановлена требовательным вопросом адъютанта. Румын плохо говорил на русском, но все же было понятно, что он требует. Анна, помимо своего родного украинского, хорошо знала русский - русачей в хуторе жило не так уж мало. Румын упорно требовал объяснить, кто такие Марья и Саша.
- Партизаны? - настойчиво допытывался офицер. - Нет? А кто же?
- Сестры, - устало ответила ему Анна.
- Сестры? Такие же старые, как ты? И мужья из Красной Армии?
«Вот дотошный», - с ненавистью подумала Анна, избегая взглядом румына. Офицер не отставал - видя, что его вопрос остался без ответа, он, ужасно калеча русский, с угрозой заявил:
- Идем мы к сестры. Пшли. Води меня. Я хотел видеть сестры. Они коммунисты, да?
- Да нет же, - объясняла снова ему Анна. - Они простые.
- Как про-о-остые? - румын заулыбался. - И хлебосольные?
- И хлебосольные?
- Пшли в гости. Покажи их дом.
И как ни отбивалась Анна от словесных атак офицера, открутиться ей не удалось. Пришлось покориться.
В первом доме, куда они поначалу постучались, хозяйки дома не было.
- Ушла куда-то Марья, - ответила Анна на недоумевающий взгляд адъютанта. - Сейчас к Саше зайдем.
- А это молодка, да?
Женщина подозрительно взглянула на румына:
- А что это вас заинтересовало? Не такая она уж и молодая, за три с половиной десятка лет перевалило.
Они зашли в хату Александры, которая была дома. Детей не было видно, то ли играли, то ли бегали где-то. Сама хозяйка, статная красивая женщина с тяжелыми крутыми бедрами и высокой, хорошо сохранившейся грудью, сидела в комнате, тупо уставившись в пол.
- Принимай гостя! - хмуро приветствовала ее сестра.
Румын сел на лавку и взглядом приказал уйти Анне.
- Иди, ты свобот-дна! - бросил он, видя, что та его не поняла. - Что сидишь? Па-нят-но?
Анна сверкнула зло глазами и вышла. Александра видела, как безвольно поплелась ее сестра по кривой улочке.
- Что вам надо, господин офицер? - в красивых бесстыдных глазах Саши забегал лукавый огонек. Говорила она по-русски.
- Пришел глядеть. Твой муж - официр? Сознавайся?
- Да что вы? Может и так, - сделав вид, что смутилась, тихо ответила Александра, - он, когда уходил, ничего не сказал.
Ее разбирала злость за внезапное вторжение румына. «Привела, - ругала она про себя сестру, не зная истинных причин. - Не подумала, и вот на тебе».
А румын ошарашил ее новым неожиданным вопросом:
- А муж твой красивый?
Саша вздрогнула и, чтобы польстить офицеру, сказала:
- Да вы красивее, господин офицер!
- О-о-о, - нежный взгляд адъютанта ласково остановился на изгибе женской шеи. - Я польщен. Говорят, вы хлебосольны...
«С чего взял? - Саша молчала. - Буду я таких гадов еще кормить! А, впрочем, офицеришка красив, но весь вопрос в том, сможет ли он заменить Александра? О, тот был неподражаем. Уж на что я ненасытна, но была им всегда довольна».
Саша окинула взглядом крепко сбитую фигуру румына, будто прицениваясь. Плоть ее задрожала от долгого воздержания. Ей не чужды были постельные радости, и она не понимала, почему ее муж придает им мало значения. Впрочем, надо подчеркнуть еще раз, здесь он был великолепен. Но уж слишком сдержан. Может, этот румын восполнит недостающее?
Александра выдавила из себя:
- Мало ли что болтают люди.
- Значит, не верь? - искаженный вопрос офицера с трудом дошел до нее. Она испугалась - румын со злости может натворить бог знает что - и ответила:
- Верно, хлебосольная я, рада гостям всегда.
Взгляд адъютанта просветлел, он быстро вскочил с лавки. Надевая фуражку, - при входе в дом он ее снял, чему немало поразилась Саша - он быстро проговорил:
- Можно, я вечером приду?
И не ожидая возражения, - он их не то что слышать не хотел, он их просто не ждал - добавил: «Я приду вечером».
Александра была обескуражена. Но делать что-то надо было. Она предупредила детей, - Витю и Валю - что ее сегодня ночью не будет, надо на работу, и посоветовала идти ночевать к тетке Марье (ее сестре и соседке).
«Почему на ночь? Может, я вечером еще откручусь от назойливого румына», - стучало в ее голове, но все тело, крепкое, гладкое и упругое, восстало против.
«На какую еще такую работу? Да еще ночную», - подумал про себя ее упрямый первенец Витька, но вслух не сказал ничего и лишь исподлобья посмотрел на мать.
Румынский офицер, как и обещал, заявился вечером. При параде, с кучей свертков, он подошел к хате Александры скрытно. А она уже ждала его. Сели за стол, посреди которого гордо красовалась бутылка вина, принесенная румыном. На тарелках лежали деликатесы, принесенные офицером, перемешанные с домашними соленьями Саши. Выпили поначалу немного.
Румын не собирался терять время даром. Подойдя сзади к Саше, он крепко поцеловал ее в шею, так что ничего не ожидающая женщина вздрогнула. Хотела было слабо ударить наглеца по руке, но в тот же момент почувствовала на шее холодок ожерелья.
- Это мой подарок! - гордо произнес офицер, нажимая на букву «о». - Зеленый цвет, мой любимый. Нравит-тся?
Да, ей нравилось, очень, тем более Александр не баловал ее подарками. Они выпили еще. Когда была опустошена половина бутылки, румын подсел поближе к Саше.
«Началось, - холодок пробежал по телу женщины. - Что я делаю?» Но она не могла уже управлять собой. Рука мужчины, расстегнувшая ей блузку и гладившая сейчас ее упругую грудь, повергла Александру в трепет. В волнении Саша сбилась на свой родной и лишь испуганно повторяла:
- Нэгидник ты! Тьфу, скаженный якийсь. Нэ чипай мэнэ.
Но румын плохо понимал ее, то ли от вина, а скорее от охватившего его возбуждения. Это передалось и Саше.
Они дошли до кровати и разом свалились в ее мягкие объятия. Руки офицера - а для Александры это были руки мужчины, но не оккупанта - скользили по ее одежде, расстегивая крючки, развязывая тесемки. Саша, сама того не замечая, помогала ему. И вот настали блаженные минуты - раскинув всем телом и закрыв глаза, она ощущала, как внутрь нее врывался «наглый» чужеземец. В такие минуты она напоминала затаившегося в засаде зверя: сделай оплошность - искусает. Но офицер, хоть и не слишком умелый в таких делах, сковал ее волю своим безумием любви. Он долго лежал на ней, измученный столь большим счастьем - в душе его рождалось невольное уважение к Александре. Первый день, а своими чарами, своими красотами она начала привораживать его.
Они встали, допили вино. Офицер с сожалением чмокнул губами:
- Маловато оказалось вина.
Саша в ответ усмехнулась: «Сейчас будет», - и закопошилась, нагнувшись в углу. Румын с вожделением смотрел на ее икры и округлые колени. Вот Саша нагнулась ниже - и он впился в нее взглядом.
Начали пить самогон, припрятанный Александрой. От него новоявленный кавалер Александры был в восторге. Он что-то лопотал на своем языке, а Саша лишь смеялась, ничего не понимая. «Ну скажи - яка добра та крепка горилка!» - заставляла она повторить офицера. Тот путался и все время сбивался.
Ночью, когда они снова сплелись в объятиях, румын заплетающимся голосом, здорово искажая слова, пообещал Саше, что после войны будет жить с нею. Она не поверила, но у нее вырвалось: «Колы настанэ кинэц ций проклятий...» Он не понял, что она говорит о войне, попросил повторить, она в ответ отмахнулась рукой и отвернулась к стенке. Но видно до румына все же дошел смысл, он напыжился - и, смех - даже голый, здесь, в постели, вообразил себя боевым офицером.
Уже засыпая, Александра повторяла про себя: «Червона Армия разгромлэна. Вона бильше нэ иснуе». Как заклинание она повторяла: «... больше не существует». И вспыхивала: «Брешешь, гад!» Но вера ее в победу была подорвана. Сейчас ей чудилось лишь одно - серая життя (жизнь), рабская покирнисть (покорность), злыдни (нищета, голод).
С румыном они спелись - точнее, жизнь заставила ее пойти на связь с офицером, чтобы избежать хоть в коей мере тяжесть оккупации. Знали про эту связь в хуторе немногие - каждый был занят самим собою.
Комендант издал указ, согласно которому все взрослое работоспособное население должно выйти на поля и убрать хлеб, столь необходимый для нужд третьего рейха. Следили строго. И какое было дело оккупантам до того, что и дома крестьянок ждет работа, голодные дети. Вот как хочешь, так и выкручивайся.
Мария приходила с полей усталая, измотанная. Отдохнуть бы, лечь спать, а тут надо печь хлеб, благо, что зерна еще немного оставалось. И тут ей пришла в голову дикая мысль: «А что если так как делают другие люди - не пойти на работу, а упрятаться в подпол, рожь... мало ли где найдется укрытие. Спечь хлеб, а дочь посторожит. Если тревога, она предупредит, и я успею скрыться». И на следующий день Марья на работу не пошла и занялась выпечкой хлеба, а четырнадцатилетняя ее дочь играла на улице. Мать дала ей наказ:
- Если увидишь мадьяр, то предупредишь. Только смотри в оба.
Но видно девочка заигралась или просмотрела, и когда очнулась из своей детской задумчивости, было уже поздно - румын стоял рядом. Бледность покрыла лицо девочки, она сорвалась с места и побежала к дому. Крик пронесся по пустынной улице: «Мама, прячься!»
Но румын оказался быстрее - взбешенный, с плеткой в руках, он ввалился в горницу и увидал около печи застывшую от испуга пожилую женщину. Солдат с досадой замахнулся плетью - он думал, что здесь кто укрывается. Под неминуемым ударом, который, казалось, вот-вот последует, Мария сжалась, дочь ее громко заплакала. Но румын не ударил, лишь долгим взглядом окинул убогую обстановку хаты и ее обитателей. Опустив плетку, он глухо сказал на чистейшем русском:
- Твое счастье, что у меня бегает такая же. Но ты пойми, глупая баба, что и от нас немцы требуют повиновения.
Он гулко хлопнул дверью и вышел. Опешившая Марья, застывшая в неудобной позе, ожидала всего, только не этого. С тех пор ее охватил такой страх, что она ни разу не пропускала невольничью полевую работу.
Пришла черная пора и для Фаины. Много было у ней золота, но уж слишком мало зерна. И ясно, что сейчас лишь одно спасение - в хлебе. Скрепя сердце, она ночью извлекла золото из левого угла дома. Пугало не то, что ее могут застичь - слава Всевышнему, прожила она немало, шестой десяток идет к завершению, - а то, что золото это, годами накопленное, уйдет в карманы чужих людей. Половину запаса золота она перепрятала, а вторую начала менять на зерно. А такие люди, что меняли хлеб на золото, в хуторе имелись - огромным потоком к ним стекался желтый металл, кольца, серьги, браслеты и от простых сельчан и главным образом от евреев, которых еще немало осталось от времен первоначального погрома немцев.
Поднимали голову партизаны. Налеты их на мелкие гарнизоны, фуражиров становились более агрессивными и отчаянными. Добрались народные мстители и до хутора. Однажды они, проникнув в дом хуторского головы, устроили ему суд и вздернули предателя на клене. Подонки и подпевалы оккупантов начинали трястись от страха перед «лесными разбойниками». Чтобы как-то успокоить их, а заодно и устрашить население, комендант издал приказ, в котором говорилось, что за укрывательство партизан виновные будут расстреляны. Не помогло.
Стояла темная ночь. Из лесу тенями метнулось шесть человек. То народные мстители снова выходили на операцию. Затаясь, они пробирались по улочкам хутора к намеченной цели. Остановившись под плетнем, старший группы прошептал одному из своих помощников:
- Ты бачишь тою хату?
- Бачу, - так же тихо послышалось ему в ответ. - А чья це хата?
- Петра Каминского.
Тот, кому это говорили, бесшумно отделился от плетня, перемахнул через него и, пригибаясь, побежал к крыльцу дома. Он был заранее предупрежден, что надо делать. Остальные пятеро так же молча последовали за ним и, стараясь остаться незамеченными, затаились рядом во тьме.
Командиром шестерки был Александр Клинов, вот уже около года находившийся в рядах партизан. И как-то уж получилось, что дороги войны вели его не на восток, к своим, а на запад, все глубже в тыл врага, пока не оказался он с месяц назад в родных местах. Жену свою он еще не видел, слышать пока ничего не слышал, даже не представлял, живы они или нет.
Партизан постучал в дверь и, когда за ней раздался шум, приглушенно заорал: «Открывай, украинская сволочь! Немцы, с обыском!» Хозяин дома слишком поздно понял обман - все шестеро с автоматами наперевес уже были в горнице.
Клинов мрачно смотрел на этого человека, сколачивающего богатство на горе односельчан. «Кому горе, - подумал он, - а кровопийцам радость!»
И без предисловия приступил к делу:
- Вот что, Петр, наслышаны мы о твоих делах. Верные люди, а такие еще не перевелись, передали, что у тебя скопилось много золота. Именем Советской власти оно реквизируется!
Каминский побелел и задрожал.
- Нет у меня золота.
- Врешь, гад! - вскипел один из партизан и шагнул вперед.
Его жестом остановил Клинов. Спокойным голосом, обращаясь к Каминскому, он заговорил:
- Тихо, Петр, не забывай - у нас в руках оружие. И, соответственно, выбирай - или пуля в лоб, или золото на стол!
Это было сказано так хладнокровно, отчетливо и с такой угрозой, что возымело свое действие. Через десять минут Каминский высыпал из маленького ведерка золото на стол. Желтый металл заблестел в тусклом свете коптилки. Клинов посмотрел на Петра и поймал его алчный взгляд. Усмехнулся. Но усмешка, скривившая его губы, тут же пропала, едва он услышал, как Каминский начал ругаться:
- Вы за это мне ответите! Перед богом ответите! Душегубцы!
- Замолчи, сволочь! - зло, с присвистом оборвал Александр. - Товарищи, кончать его!
И тут же, словно по команде раздался плач детей и тонкий бабий вой жены Каминского.
Петр не узнал Клинова, заросшего и злого в своей решимости прикончить этого «купчика». И висеть бы Каминского, не разжалобись остальные партизаны.
- Живи, падаль, ради детей сохраняем тебе жизнь! Но после войны все равно перед народом ответишь! А теперь стой и не вздумай орать нам вслед... - партизаны сгребли золото в кожаный мешочек, и ночная тьма снова заглотила их.
Дерзость, дерзость и еще раз дерзость! Партизанский отряд с грохотом ворвался в хутор. Румынский гарнизон временно отступил. Действующий консервный завод был разгромлен, продукты раздали населению. И снова ушли в лес.
Но не попользовались хуторяне добытым - заложили их, нашлись такие, которые положили вернувшимся румынам список, где напротив каждой фамилии стоял перечень взятых продуктов. И потянулись вереницы людей к комендатуре, где под строгим взглядом коменданта и дулами автоматов солдат сдавали все в склад. Писарь делал пометки.
Пороли тут же. Плети хлестали по спинам людей, кто больше взял - тот больше и получает, кто недодал - тот тоже ложится под плети. На расправу, ухмыляясь, смотрели из толпы несколько человек - благодаря их старанию происходила сия экзекуция. Этим доносчикам, среди которых был и Петр Каминский (потомок тех Каминских, что убили двух сыновей Петра Михайловича Крушинского, деда Марии, Анны и Саши), был прощен их грех, но надо полагать, что и они отхватили свою долю при разгроме консервного завода.
Хуторяне рано вздохнули, подумав, что еще дешево отделались. Не думали они, что в хутор по свежим следам партизан нагрянет карательный отряд немцев. Вот тут-то началось.
Командир карательного отряда сделал не так, как румыны. Он не стал посылать полицейских созывать население, его каратели просто-напросто оцепили хутор и... избиение началось. Прикладами, пинками, матом, угрозами действовали немцы, сгоняя хуторян к комендатуре. Гнали всех подряд - детей, стариков, женщин, мужиков. Упиравшихся пристреливали на месте.
Десять заложников, в основном мужиков, было продырявлено тут же, на виду у всех. Под автоматными очередями люди падали один за другим. Земля становилась под ними багрово-красной. В глазах наблюдавших хуторян застыл ужас.
Осуществив наказание виновных, немцы в тот же день начали наступление на партизан. Гремело два дня.
- Що цэ нимцы нышпорять по лисам? - спрашивали друг у друга бабы, встречающиеся у колодцев.
На третий день, под вечер, немцы снова появились в хуторе. Усталые, злые, они громогласно объявили, что партизан - лесных разбойников - больше не существует.
А партизаны, понесшие большие потери, вырвались из смертоносного кольца и, тяжело огрызаясь, сумели все-таки скрыться. Жизнь во временном лагере, казалось, замерла, до того люди измучились. Но после двух дней отдыха командир партизанского отряда приказал трогаться в путь. Снова потянулись в скором марше.
Новый лагерь разбивали недалеко от старого - была уверенность, что немцы еще не скоро сунутся сюда. В обустройстве и первых мелких вылазках прошло полмесяца. Вскоре Александра Клинова вызвали в командирскую землянку.
Тема разговора была важной и засекреченной. Присутствовали только трое: сам командир, комиссар отряда и Клинов.
Начал разговор комиссар. Обращаясь непосредственно к Клинову, он заговорил:
- Вы, наверное, еще не представляете, о чем пойдет речь. Хотя, может и догадываетесь. Как вы думаете, в чем трагедия людей, которым мы раздали продукты после разгрома завода?
Клинов пожал плечами:
- По-моему, ясно. Кто-то донес на них.
- Вот именно. Здесь и надо разобраться.
- Мне этим делом заняться? Я готов.
- Нет, - мягко остановил его командир. - Уже разобрались, правда не полностью. А ваша задача - наказать их. Именем Советской власти они приговариваются к смерти. Каким образом - ваше дело, в зависимости от обстановки.
- Товарищ командир, выделите мне двоих людей, и я отправляюсь.
- Только осторожнее, желательно без шума.
- Будет сделано. Когда можно выходить?
- Лучше всего сегодня вечером. Вот вам список приговоренных. Знаете их?
- Клинов пробежал глазами по фамилиям трех человек, значившихся в «черном списке», кивнул головой:
- Знаю. Я из местных, хаты их найду.
Комиссар скупо улыбнулся:
- Вот поэтому, товарищ Клинов, мы и остановились на вас. Можете идти.
Вечером в тот же день трое партизан прошли через дозоры по чуть приметной тропинке и через несколько часов залегли недалеко от хутора. Дождавшись кромешной темноты, трое бесшумно проникли в сам хутор. Метод «открывания» дверей был примитивен, но зато весьма прост и надежен. Стукнув несколько раз в дверь, Клинов сиплым голосом заматерился на немецком языке, а затем, услышав шаги в доме, добавил на ломаном русском: «Бистро открывать дверя! Немцы, обыск».
Казалось, слово «обыск» должно в мгновение ока сыграть роковую роль. Но вышла осечка. Хозяин за дверью, явно издеваясь, сказал на чистом русском языке:
- Немцев нет сегодня в хуторе. Вы - партизаны! Уходите, гады, у меня в руках оружие!
Клинов недобрым взглядом впился в дверь и вздрогнул. Но не растерялся:
- Achtung! Achtung! Ганс, беги в комендатуру за подмогой, здесь мятежники! А вы трое ломайте дверь, остальные - оцепляйте дом.
Сказано это было в спешке, на русском исковерканном - не такой большой знаток немецкого был Клинов, - да еще добавлено несколько ходячих военных выражений на немецком языке. Все словесное Александр закрепил двумя ударами рукояткой пистолета в дверь. И в ответ раздалось испуганное:
- Господа немцы, открываю!
Дверь начала отпираться и освобождаться от крючков, запоров, цепочек и до Клинова все доносилось: «Я не знал, что вы немцы! Я думал - партизаны, они так и бродят здесь».
Дверь открылась, и хозяин не докончил своего монолога - один из партизан быстрым движением всадил ему в сердце нож. И так же быстро выдернул. Изменник молча, без крика, рухнул на порог. На широком лезвии ножа задымилась кровь.
- Готов! - тихо заключил Клинов и шагнул в дом. На него застывшими глазами смотрела жена предателя.
- Ни слова, - тихо, грозным шепотом проговорил Клинов, - иначе будет худо и вам! Молчать до утра! - И серый призрак вышел, оставив женщину наедине с трупом.
Вторым был Федор Яворский. Предатель открыл сразу и был убит тут же, на крыльце. Партизаны в глухом молчании метнулись к третьему дому.
Клинов знал, что Петра Каминского всякой мишурой типа «обыск» и «немцы» сейчас не обманешь - предатель слишком насторожен. Что же сделать? Но удача была на их стороне. Прошло не более получаса, как они просидели в засаде (благо, что собаки во дворе не было, ее пристрелили немцы), и во двор вышел сам Каминский. Оглушить его и затащить в темный угол сарая было делом одной минуты. Теперь Петр мешком валялся на земле, а Клинов ждал, пока тот очнется. Александра торопили кончить предателя и поскорее уйти, но Клинов медлил - он хотел устроить суд доносчику. Не раз еще потом пожалеет об этом Александр...
Каминский очнулся и заметил того, кто уже раз грозил ему всенародным судом. В глазах заметался страх.
- Ты донес? - хмуро спросил Александр.
Ответа не последовало.
- Помнишь, иуда, тебя предупреждали. Опять за старое взялся? Но теперь не жди пощады. Прибьем как вшивую собаку.
Петр угрюмо скривился:
- Ты для меня представляешь лишь единицу. А немцев вон как много. Против них не устоишь!
- Устоим. Ты зря мнишь себя большой цифрой, вроде десятки. Впрочем, с одной стороны ты может и вправду десятка - из-за тебя расстреляны десять мужиков, - но с другой стороны ты десять без нуля, то есть обыденная личность, одна из предательских рож! Мерзавец!
- Все о морали толкуешь, коммунист! Посмотрел бы я, как ты запоешь в лапах у немцев, - зло огрызнулся Каминский. - Все о счастье народном мечтаешь? Да ты хоть жил для себя-то?
- Может и не жил, все отдал людям. И я доволен.
- А как же. Народ любит вот таких... идиотов!
Клинов побагровел, но внешне остался спокойным.
- Встань, гад! Украинский народ в нашем лице приговаривает тебя к смерти!
- Да ты и не украинец! - выкрикнул ему в лицо Петр. - Великоросс!
- Не ори, а то пристукнем! - шикнули на него.
- Все равно погибать!
Один из партизан выхватил нож, взгляд второго хищно впился в Каминского. Рука Клинова потянулась к пистолету. И тут случилось неожиданное: Петр с силой боднул одного смельчака в грудь, второго с маху ударил так, что раздался хруст, и выпрыгнул в темноту. Все случилось мгновенно. В следующий миг Клинов выхватил пистолет из кармана и, крикнув своим: «Бегите в лес!» ринулся в погоню.
Он выстрелил дважды в светящееся пятно и заметил, как тело Камиского рухнуло на полном бегу.
«Попал! Но выдал себя».
Сзади раздались голоса. Перекликались не на русском и не на украинском. Значит, не полицаи, румыны. Александр выстрелил еще дважды, почти в упор, намереваясь нахальством и неожиданностью пробиться через цепь окружения. Вроде удалось, но когда он свернул в первый попавшийся переулок, то сразу столкнулся с новыми преследователями. Его завалила груда тел, начали выкручивать руки. Он еще успел выбить с полдюжины зубов у двух солдат.
... Сознание возвращалось медленно. И сразу вставало чувство непоправимого, чего-то страшного: он был в плену!
За четыре дня он выдержал девять допросов, на пятый был брошен в небольшой перевалочный концлагерь, что располагался недалеко от хутора...
А вскоре партизаны снова сделали налет на хутор. И снова горел консервный завод. Что можно было, то партизаны забрали с собой - недавнюю ошибку повторять они не собирались. Немцы после них не приходили - румыны сами навели порядок. Расстреливать они никого не стали.
Александра Клинова вздрогнула от стука.
- Да-да, входите. Кто там?
Это была одна из соседок, живущая через три дома от Саши. Она чинно села на лавку и сложила руки на коленях.
- С чем пришла? - дружественно спросила ее Саша. - Есть новости?
- Есть. Я... выкупила мужа.
Клинова вздрогнула:
- Как... выкупила?
- Он был в соседнем концлагере. Кто-то из своих сказал мне, что румыны, охраняющие лагерь, отпускают людей на волю за выкуп. В основном за золотишко.
Саша перевела дыхание:
- Ну что ж! Поздравляю. Где муж-то сейчас?
- Спит, отдыхает. Но я еще не закончила. Значит, эта сделка свершается так: сперва даешь взятку охраннику, небольшую, и он тебя пропускает к коменданту лагеря. Ну а тому уж побольше, получше. Резину не тянут, отпускают в тот же день. А если еще добавить немного, то и справку дают - кто такой и, мол, отпущен. Ясно?
- Что ясно? Для чего ты мне говоришь?
- Все к тому же, может, пригодится. Видела в том же лагере твоего мужа. Сашу. Его номер... - и соседка отчеканила лагерный номер Александра Клинова.
Александра замерла. Соседка, кинув на нее спокойный взгляд, вышла.
Золото. Золото! Где взять золото? Саша знала, что у ее матери должно быть золото. «Даст Фаина? Хоть половину, а вторую половину я наскребу сама!» Она вскочила и забегала по комнате. Сняла с пальца два кольца, достала из укромного места золотые серьги старинной работы и золотую цепочку, подаренные матерью. Что еще? Ложки серебряные, столовые. «Но мало ведь, мало».
Она пошла к Фаине.
- Мама, дашь золото?
Старуха зорко взглянула на нее:
- Зачем?
- Надо.
- Что, так и будем говорить односложно? По-человечески ты можешь объяснить?
- Мама, я не могу сказать зачем, но мне очень, очень нужно!
- И много, Саша, тебе его требуется?
- Много, - тихо ответила Александра.
- И все ж для чего? - взгляд Фаины напоминал взгляд удава.
- Выкупить мужа.
- Где он? Откуда?
- Из плена. Он в соседнем концлагере.
Что-то шевельнулось застарелое в душе Фаины. Вспомнился муж Андрей, томящийся где-то в Сибири. Два десятка лет прошло с той поры. Двадцать лет! Каково ей одной?! Крут был ее муженек, но сейчас она его с тоской вспоминала, захотелось побыть рядом с ним. Может, загинул уже в тех местах далеких? Замерз, медведь задрал или еще... мало ли бед в тех краях водится, где, говорят, по улицам ходят медведи и гремят страшные морозы. Каково ему... Тяжело все ж жить без мужика, без этой верной в жизни опоры. Слезы навернулись на глаза старухи.
Фаина выделила Саше половину золота из припрятанных запасов. Хоть и не любила она зятя, но время притерпело ее к Советской власти, а война показала, что кроме русских у украинцев друзей крепче не найдется. В душу Фаины уже закрадывалось чувство, близкое к уважению к зятю - Александру Клинову. Все ж он был прав, хоть и наступал ей на пятки. Но уж слишком крепка была у ней в то время кулацкая закалка, чтобы разбить ее одним ударом - на это потребовались годы и невзгоды. Фаина вручила золото - его было довольно-таки прилично - дочери с наказом быстрейшего освобождения Александра.
... Саша просадила - пропила и проела - все золото со своим румыном за полмесяца. Первые дни ее еще мучило какое-то угрызение, которое затем утонуло в вине и самогонке. Все было в дыму, угаре, любовном пылу. Двенадцатилетний сын Витя смотрел на мать с неодобрением, десятилетняя Валя - с любопытством и удивлением.
- Где отец? - подозрительно спрашивал мальчик у матери.
На что получал:
- Отстань. Он пропал без вести.
Но Витя явно догадывался - он любил отца.
С каждым днем румыны становились мягче и снисходительнее в обращении с хуторянами. А там, на востоке, горело пламя ожесточенной борьбы, с неумолимостью судьи приближающееся к хутору.
«Що довго вы будэтэ ще топтаты землю нашу, вороги прокляти?» - Долго будете вы еще топтать землю нашу, враги проклятые?
Ранней весной 1944 года советский войска стремительно, на плечах уходящего врага, ворвались в хутор. По улице загрохотали танки, уходя на запад. Долгая-предолгая оккупация закончилась как кошмарный сон.
Как только Красная Армия освободила хутор, Витя побежал на место бывшего концлагеря. Мальчику удалось побывать у коменданта освобожденного лагеря, советского офицера. После проведенной переклички Александра Клинова среди оставшихся в живых бывших военных не оказалось. Еще двое суток Витя искал отца среди трупов, оставшихся в результате неудачной ликвидации немцами заключенных. Не было Клинова и среди них. Впрочем, может Витя плохо искал. Следы лейтенанта Клинова затерялись...
Хутор не сгорел в войну, но было страшно смотреть на его безлюдные в воронках от бомб улицы, редких людей, ковыляющих среди пепелищ, развалин и покосившихся домов. Трудная была для хуторян весна сорок четвертого... Но колхоз поднимался. Не щадя себя начали работать на колхозных полях Мария и ее дочь Ирина, Анна с сыном. Фаина, которой было под шестьдесят, копалась только в своем огороде. Саша по-прежнему не работала, выжидала. А что выжидала, трудно и сказать. Скандальная история о ее любви с румыном дошла до ушей хуторян лишь в некоторых деталях, всего они не знали, и поэтому она быстро позабылась.
Незадолго до окончания войны в хутор начали возвращаться фронтовики, сначала покалеченные, а с лета сорок пятого - веселые, хмельные от победы, с позванивающими на груди наградами. Тут-то Александра и «заарканила» одного из фронтовиков, сорокалетнего сержанта, служившего в артиллерии ездовым. За смелость в боях тот был награжден двумя медалями «за отвагу».
А что ее муж? Да она забыла давно о нем. Кому война, а кому - сладострастие. И Саша желала, чтобы Клинов вообще не возвращался с войны, или еще лучше - лежал бы где-нибудь в сырой земле. Новый жених Александры не слишком баловал ее в том, чего она так хотела больше всего на свете. То ли слабоват оказался, то ли сдержанный такой попался. Но она мирилась - сколько баб вокруг на это дело голодных ходит, а мужиков-то мало, наперечет, уж слишком много их не вернулось с войны. И все-таки была вынуждена порвать со своим новым мужем. Сделать это ей было тяжело и потому, что именно он кормил ее на свою денежку, тогда как она по-прежнему не работала. А случилось вот что: отчим и Виктор, ненавидящие друг друга, как-то здорово повздорили. С тех пор ненависть их крепла и росла, они стали чаще цапаться.
Виктор, крепкий широкоплечий паренек, работал трактористом. Подработав денег, Виктор решил купить себе костюм.
- Надоело ходить в обносках, - твердо заявил он. - Сколько я ни работаю, а доброго от тебя, мать, пока не видел!
Александра запричитала:
- Я тебя кормила, поила, а ты вон что заявляешь мне. Бездельник!
Виктор нахмурился:
- Это я-то бездельник? Мне всего шестнадцать лет, а я уже пашу за двоих. Между прочим, и тебя кормлю и одеваю!
Она взвизгнула:
- Врешь, сопляк! Если кто мне и помогает, так это только твой отчим!
- А что? - юноша подошел вплотную к матери. - Отец был хуже?
Она побледнела и что-то залепетала.
- Так за что ты его продала??? Чем прельстил тебя тот мадьяр, на которого ты сменяла нашего батьку?! У-у-у...
Виктор злобно посмотрел на мать. Потом повернулся и пошел к двери. Уже у порога хмуро обронил:
- А на отчима я плевал! Сейчас уезжаю в город и покупаю костюм. Предупреди отчима, чтобы встречал с бутылкой!
Накипевшая злость, обида, ярость, годами копившаяся в душе мальчика, наконец выплеснулась. И он готов был сейчас все сжечь и разрушить на своем пути...
В райцентре Виктор приобрел костюм. Огляделся в зеркало и сам себе понравился. А следующая мысль пришла сама - волнуясь, он зашел в военкомат и записался на прием к военкому.
Виктор сидел на скамье, ожидая вызова, и с любопытством крутил головой. Он не уставал удивляться: «После окончания войны прошел уже год, а народу в военкоматах все не убавляется! И по каким делами идет народ?»
Через час его вызвали в кабинет. Робея, он открыл дверь и шагнул внутрь. За большим столом, о чем-то думая, сидел пожилой майор. Вот его глаза заметили подростка и весело блеснули.
- Садись, - офицер оживился. - Зачем пожаловали, молодой человек? Призывник?
- Не-е, - Виктор, чувствуя себя в чем-то виноватым, отрицательно покачал головой.
Юноша смутился от мысли, что вот сейчас он будет напрасно отрывать этого добродушного дядьку от дел. Но майор глядел на него так спокойно и хорошо, что Виктор начал рассказывать о цели своего прихода сюда.
- Товарищ майор! Война кончилась, а отец не возвращается!
- Что такое? - брови военного взлетели вверх. - Вернется, значит. Я как понял, похоронки-то не было?
- Не было. Но дело было вот как.
Цепь Витькиного рассказа потянулась от первых дней войны, когда Александра Клинова забрали на фронт. Виктор сообщил майору все, что знал: номер первоначальной полевой почты (отец написал оттуда единственный раз, когда часть только формировалась), о сроках пребывания отца в партизанском отряде (майор записал фамилии, даты и прочие подробности), показания соседки о том, что Клинов в такой-то период был в концлагере (номер Клинова, сообщенный Виктором, был подслушан мальчишкой в тот памятный разговор - мальчишеская память цепко удержала его).
- А потом следы потерялись, - закончил юноша. - Я не нашел отца даже в концлагере, после того как наши освободили его.
Возвращался Виктор домой окрыленный. О своих мелких расследованиях, о судьбе отца он ничего не рассказывал матери, ибо глубоко ее презирал. Но когда встал в тупик - много ли он сделает один, без связей с другими людьми и денег, Витька понял, что надо к этому делу привлекать других. И вот военком обещал ему помощь, а заодно и объяснил, как далеко потянется цепочка расследования - запросы, переписка, архивы, беседы, звонки, повестки.
Ссора с отчимом началась сразу, с порога.
- Купил костюм? - угрюмо спросил его тот, даже не удостоив взгляда.
- Купил! - Витька был беспечен и весел. Он скинул сапоги, бросил сверток и кинулся без долгих разговоров к столу. Остановил тяжелый бас отчима:
- Руки мыл?
Пришлось идти мыть. Отчим тоже вышел за ним во двор. «Зачем?» - занимало парня - за ним наблюдали. Не подав вида, Виктор домыл руки под умывальником и пошел к двери. Отчим с места не трогался. И... у Витьки сорвалось с языка: «Ах ты шкура петлюровская!»
Будто этого и ждал отчим, мгновенно схвативший табурет, стоящий на крыльце. Виктор вжался в стенку и рукой нащупал топор, лежащий около колоды - он был полон решимости постоять за себя. Александра, женским чутьем почуявшая беду, в тот же миг выскочила на крыльцо. Увидев отчима и сына, стоявших с «оружием» друг против друга, она отчаянно завизжала:
- Отчим, кобель! А ну брось свою «пушку». Привык на фронте командовать! А ты, Виктор - ублюдок!
Оба враз потемнели лицом от таких сравнений. Отчим с силой шваркнул табуреткой об пол, и она разлетелась вдребезги. Виктор зло швырнул топор наобум и... попал корове в брюхо. К вечеру она сдохла. Ох и было вою! Озлобившись, Саша выставила мужа за дверь, не дав ему с собой ничего. Год он работал на нее, как батрак, и как батрак остался теперь без копейки (после отчим Виктора женился на какой-то вдове; Говорят, что они хорошо жили, душа в душу).
Прошел год. Виктор держался с матерью отчужденно и старался не замечать ее, зато его сестра Валя хорошо спелась с матерью.
Пришла долгожданная повестка, точнее вызов от военкома-майора. Виктор уже не мчался туда, как младенец, сломя голову от радости - он шел неторопливой походочкой, вразвалку, с чувством собственного достоинства... Вышел он от майора разбитый, с искаженным лицом, с чувством затаенного страха в глазах.
Дома мать была одна (она не работала по-прежнему). «Значит, Валя еще в школе», - подумал Виктор и сел напротив матери. Та не сводила с него удивленного взгляда.
- Витя, ты почему не на работе?
- В городе был.
- Прогул заработаешь.
Сын отмахнулся лишь рукой:
- Не заработаю. Не до того сейчас мне. Впрочем, чтобы успокоить тебя, скажу - отпросился я на сегодня.
- А что ты в городе делал?
Лицо Виктора окаменело:
- Мать, был я там в военкомате.
Тяжелые непривычные слова били женщину в самое сердце.
- Год назад я сделал заявку на поиск Александра Клинова, твоего законного мужа, моего родного отца.
В ушах Александры нарастал звон, перед глазами пошли круги.
- После долгих поисков выяснилось следующее: отец из концлагеря бежал. И удачно, он пробился к своим. За участие в боях был награжден орденом, ранен, из госпиталя вышел старшим лейтенантом.
Как видите, мать! - Александру поразило такое официальное обращение. - Мой отец вышел на свободу и без вашей помощи! Он был человек, а не скотина! И я тоже хочу стать таким же, как мой отец. И стану я человеком без вашей помощи! Я-то без вас обойдусь, но вот вы без меня... вот в чем вопрос!
Виктор молча стал скидывать вещи в маленький чемоданчик. До матери ему уже не было дела, а Валя... что Валя - такая же, как и мать, пустая и бессмысленная.
- Не уходи, сынок! - Александра протягивала сыну руки. Виктор что-то буркнул в ответ, отстранил ее с дороги и пошел к дверям.
Она закричала:
- Сынок! А он жив? Жив??? Жив?!
Виктор повернулся к матери, в глазах его заискрились бешеные огоньки. Высоким голосом он выкрикнул:
- Капитан Клинов погиб в сорок четвертом при освобождении Белоруссии. Так говорят документы.
И выскочил во двор. Слезы застилали ему глаза. А в горнице Александра с глухим стуком рухнула на пол.
... Виктор проработал на сахарном заводе два года, не поддерживая за это время ни с матерью, ни с родственниками никаких отношений, потом его забрали на срочную службу во флот.
Октябрь 1953 года. В один из его дней на главной улице хутора можно было увидеть широко шагающего человека в морской форме. Невысокого роста, широкоплечий, в бушлате, он шел валкой походкой бывалого моряка. В руках парня, на вид лет двадцати двух - двадцати четырех, был небольшой чемоданчик. Моряк шел по улице, с любопытством оглядываясь по сторонам. Дойдя до центра, он удивленно остановился, с изумлением уставившись на ряд кирпичных зданий. Раньше их не было. И хоть они не поражали своим величием и размахом, но все же... Одноэтажные здания школы, двух магазинов, сельсовета. «Хм, - усмехнулся моряк, - ну и дела! Идет время-то!» Он шагнул на деревянные доски тротуара - и это было для него новинкой.
Моряк еще раз остановился, огляделся и свернул в переулок. Еще десяток метров - и он взошел на обрыв. В том месте, где обрыв был наиболее пологий, вниз сбегала узкая тропинка и затем пропадала между двух небольших холмов. Там, перейдя ручеек и пройдя по узкому переулку, его дом. Дом, где он не был вот уже шесть лет. И шесть лет был оторван от родного крова - он даже не знает, жива ли мать, что стало с сестрой. В груди вздымалось волнение.
Моряк был не кто иной, как Виктор Клинов. И спешил он домой.
Урожай был уже собран, на земле кое-где валялись начинающие гнить яблоки, сливы. Приглядевшись, можно было увидеть скорлупу грецкого ореха.
Виктор последний раз оглянулся и сбежал по тропинке вниз. А вот и знакомые холмы, зеленые, сочные. Добрая в этом году была осень - даже октябрь еще играет ласковым солнцем. Что уж тогда говорить о сентябре.
Клинов перескочил ручеек и свернул в переулок. Навстречу ему ударила музыка. Играет где-то или кто-то... Значит, живет хутор, здравствует гражданская жизнь! И неужто за его спиной осталось четыре года тяжелой службы военного советского моряка? Не будет для него теперь ночных дежурств, беготни по трапам, кубрика, нарядов по камбузу, стремительных изматывающих учений... Не будет. Теперь впереди для него расстилаются широкие дороги, уже не скованные строгим Уставом. Теперь только жить и жить на всю катушку!
Музыка становилась все громче и громче. Виктор улавливал веселые мелодии и ему становилось не по себе - какой праздник справляют хуторяне? И еще одно показалось ему странным, от чего он даже вздрогнул - эпицентром всего хаоса и криков являлся... дом его матери. Может, кажется? Виктор замедлил шаги. Но нет!
Не доходя до дома, он встретил нескольких пьяных хуторян. Остановился, тихо, но отчетливо спросил:
- Браток, что за шум?
Тот, кого он спрашивал, обвел его взглядом помутневших глаз:
- А, матросик!
Демобилизованный военный моряк был спокоен - он насмотрелся всего, чего только душа не пожелает. Не только когда служил - в увольнениях, патрулированиях и так далее, - но еще и до службы, работая на сахарном заводе.
- Матросик! - пьяный взмахнул руками. - Свадьба! Люблю моряков, сам служил. С какого?
Знакомые вопросы.
- Тихоокеанский, - небрежно бросил Виктор и зашагал прочь от своего случайного собеседника.
«А ведь самое главное и спросил забыл, - мелькнуло в голове у Клинова. Чья свадьба?»
Виктор повернулся и громко крикнул:
- У кого свадьба-то?
Ветер донес слабый ответ: «Вальки Кли-но-вой-ой...»
«Н-да, дела. Совсем забыл, что ей пора замуж», - Виктор усмехнулся и двинулся к дому. Во дворе стоял бордель - перевернутые столы, несколько пьяных, валяющихся в тени, парочки в саду, большая толпа танцующих, дико наяривающий гопак оркестр, столы, заваленные домашней закуской, и украшающие их десятки бутылок самогонки, тарелки, тусклый блеск стекла рюмок и стаканов. По земле толстый слой бумаги.
Виктор незаметно, как-то боком, стараясь оставаться в тени - да еще благо, что так орал оркестр, - проник в полуосвещенную веранду. Оглядевшись, быстрым вороватым движением сунул чемоданчик под лавку.
«Ф-фу, теперь свободен от него».
Клинов повернулся лицом к застекленной стенке и застегнул бушлат до упора. Почему-то не хотелось, чтобы его узнали, а так может и подумают, что свой, из хуторских, принимая бушлат за фуфайку.
На него в упор смотрели серые глаза. Худощавый, среднего роста парень, ярко выраженные соломенные волосы. Слабоват, но постоять за себя может. Виктор остановил взгляд своих черных глаз на прыщеватом лице парня, с досадой повел плечом, да так, что бушлат натруженно заскрипел. Вот тебе и не узнали!
Они знали друг друга, так как долгое время жили на одной улице. Виктор был старше его на год, соответственно и в школе учился на класс выше, но в школу они ходили вместе, было по пути. Особых дружеских чувств Витька в свое время к нему не питал, парень был для него просто товарищем. Но подметил за Васькой (так его звали), что тот этим не очень-то и огорчен - нет Витьки, так он с Валей. Но даже когда Витька и был с ним рядом, Вася не переставал стрелять глазами по сторонам - искал Валю.
«Хахаль! - с презрением подумал сейчас про него Виктор. - Неужто он жених Вальки?» Клинову стало неприятно от этой мысли, при виде Василия поднималась непонятная растущая злость. «Не узнали?! - съехидничал над собой Виктор. - Сейчас узнают, соседушка закудахчет».
Он всматривался в противную морду Василия Калинского и не знал, что тот не будущий Валин муж. И тем более не догадывался брат о своей сестре, что последняя, выходя замуж за другого, по-прежнему любит Василия, и что любовь у нее с ним - давняя... Но Фаина была для Вали слишком крутой бабкой - старуха при своих шестидесяти восьми годах держала в руках не только своих дочерей, но еще пыталась влиять и на внуков и внучек. Так Валя под давлением своей матери Александры и бабки согласилась на этот брак. Мужа нашли ей приличного, при деньгах, работающего на железной дороге машинистом. «Самое главное, что он обеспечен. Значит, и тебе легче. А любовь... Что любовь? Любить можешь хоть кого, если с умом. Надо уметь жить с тем, чтобы затем не мучиться. Поняла?» - бабка строго глядела на внучку. Валя в ответ пожала плечами, но возражать не стала. А впереди ей предстоял весьма неприятный разговор на эту тему с Василием...
- Вася, - Валя скромно потупила свои красивые глаза, - ты знаешь, что меня выдают замуж?
Серые глаза Калинского передернулись злой пеленой, взгляд вцепился в лицо подруги.
- Что такое? Как это выдают? - Василий с трудом перевел дыхание.
- Вот так вот, выдают и все.
- Но мы любим друг друга. Как ты могла после всего, что было между нами, согласиться?
Валя не отвечала. Прямо перед глазами Калинского виднелся изящный изгиб ее шеи, в разрезе платья полупроглядывались очертания грудей. Василий не выдержал:
- Валя, ну почему ты молчишь?
- А что тут говорить-то?
- Выходит, нечего? И это после всего, что...
- Что было, - резко вскинув голову, продолжила она. - Что было? Ну раза три переспала с тобой, что ж из того? Ну вручила тебе свою невинность, что ж? А жизнь-то мне ты ведь не устроишь райскую?
Калинский онемел.
- Валя, как ты спокойно говоришь такое? Ты не любишь меня?!
Она вместо ответа обвила его шею руками и повисла на нем. Василий рванул ее платье и ощутил под руками привычную упругость Валиных бедер. Пальцы скользнули выше. Еще миг - и он свалил бы девушку с ног прямо тут, на поляне. Но она выскользнула из его объятий, оставив ощущение неподдающегося гибкого тела. Калинский успел лишь заметить ее удивленные, широко раскрытые глаза, и в отчаянии крикнул:
- Валя, но мы увидимся еще? Повторится ли для нас еще раз счастье?
И услышал удаляющееся:
- Да-а, Василь! Да-а-а!
Она избегала с ним встреч два с половиной месяца. И сейчас... выходит замуж за другого. Калинский крепился, клялся, что не пойдет на ее свадьбу. Но тоска по утерянному счастью гнала его туда, где гремела свадебная музыка. Валя, белоснежная и сияющая, заметила его, шепнула: «Не теряйся. Потом скажу тебе что-то...»
Одуревший от счастья, Василий побрел переживать в одиночестве. И забрел в пустую веранду. Так он считал, по крайней мере. Но там, в углу, прижавшись лбом к стеклу, стоял какой-то человек. Он резко обернулся, и они встретились взглядами.
- Виктор? - протянул удивленный Василий. - Клинов? Какими судьбами? Что ж я тебя раньше не видел?
Клинов усмехнулся, шагнул навстречу. Сильно сжал протянутую руку. Пуговица натянувшегося бушлата выскочила из петли, и в глаза Калинскому бросился гюйс тельняшки.
- Матрос?
Виктор перебил:
- Вроде того. Но точнее - старшина третьей статьи.
- Издаля?
- Со службы.
- Когда приехал?
Вопросы и ответы были односложными, видно потому, что разговаривающие не собирались раскрываться друг перед другом.
- Только что.
- Вот это да-а...
- Василий, ты женишься?
Тот со смешков возразил:
- Почему ты так решил? Твоей сестренке нашли более выгодную партию.
«Почему ты тогда здесь вертишься?» - чуть не слетело с губ Виктора. Он задавил в себе злость и пристально, почти в упор взглянул на Калинского. В мозгу начало расплываться ничем не обоснованное подозрение к Василию.
Перебросившись еще парой незначительных фраз, суть которых сводилась к тому, что Калинский не будет болтать о приезде Виктора, они разошлись. Клинов шагнул через веранду и оказался в доме.
Он сразу наткнулся на свою мать, Александру Андреевну. Они резко отодвинулись друг от друга и их глаза схлестнулись. Тяжелым грузом, бездной, неприступной горой между ними встали шесть лет разлуки, и, казалось, у них не найдется сил сдвинуть этот груз для объятий, перепрыгнуть эту бездну для встречи, взорвать гору с тем, чтобы хоть чуть-чуть призабылись эти безмолвные годы... Они были чужие друг другу: Виктор - чистейшей породы Клинов, Александра Андреевна - кулацкого рода Крушинская.
- Жив?
- Как видишь. Не умерла?
- Рановато хоронишь! - хмель наконец заиграл в глазах женщины. Натянутым бодрым голосом она «обрадовалась»: - Приехал? Надолго? Со службы, что ли?
Снова выдал расстегнутый бушлат. Он усмехнулся:
- Оттуда, мать. Посидим, поговорим, а? А потом уж пить пойдем. Это чтобы своим приездом радость молодоженов не перебивать.
Они присели, по-прежнему чужие. Судьба и в дальнейшем так же рассудит их - они между собой чужие, а то, что они сын и мать - это недоразумение. И только лишь через два десятка лет, когда Виктор разойдется со своей горячо любимой женой (чего не скажешь о ней) и пойдет по скользкому пути разврата, стяжательства и обмана, бесцельные и чахлые дороги жизни матери и сына сойдутся вместе: старая Александра будет доживать свой век, Виктор - добивать свои годы и пропивать жизнь...
- Богатая свадьба, - глухо начал отслуживший моряк, стараясь поймать взгляд матери. - Где столько денег взяли?
- Не мои. У меня-то откуда?
- По-прежнему не работаешь?
- А надо ли? Тем более теперь, когда мне под полста без двух годков да зять работящий попался.
- Тогда откуда такое богатство? - Виктор, в отличие от матери, говорившей на украинском, вел разговор на чистом русском.
- Бабка твоя выделила, Фаина. Меня она люто ненавидит, догадываешься за что... Проклинает тот день, когда отдала мне столько золота. Ну, а Вальке выделила. То ли любит ее, то ли видит, что не на что свадьбу было играть.
- А тетки мои как? Живы, здоровы?
- А что им сделается, - Александра Андреевна скупо улыбнулась. - Да, новость-то слышал?
- Какую новость?
- Для тебя это новость, ибо ты ничего не знаешь. Начну обо всех по порядку.
Она налила в стаканы самогонки, приглашающее моргнула глазами. Выпили. Виктор ткнул вилкой в сало и, зацепив добрый кусок, отправил его в рот.
В дом никто не входил - все гости предпочитали находиться на улице, - и поэтому их беседе никто не мешал.
- Ирина, дочка твоей тетки Марии, вышла замуж четыре года назад. За бывшего фронтовика Николая Станкевича. Он из местных, хуторских. Красивый, грудь в орденах и медалях, бывший офицер. Ревновала она его страшно, да и сейчас то же самое делает. А зря, ни в чем он не замечен. Работящий мужик. Он раньше в кавалерийском корпусе служил, ну и его назначили почти сразу же заведующим конюшней, конными фермами. Живут хорошо, оба работают день и ночь. Ирка-то, наверное, унаследовала трудоспособность матери, да и рано поняла, что такое жить без отца, мужской опоры. Теперь наверстывает: и деньги, и мужика.
- Мать, что ты хочешь этим сказать? Я что-то не понял.
- Да как тут не понять - работают они много и хорошо, то есть гребут приличные деньги. Левые заработки тоже липнут к их карману. А ночью, как я предполагаю, Коля тоже работает во славу семьи и для удовольствия Ирки-то. У них через год после свадьбы сразу же дочка родилась. Раей назвали, сейчас уже бегает вовсю, лопочет. А в общем-то живут они хорошо, куют себе достаток. Марья с ними живет. А, вот что, чуть сказать тебе не забыла - они соседи же нам по-прежнему, так в Марьином доме и живут. Ее зятек только подправил его основательно.
Они пропустили еще по полстакана самогонки.
- А тетя Аня как? Вернулся ее муж?
- Нет, ни слуху, ни духу.
- Так же, как дед Андрей...
- Но ничего, живет Анна. Зимой в этом году сын ее женился. Невеста его Надька Цивинская уже брюхатой от него была. Не видел его?
- Откуда?
- Ах да, совсем забыла. Тракторист он. Дуб! Ни в отца, ни в мать не пошел. Какой-то серый, забитый.
Мать встала, поднялся со скамьи и Виктор. Потянувшись, он бодрым голосом сказал:
- Пора! Идти знакомиться да это изделие похлебать вдосталь, - он кинул прощальный взгляд на недопитую бутыль самогона, и они вышли.
Как в калейдоскопе замелькали перед ним лица его теток, родственников, знакомых, Иры и Николая. Маленькая племянница Рая блеснула перед ним своей кукольной красотой. Двоюродный брат поразил каким-то отсутствующим взглядом. В общем, все, что говорила про них Александра Андреевна, оказалось правдой: в Ире чувствовалась жадность к деньгам, и в то же время она готова была швыряться ими направо и налево. Муж Николай поддерживал ее - видно, перековала его эта «трудовая-стяжательская» трясина. Маленькая Рая, этакий одуванчик, уже показывала свой нрав капризами и самыми нелепыми требованиями. Сестра Валя была красива... до беспечность. И так далее, и тому подобное. Будущий муж Вали, Валентин, однако понравился Виктору. Но было в сочетании «Валя-Валентин» что-то предосудительное, непонятное, как перед грозой, и Виктору в голову лезло про отца - «Саша-Александр». И ему не нравилось это совпадение.
Отношение к нему, в свою очередь, было тоже разным: восторженным, скептическим - «Приперся!», радостным, хмурым, угрюмым, подозрительным - «Приехал девок отбивать!» Особенно Виктора поразил презрительно-настороженный взгляд Василия Калинского. То же самое выражали глаза и Вали. Это поразило Виктора.
Свадебное пиршество двигалось к концу. Еще более разбрелись по саду парочки - гулять и дружить, прибавилось пьяных. Но еще иногда взрывалось десятками голосов «Горько!», и сияющий Валентин целовал полуоткрытые губы невесты. «Сладко!» - и Виктор замечал, как перекрещивались взгляды Вали и Калинского, тень смятения пробегала по лицу все той же невесты.
Оркестранты были чем-то недовольны. Они побросали инструменты, показывая всем своим видом, что про них не следовало бы забывать. Разгоряченные танцоры встали. Что случилось? И Александра Андреевна кинулась улаживать конфликт. Сошлись на том, что сделают перерыв, примерно минут на сорок, а тем временем музыканты подправят свое «подорванное» здоровье. Народ кинулся кто куда - пить, гулять, говорить, спорить. Оттесненный от своей невесты, Валентин пропал в кругу новоявленных друзей. Валя скользнула в темноту. И вмиг около нее вырос Калинский:
- Куда?
- Для женишка - в туалет, а для тебя - хоть куда! - она пьяно рассмеялась, уже успев где-то выпить.
Василий рванул ее к себе и припал губами к столь долгожданной шее. Полупридушенный шепот Вали отрезвил его.
- Васёк, Вася! Только не здесь... только не то... Всё... - и она, схватив его за руку, побежала к открытому сараю, где лежало так много свежего душистого сена, туда, где впервые она перестала быть юной с ним...
Виктор, сжимая кулаки и в ярости скрипя зубами, скользнул за ними. В темноте споткнулся, проматерился, но злоба к своей сестре вновь захлестнула его: «И это в день свадьбы... первой брачной ночи...» Он осторожно шагнул к прикрытой двери и от удивления остановился - сарай скупо освещался керосиновой лампой. Но видимость была хорошая. Кто ее приволок сюда? Лучше бы он сюда не заходил...
Клинов закрыл глаза, потер их своими тяжелыми кулаками, снова открыл.
... Она лежала на мягкой подстилке прямо в платье. Его и ее лишняя одежда валялась тут же рядом. Виктор видел перед собой раскинутые полные ноги сестры, белую рубашку на спине Калинского и... Крикнуть бы, зарычать зверем... тогда был бы великий скандал!
Виктор промолчал. Василий откатился в сторону, и Клинов услышал: «Василь, еще хочу...»
- Нельзя! Тебя уже ищут.
- Я не хочу туда, с ним.
- Сама выбрала.
Калинский быстро оделся и грубо поднял разбитую Валю с сена. А той было все равно, безвольность охватила ее. Василь одел ее сам. И выпроводил из сарая. На лице его блуждала чревоугодническая улыбка.
В этот удар бывший старшина второй статьи Тихоокеанского флота Виктор Александрович Клинов вложил всю силу. Калинский как пушинка отлетел в сторону и молча рухнул на сено. Виктор присел возле потерявшего сознание противника. Закурил, ожидая пока Василий откроет глаза. Невеселые мысли роились в его голове. Было о чем подумать. И незаметно для себя, не замечая даже того, что сигарета уже обжигает пальцы, произнес вслух:
- Какая же все-таки подлость! Грязь.
И неожиданно получил ответ:
- И все же это жизнь, Виктор!
Моряк вздрогнул - на него, оставаясь недвижимым, смотрел Калинский.
- Жизнь? - шрам на левой щеке Клинова дернулся (был шторм, и Виктора швырнуло лицом об угол около орудийной башни, что случилось с ним еще на первом году службы). - Может и жизнь, но подлая и мелкая.
- Витя, ты же не знаешь всего. Мы любим друг друга - я и Валя. Но мать и бабка решили по-другому.
- Что? А почему ж тогда она согласна? А почему ты ничего не делаешь, пнем лежишь?
- Я сделал. И вот сейчас лежу за это.
Клинов плюнул в сердцах:
- Не то ты сделал, гад! Слюнтяй! Если не мог бороться за свою любовь, то будь добр не осквернять в такой день любовь другого человека.
- Это кого же? - нагло присвистнул Калинский.
- Ва-лен-ти-на, ее му-жа! - отчеканил по слогам Клинов. - Ты проиграл, значит готовься соблюдать теперь только чувство долга перед другой семьей. Не лезь, не порть дело и... девушку. Имей сознание!
- А я давно уж испортил!!!
Они взмахнули одновременно, эти горячие парни. Но Василий успел увернуться и сбил с ног Виктора. Не видели они, как на месте упавшего окурка вырос маленький, но крепнущий и пожирающий сено столбик огня. Калинский схватился за слабо вкопанный брус и, пытаясь вооружиться им до того, как встанет на ноги Виктор, рвал его из земли. Не жалел ни рук, ни ногтей, но опоздал.
Хмель ударил в голову Виктора. Теперь он знал, что делать! И не беда, что походил на гражданке всего один день, точнее вечер. Об этом после. Но зато он выбьет всю дурь и подлость из людей вроде Калинского. Даже таким способом, колом. И он резко оттолкнул Василя в сторону. В мгновенье ока расшатанный кол был выдернут и взвился в воздух. Поднявшийся было на ноги Калинский был сбит заново. Кол глухо опустился еще два раза на Василия, и тот глухо и дико вскрикнул.
На дикий крик тотчас ворвались двое. Горящее сено, дым, трупом лежащий человек и грозно опирающийся на кол приземистый широкоплечий парень в матросском бушлате - вот что предстало перед ними. Вроде бы ясно! Окровавленная рубашка Калинского вселила в них ярость. Они принялись крутить руки Виктору. Клинову удалось расшвырять их, но подвалившая толпа смяла его.
Пожар с трудом потушили. Василия привели в чувство - жив, живуч оказался. Вроде бы замяли, но свадьба оказалась испорченной. Люди расходились и расползались (кто пьян) с чувством ненависти к будто свалившемуся с неба бандиту Клинову. Что же произошло там, как случилась драма, никто не ведал. А поэтому разное и говорили.
На суде все вели себя по-разному. Виктор был хмур и зол, признался, что бил Калинского колом.
- За что? - спросил его прокурор. Нависла тяжелая тишина.
Ответ был дерзким: «А захотелось!» - что, однако, не раскрыло сути дела.
Василий в своих показаниях коротко сказал: «Бил. За что? Не знаю».
И в этот момент Василь и Виктор стали невольными сообщниками (тем не менее, питая обоюдную ненависть) - скандала быть не должно! А Валя в своей злости к брату готова была порвать его на куски.
Долго разбирались. И пришли к самому напросившемуся решению - все случилось по пьянке. Пострадавший наказан уже достаточно, а Виктор за драку получил год заключения.
Клинов отбыл в места не столь отдаленные и уже не вернулся более в хутор. Изредка писал лишь Валентину, ни слова не проронив в письмах об измене его жены. Из писем зятю мать Виктора узнала, что сын после заключения уехал на целину, женился там и работает трактористом. Хутор на долгие годы вычеркнул его из списка и стал забывать о нем...
Но восстал из пепла мертвых, вычеркнутых из жизни один из мужественных людей хутора, коммунист, борец за правду Анатолий Прокофьев. С плачем встречала своего мужа Анна весною одна тысяча девятьсот пятьдесят четвертого года. Семнадцать лет провел на чужбине, на далекой Колыме несгибаемой воли этот человек. Ушел репрессированный в тридцать семь лет, и лишь в пятьдесят четыре года его догнала реабилитация. Хмуро взглянул Анатолий на родственников, на сына, и тошно ему стало, обидно - за то ли он боролся все свои годы, за такую ли мораль! Колхоз растет, поднимается, строится, а эта кучка, хоть и уменьшается, но тоже строится, копается у себя в огородах, гребет лопатой деньги, а если и гробит себя на колхозной работе, то... гробит себя именно ради денег и наживы. И как тоскливо ему было жить в доме тещи, слушать ее бесконечные сплетни. А поймет разве жена его страдания и переживания? Разве что поплачет, пожалеет. А он не хочет жалости! Он не для того вызвался в штрафную роту, хотя мог спокойно отсиживаться! И не за это он страдал, когда, получив уже прощение в ожесточенном бою, раненый попал в плен! И когда, уже освобожденный партизанами из концлагеря, он по доносу был выхвачен из партизанских рядов и вновь оказался на Колыме... И когда его били, заставляя подписать ложные показания... За это разве?!
Смерть вырвала из рук жизни многих его верных товарищей и друзей. Где-то в Белоруссии покоится прах Александра Клинова, его верного соратника по колхозным делам. Так стоит ли жить? Стоит. Но смерть поставила ему точку - через год вскрылись старые раны, и Анатолий Прокофьев скончался...
Судьба - злодейка! Через годы, десятилетия она возвращает родным то, что когда-то резко и зло забрала она у них. И получила такую весточку в пятьдесят седьмом и Фаина. Из ссылки приехал в хутор пропадавший три с половиной десятка лет Андрей Петрович Крушинский. Это он и многие из хуторян были сосланы на заре Советской власти за мятежные действия в Сибирь.
Старик рассказывал про себя скупо. Добывал золото на приисках в Иркутской губернии. Его поправили: «Области». А он упрямо повторил: «Губернии. Я по старинке, по-своему». И замолк. Так и остался он молчаливым все три года, которые прожил в хуторе до своей смерти. Не узнать было теперь в этом старце некогда крепкого Андрея Крушинского: окладистая борода абсолютно седая, плечи опущены, сгорбленные. Да и говорил старик только на русском.
- Перековала тебя та дальняя сторонка! - заметила как-то в озлоблении Фаина. А он промолчал, не собираясь ей признаваться в том, что приехал сюда лишь потому, что померла там, в Сибири, его новая жена, а двое детей, прижитые с нею, разлетелись как птички по Союзу. Андрей Петрович помер на восьмидесятом году жизни. Недолго пережила его и Фаина, всего лишь на три года - смерть, она ведь всех забирает, когда кончается человеческий век и подходит эта пора. Не милует никого.
Готовилась Фаина к своим похоронам тщательно. Купила гроб, обшила материей, сшила платье, соответствующее такому торжеству. Ждала. А соседям наказала:
- Посмотрите, чтобы золото с меня не сняли. Только внимательно следите. Перечисляю: серьги в ушах, три кольца на левой и одно на правой руках, также браслеты на руках, часы, крестик, четыре золотых зуба, цепочка на правой руке, запонки, брошь.
Соседи слушали как завороженные, пытаясь запечатлеть в памяти такой длинный список золотых вещей. Но зря старалась Фаина. Кого она решила обхитрить? Своих дочерей и внуков, которые вполне справились бы не только с ней, но и с кознями самого Дьявола...
Пила Фаина много, не брезговала ничем. Но померла не от того. И даже не от болезней. А так же, как муж, от старости. Легла в гроб и перед тем, как помирать, сказала еще раз: «Золото не снимайте. А то из гроба встану, удушу ночью. Приходить буду. Оно - мое!» Как Фаина жалела, что не может взять с собой в могилу все золото... Накануне смерти старухе приснилось, что Андрей звал ее с неба, потом будто бы не дождавшись ответа, лег в гробу рядом с ней.
Согласно обычаю, гроб с умершей Фаиной стоял в доме два дня. В день выноса и состоялась комедия, в результате которой со старухи было содрано все золото, разве что зубы были не выбиты. Постеснялись.
«Прощайтесь!» - протянул ксёндз, которого пригласили на похороны по настоятельной просьбе самой же Фаины. Все потянулись вереницей к телу умершей. Один, второй... десятый, одиннадцатый... И вдруг - крик! Затем суматоха. Что случилось, кто упал в обморок, кому помочь? А, это Валя. Через минуту все присутствующие, и даже ксёндз, были вытолканы во двор. Золото мгновенно разошлось по карманам. Кто успел, тот и съел.
... После остального раздела золота львиную долю получили Саша и ее дочь Валя, чуть поменьше Анна и совсем немного Мария и Ира.
Так сестры Крушинские потеряли «туза и денежного воротилу» в своей жизни - мать. Но зато хоть набили карманы золотом. Золото, золото! Оно блестит, заслоняя жизнь и свет, оно переливается желтыми лучами, приманивая. Оно тяжелое, звонкое, это золото. Благодатное... И страшное в своей сущности разобщения людей.
Между всеми Крушинскими и их потомками произошел полный раскол. Семьями жить сподручнее...
Александра Андреевна считала, что Вале досталась хорошая партия. «Я мать, - говорила она, - и я горда тем, что моей дочери будет хорошо!» Что ж, Александра была права - время покажет, что Вале будет хорошо... с Василием Калинским. Нет-нет, не думайте, что она разойдется с Валентином, но она будет крутить им так, как ей вздумается. А ведь любовь подчас слаба и безвольна - и она имеет свои отрицательные стороны, - поэтому Валентин будет по-прежнему жить с Валей. Потом до него дойдут кой-какие слухи, свидетельствующие о неверности жены - он не поверит. Да и Валя не из простых - убедит его в обратном, мол, верна я, вся твоя, бери. Конечно, с большим предпочтением и радостью она отдавалась Василию, ибо тот в любви был гораздо опытнее, чем Валентин. А тот, не зная всего происходящего, продолжал каждую неделю приезжать на выходные к теще (Валя жила дома - первое время супруги пожили у родителей Валентина, но затем Валя под предлогом «помочь матери» уехала обратно в хутор). Валентин привозил деньги, продукты и жил выходные у тещи. В эти дни он просто восхищался женой, а она творила чудеса, покоряя его сердце заново и по-новому. Но вот законный муж уезжал, и на горизонте появлялся любовник Вали - главная ударная сила «постельного режима».
Валя, так же как и мать, не работала, но деньгами распорядиться могла. Муж уезжал, и эта знаменитая троица - Василь, Валя и Александра Андреевна - начинали загул. Бывало, что подойдет и еще кто-нибудь из знакомых на вечеринку. Что ж, садись, пей, гуляй!
Круг замкнутый: Валентин зарабатывал, привозил деньги, а Валя в содружестве с матерью и своим любовником просаживала их. И если бы знал, видел Валентин все это: стол, заставленный самогонкой, дикие поцелуи, грубости про него, голые благоденствующие тела Вали и Василя в постели, молчаливое одобрение Александры Андреевны... Он не знал. Знал про это Виктор Клинов, но задавленный расстоянием молчал...
И смех и грех вспоминать похороны Фаины, но придется.
... После того, как было снято золото с бабки, Валя торжественно сказала: «Все в порядке, пора выносить гроб, а то еще в обморок попадают.
После кладбища были поминки. С «горя» все пили вдоволь и вдосталь, говоря об усопшей только хорошее. Неожиданно среди пьяного говора и гвалта пробился Иринин голос, она запела: «Ах, калина красная, калина раз-два-три!» На нее зашикали.
- А что? - обиделась певица. - Почему запрещено? Может, еще и рот заткнете? А мне весело, может быть...
Ее мать Мария зашептала ей на ухо: «Ты что, одурела? Позоришь меня перед всеми! А ну замолчи».
Ирина заплакала и вслух, сквозь всхлипы, сказала:
- Забыла про дорогую бабушку! Какой грех...
Сидящий рядом Николай Станкевич, ее муж, с удивлением взглянул на Ирину. «Что с ней? Может, случилось что?» И тут же забыл, занявшись самогонкой. А стоило бы... хотя бы обратить внимание на эти слова - «а мне весело, может быть...» Вырвались они у нее случайно, но тем не менее... Ирине незадолго до похорон было весело.
Николай был красив, а потому она обрушивала на него всю свою дикую ревность, готовая в любую минуту пресечь его «походы по чужим бабам» - чего у Николая, кстати, не наблюдалось и в помине. Вроде бы остыть должна тогда Ирина, но наоборот - она кипела. И когда «вскипев» до определенного уровня, столь необходимого ей, она, прихватив пару бутылок водки, кинулась к пасечнику. Случилось это вечером, а наутро должен был состояться вынос усопшей бабки.
Но Ирина о похоронах и не вспоминала. Не до того ей было. Остановившись около хаты пасечника, она громко крикнула:
- Эй, дед, выходи! В гости пришла к тебе. Да побыстрей, а то пчелы закусают!
Пасечник, бобыль, крепкий и статный сорокапятилетний мужчина, потягиваясь, вышел на крыльцо.
- Чего тебе? - он с удивлением взглянул на женщину. Красивая, помоложе его на десяток лет, полненькая. «А ничего!» - подумал пасечник и вслух спросил: - Чего надобно, соседка? - Он знал ее, знал и то, что она замужем за заведующим конными фермами. И теперь не понял, что ей потребовалось от него.
- Но раз пришла, заходи! - он распахнул перед ней двери. - Так чего те надобно?
Ирина по-хозяйски прошла в дом, села на лавку.
- За медом пришла. Дашь?
Пасечник усмехнулся:
- Ты ж знаешь, что все под отчет сдаю.
- А себе-то находишь, а?
Усмешка скользнула по его лицу:
- Иногда нахожу, без этого не бывает. Но ты-то причем здесь?
Она улыбнулась, в глазах ее заиграло кокетство. Лукаво ответила:
- За медом, зачем же еще.
Пасечник в ответ нахмурился:
- Ясно сказано: меда нет.
Но женщина не смутилась, задорно и весело сказала:
- А вдруг?
Ирина открыла сумку - в эту минуту в нее вселился без разврата - и достала две бутылки водки. Этот бес нашептывал ей: «Урежь его, сбей его бахвальство! Сделай смирным». Она тряхнула волосами:
- А что, выпьем, дед?
Попала в цель. «Дед» обиделся:
- Рано за старика принимаешь!
Он слазил в подпол, достал солонины. Ирина ждала молча, осматривая небольшую комнатушку пасечника. Не помогала, лишь смотрела, как ловкие пальцы мужчины бегали по столу, устанавливая нехитрую закуску. Появилось и небольшое лукошко с медом. Пасечник искоса глянул на Ирину, надеясь поймать ее жадный взгляд на мед, но... лишь почувствовал ее взгляд на себе. Будто измеряла, или обмеряла. Он поежился, стало не по себе. А она ничего, хохочет, в душе - ярость и какое-то непонятное чувство мести мужу.
Выпили и разом взглянули друг на друга с тайным выжиданием. У пасечника забилась мысль: «Как бы ее подзадержать? Ха, муж узнает, даст мне тогда!». У нее: «... Как бы совратить его, но чтобы все легло на него».
После четвертой рюмки и нескольких полушутливых фраз, оба поняли, что им надо, но вслух не высказывались. Она закинула ногу на ногу, он пересел поближе.
Утром, помятая и полураздетая, она, пошатываясь, еле поднялась с постели. Думала - каким будет лицо пасечника. А тот, глядя на нее спокойно и радушно, бросил:
- Пойдем, опохмелимся!
В ее глазах появилась усмешка, этакая беззащитная и в то же самое время наглая. Ирина отвернулась:
- Иди, я пока оденусь!
Она оделась и вышла в небольшую кухоньку. После небольшой закуски и выпивки пасечник приволок и поставил перед Ириной целое ведро меда. Скромно улыбнувшись, пояснил:
- Держи. Твой. Понравилась ты мне. Такого давно не ведал.
Она расхохоталась, пытаясь загладить смехом возникшую неловкость:
- Заработала, значит?
Пасечник, от природы человек скромный, смутился:
- Что болтаешь-то?
И после некоторого раздумья добавил:
- Приходи еще, если, конечно, время будет.
Она пообещала, заранее зная, что здесь более не появится - хоть и обаятельный этот пасечник мужчина, но уж больно застенчивый. А ей бы... того... кто власть бы держал над ней, а не она...
Куда девать мед - любому ясно! На рынок, в райцентр. И большие деньги потекли в карман Ирины. С гордостью она показывала их мужу. Николай спросил:
- Откуда, Ира?
- Уметь надо, - она приучилась отсекать его любопытство одним ударом.
Деньги, деньги, деньги... Ирина извлекала их оттуда, откуда только можно было. К этому приучила и мужа. Они работали в колхозе, не жалея себя для денег. Порой рисковали и на левые заработки. Левые деньги они зарабатывали по-разному. Вот, к примеру: воровали фрукты из колхозного сада и продавали опять же в райцентре. Но считать их постоянными грабителями колхозного добра было нельзя. Не так часто это случалось. Но если и случалось, то готовились Станкевичи тщательно: договаривались со сторожем, доставали машину (бортовую) и темным вечером нагружали ее доверху фруктами. И снова деньги текли в карман Ирины (с некоторых пор она стала командовать мужем, видно, власть Крушинских передавалась по наследству, вне зависимости от пола). Или комбикорм достать колхозный... Или сено для фермы тайком завезти к себе... Все выгода для себя!
Когда была подкоплена приличная сумма, Николай пришел к выводу, что надо строить новый дом. Да не какую-нибудь развалюху, в которой они сейчас жили, а приличный. Ирина с ним согласилась. Теперь долгими вечерами они сидели и строили планы на постройку нового дома.
- Деревянный делаем! - решал Николай.
- Это почему же? - Ирина возмутилась. Сгниет через десяток-другой. А о дочерях ведь тоже надо думать!
Бог не послал Станкевичам сыновей, лишь две дочери - старшую Раю (ходила в школу) и младшую с пятьдесят пятого года Аду (уже бегала и лопотала).
- Тоже верно, - согласился Николай. - Тогда... какой же?
- Конечно каменный.
- Но кирпич трудно достать!
- А зачем он нам? Кирпич только по необходимости, остальное заменит камень.
Николай довольно хмыкнул:
- Ха, тоже дело!
Дом строили каменный, на четыре комнаты и кухню, с верандой и пристройками. Двор завалили камнем, песком, досками, бревнами, кирпичами, и кажется, негде было развернуться здесь строителям-шабашникам. Но те знали свое дело. И в конце концов, хоть и была на постройку дома угрохана куча денег, Ирина осталась довольна: и строителями, и мужем, и особенно красавцем-домом. Деньги у нее были, а посему следующим желанием у нее было пошикарнее обставить новый дом. Где-то она слышала такое выражение - «это модно, то есть экстравагантно и одно из лучших». И вот эта фраза и стала для Ирины не только мерилом всех дел, но и эталоном жизни. Модно! И Ирина в доску расшибалась, стараясь достать ту или иную новинку. «Что ж, - говорила она, - мода! Это экстравагантно и одно из лучших». Такое стремление дало свои плоды - в промтоварных магазинах райцентра ее хорошо знали. И дом начинал обставляться мебелью, обвешиваться коврами, завешиваться абажурами. Да не простыми, а китайскими - самыми модными в то время.
Жили по-прежнему в старом доме. А новый показывали только гостям, если требовалось блеснуть перед ними. И вот тут посетила мозг Николая мысль, на которой мы остановимся и благодаря которой разразилась скандальная история, прогремевшая по всему хутору. Случилось это в шестьдесят шестом году. Николаю взбрело в голову пригласить художника с целью, чтобы тот расписал им новый дом. Да не просто расписал, а со вкусом, согласно последней моде.
- Надо, - согласилась с ним Ирина. - А что размалевывать? Так просто размазать краску по стенам могу и я. Давай, Коля, ищи!
Вообще-то, если честно, во всей предстоящей заварухе была виновата сама Ирина, обмолвившись как-то о том, что видела у одной знакомой роспись по стене, выполненную одним знакомым художником.
И вот вся эта катавасия началась. Нашли художника. Едва зацвели яблоки и вишни, из райцентра прикатил он сам - герой будущих дел на поприще росписи стен, да не один, а с двумя дочерями, одной из которых стукнуло шестнадцать, вторая была еще малышкой. Громогласно будущий «герой» объявил, что приехал работать быстро, хорошо, добротно и красиво и что продлится это... мм, до осени.
- А что так долго? - удивился Николай.
Художник удивился в свою очередь:
- Вы недовольны? Думаете, это делается тяп-ляп? Зря! Зря, батюшка. Художество - это не ремесло, это вдохновение плюс талант! Э-э-эх...
Сконфуженный Николай замолк.
Что можно было сказать о самом художнике? Маляр, вот и все. Да еще авантюрист. Он вовремя пронюхал о выгодной сделке, какую предлагали Станкевичи, при встрече с Николаем долго ломался и не слишком скоро был «уговорен». Дело выгорело! Довольные собой, обе стороны разъехались готовиться к встрече. У художника были, правда, сборы покороче: сказал жене, что нашел на лето выгодную работу, бросил на прощанье «Адью» и, прихватив с собой дочерей - деткам надо тоже отдохнуть на природе, - укатил в творческую командировку.
Станкевичи ждали его с нетерпением. Ирина все хлопотала вокруг стола, то и дело бросая с вожделением взгляды на его содержимое: очищенная самогонка (водки здесь не пили, гнали самогон своего производства), закуска, дымящие вареники. И вот с улицы раздался долгожданный крик Адочки: «Едут, они едут!» Подразумевался, конечно, здесь один художник, так как про дочек его не знали. Встреча была на высшем уровне. Выпили, заговорили. Завязался разговор, начало которого мы уже слышали.
Когда сконфуженный Николай умолк, Ирина, чтобы замять конфуз, предложила выпить еще. Художник, почувствовавший себя в этом доме значительной величиной, снисходительно согласился. Лихо опрокинув полстакана самогона, он заигрывающей подмигнул Ирине. Рае, заканчивающей девятый класс, не понравилась ответная улыбка матери. А гость уже заехал по хозяевам новым вопросом:
- А что, вы водки здесь не знаете, что ли? Н-да, отстали!
Манера такая была у художника - говорить в угоднически-атакующем стиле - н-да, нет-с, хм, ну-с. И вот сейчас:
- Ну-с, ничего, господа, ничего. Чем богаты, как говорят, тем и рады. Но в общем-то я доволен вашим хлебосольством!
Сказал, как будто погладил хозяев по их головушкам. Но деревенское самодовольство тех стало от похвалы чуть ли не в два раза больше.
Благодаря стараниям Станкевичей художник в этот вечер нагрузился изрядно. Заплетающимся языком он еще пытался внушить хозяевам о высокой материи художества, но махнул рукой.
- А, все равно не поймете! - пьяно заключил он.
И что удивительно - Николай, неглупый от природы человек, не обиделся, даже поддержал зарвавшегося гостя:
- Куда уж нам, серым людям...
Гостю отвели лучшую комнату в старом доме - жили Станкевичи по-прежнему там, не решаясь перебраться в новый дом. Все лелеяли его, обставляли, а теперь вот новая забота появилась - раскрасить, что и предстояло сделать этому хмырю, храпящему по-богатырски и беззастенчиво за стенкой.
- Сам ты хмырь! - рассердилась на мужа Ирина. - А он - художник!
Последнее слово она произнесла со смаком.
- Он художник! Понимаешь ты это? И куда тебе до него... - рассердившись, Ирина повернулась к мужу спиной.
На следующее утро - было воскресенье, и Станкевичи отдыхали - художника с трудом добудились и подняли лишь около полудня. Чертыхаясь, с всклокоченной бородой, художник едва нашел силы сесть на кровати. Мутными осоловелыми глазами он смерил Ирину и, сказав «ничего баба», снова упал в кровать. Его еле растолкали. Покряхтывая, он наконец поднялся.
- Буду делать сегодня рекогносцировку! - торжественно объявил художник.
Ирина от восторга открыла рот, не имея представления, что такое «рекогносцировка». Николай, как бывший военный, промолчал. От преклонения перед таким умнейшим человеком - на свете умнее не найти - Ирина готова была броситься к художнику в объятия, но мешал муж.
- Геня! Делай! - Ирина была восхищена.
Николай тоже попытался сказать свое веское слово:
- Давай, Геня, действуй.
Но художник строго взглянул на хозяина:
- Для тебя я Геннадий Иванович!
Николай был повергнут.
- Геня, - это опять Ирина, - а помощь наша нужна?
Художник с интересом, как в тот раз, когда его будили, общупал глазами фигуру Ирины и буркнул:
- Требуется, а как же! Ну, к примеру, ты будешь помогать мне. А хозяин займется делами по хозяйству. Идем!
Что ж, слово полководца - решающее слово, и Николай поплелся в сарай заниматься делами. Работа дураков любит.
А Геня и сопровождающая его Ирина слонялись по новому дому. Художник скучающими глазами обводил стены - поприще своих славных дел - и с тоской, невесело думал: «Ну и дела!» Взгляд его нечаянно скользнул на покрывающий пол толстый и добротный персидский ковер. Он склонился и с любопытством потрогал его плаьцами.
- Что, и его красить будешь, Геня? - перепугалась Ирина. Освоившись с ним, она звала художника просто Геней - приятно все ж побыть со знаменитостью на короткой ноге, да и художник не возражал.
«Дура», - мысленно обругал он ее, злой с похмелья.
- Где достали?
- Да в райцентре, Геня, по блату. Хороший, да?
Художник поцокал:
- Приличная штука. Хорошо, наверное, на нем, - он оценивающе взглянул на Ирину.
Женщина смутилась.
Они походили по комнатам. Осмотр длился не более десяти минут, после «уставший» Геня присел на кухне:
- Все, на сегодня хватит.
И неожиданно поинтересовался:
- А что, хозяюшка, опохмелиться найдется что-нибудь?
Ирина переполошилась:
- Найдется. Только вот опять самогонка. Уж не знаю, будете ли вы ее пить...
Впрочем, Гене в данный момент было все равно, что пить. Он ободрился, заулыбался:
- Ничего. А то даже анекдот такой ходит, что на свете пытки страшнее нет, чем после сильной выпивки не дать человеку опохмелиться.
Он чуть не сказал «после страшной попойки», но вовремя сдержался.
- Геня, тут, что ли, пить будете?
- Тут. А где же еще. И почему пить? А ты? Да не бойся ты мужа... он мелок для тебя. Да для твоей широкой и мечтательной, чуть ли не поэтической души другой нужен муж, а не этот тип.
Ирина зарделась от такой похвалы. Стол тайком от всех домочадцев был сооружен в новом доме. После первой художник стал бодрее, после второй - веселей, после третьей - наглее.
Вообще-то если взглянуть на эту парочку со стороны, то они как нельзя кстати подходили друг к другу: высокого мнения о себе и... своем бахвальстве. А их привычная измена в супружеской жизни толкнула их в объятия друг другу. Но использовать ковер по тому назначению, о каком мечтал Геня, им помешал Николай, которому стало скучно, да и любопытство одолело - как закончил художник рекогносцировку. Увидев их пьющими - они вовремя услышали его шаги, - он ничего плохого не подумал. Ну а там суд да дело - втянули в попойку и Николая. Вечер заново окончился грандиозной пьянкой.
Своим гостеприимством Станкевичи славились на весь хутор. И не столько своим хлебосольством, хотя выпить и закусить на их пирушках всегда достаточно было, сколько своим желанием показать себя и свое богатство. Пиршества они устраивали по разным поводам - под революционные праздники, в дни рождения дочерей, в христианские праздники. Праздновали с шиком, размахом и под грохот приглашенного из райцентра (новый райцентр, уже как десяток лет переведенный в другой город, находился в тридцати пяти километрах от хутора) оркестра. Редко гуляли день, чаще два, на третий опохмелялись. Могли Станкевичи выкинуть и такие фокусы - если они замечали, что человек дарит им ненужную вещь или уже имеющуюся у них, они в следующий раз уже не приглашали его или просто-напросто покупали необходимую им вещь, шли к тому человеку, говорили ему, что вот, мол, подаришь нам ее («Зачем вам бегать, искать? Вот, готовый принесли».). И человек вынужден был оплачивать будущий подарок Станкевичам. И люди, идущие к ним на празднование, несли только требуемые подарки - уже догадывались сами или «осторожно» выведывали у Ирины. Казалось, такое обстоятельство должно оттолкнуть людей от Станкевичей, но отнюдь - побывать у них считалось большой честью. А для самих Станкевичей подарки, которые, кстати, обсуждались и рассматривались прилюдно - так что не дай бог промаха, - по сути дела покрывали расходы. А при более рациональном подходе, то есть последующей спекуляции на толкучке, Ирина даже извлекала и выгоду. Правда, на толкучку надо было ехать в соседний район. Но зато выгода была с лихвой. Чем не жизнь?!
День проходил за днем, а художник продолжал уничтожать запасы самогона у Станкевичей. Николай давно уж плюнул на него, возложив весь контроль за «художественными» делами на плечи Ирины. А она как будто только того и ждала.
- Кончился самогон! - с горечью поведала художнику Ирина.
Судорога пробежала по лицу Гени:
- Что? Как это?
Он забегал по комнате:
- Кончился, кончился... Что, кто кончился? Ах да, не я, самогон кончился, - И вскрикнул: - А мне-то что? Будьте добры обеспечить мне работу!
После долгих споров и ругани Ирина «обеспечила» его работой - заставила следить за перегонкой. Тут же, сидя рядом, обнявшись, они уничтожали вонючую сивушными маслами жидкость. Свершилась и мечта художника - Ирина была «брошена» на ковер.
«На обе лопатки!» - хвастался он тут же, прямо при ней. И поистине чудо, что пока у них все проходило гладко.
Но суд да дело, а вот последнее надо было все-таки делать. Были у Гени иногда порывы творчества, и он в такие дни с ожесточением разрисовывал стены. Он работал, как опытный художник - мазок за мазком, потом пинок в стенку, ругань и снова на этом же, но уже другой краской. Лучше бы, конечно, муза не посещала этого проходимца - разрисованные им стены становились страшнее пожарищ и последствий атомной войны. Между прочим об атомной войне: как-то, то ли сдуру, то ли от буйной фантазии или же от ее скудности, он нарисовал на стене атомный гриб, размалевал его, расцветил. Подумав, пририсовал рядом развалины. Ирина, увидав, чуть не упала в обморок.
- Слушай, - она в страхе перешла на шепот, - что ты наделал? Если увидит Николай, то он устроит тебе настоящее побоище! А ты знаешь, что это такое?
Нет, знаменитость Геня не знал.
- Мне до него нет дела, - попытался он заупрямиться. - Профессия и труд художника свободны от предрассудков!
- Вот он тебе и покажет предрассудки. Ты не смотри, что он такой спокойный. Раз в год, как по заказу, он взрывается, и тогда... весь хутор его помнит ровно год. Но вообще-то, я думаю, после такого помазания на стенках ты уже ничего не будешь помнить...
Глаза художника округлились от страха. Схватив кисть, он лихорадочно начал замазывать свое безумное творение.
Однако со временем шашням художника с Ириной начало мешать присутствие его дочери. Выход был один - требовалось ее отправить домой. Что и сделали. Обе стороны - уезжающая и провожающая - расставались без сожаления: отцу надоело шпионство дочери, а девушке - похабное поведение отца, за которого ей частенько приходилось краснеть. Она уехала. На некоторое время воцарилось в доме спокойствие. У Гени появилась теперь новая стезя - черпать вдохновение на лоне природы, как объяснял это явление он сам. Захватив с собой самогона и Ирину - как же без нее, - он выбирал укромное местечко в лесу. И разгул начинался. Пили, обнимались, целовали и... еще кое-что делали. Николай смотрел на это сквозь пальцы - он устал восставать против жены, не верил в ее измену.
Но вот в конце сентября были завершены «художественные» работы - сделан накат на стенах комнат, разрисованы кухня и веранда. В честь окончания решили устроить грандиозную попойку, возвещающую о новоселье. Пригласили, однако, только избранных.
И вот вечером два десятка хуторян собрались во дворе старого дома отпраздновать вселение Станкевичей в новый каменный дом. Были произнесены тосты и здравницы в честь юбиляров. Ирина не постеснялась сказать речь о художнике.
- Дорогие товарищи, - начала она, - в этот торжественный день мне хочется сказать доброе слово о том, кто вложил немало труда для приведения нашего нового дома в надлежащий вид, отвечающий последним требованиям художественного вкуса!
Николай, сидящий рядом с женой и поначалу думавший, что будут хвалить его, смутился. Но Ирина, оказывается, говорила не про него, вложившего столько труда в постройку дома, а про этого хмыря, который от похвал расплывался в широкой улыбке. На лице Николая вздувались желваки. Плавно текла речь жены о Гене, упруго ходили желваки по скулам Станкевича. Ирина распылялась в похвалах, превознося «великого Геню». Николай бледнел. Никто из гостей не ведал, что муж Ирины стоит на грани своего знаменитого ежегодного взрыва. Знали бы - разбежались сразу...
Вечеринка подходила к концу. Самые нетерпеливые приглашенные расходились. В стороне от гостей о чем-то яростно спорили Ирина и художник. Николай не прислушивался к их беседе, он кипел, набираясь сил для будущей бурной деятельности. Но когда эта парочка в обнимку отправилась к новому дому, Николай вздрогнул и догнал их. Запыхавшись, он остановил Ирину грубым рывком около крыльца.
- Куда? - резкий вопрос был обращен прямо к художнику.
Тот пьяными, но тем не менее изумленными глазами посмотрел на Николая:
- Как куда? Обживать новый дом. Мы с Ирой посовещались и решили, что будем спать сегодня там. Новоселье все ж...
Дьявольские огоньки вспыхнули в глазах Николая - предвестники той вспышки, которой всегда боялась Ирина.
Николай резко ударил художника в скулу и тот с грохотом низвергнулся с крыльца. Затем пинком туда же была отправлена жена, с визгом рухнувшая на своего Геню. Разъяренный муж бросился в сарай и скоро вылетел оттуда с топором в руках. Первой жертвой оказался стол, попавшийся на пути Николая. Два удара - и пополам, звон разбивающегося стекла, грохот фарфоровых осколков. Дикие крики. Два мужика повисли на руках Николая, с трудом сдерживая его. Но тщетно! Разбросав их по сторонам, Николай ринулся заново на художника. Топор валялся где-то в стороне, но отсутствие оружия не смутило разъяренного супруга - с разгона, головой вперед, он врезался в Геню и сбил его с ног. Затем схватил свалившуюся с ноги художника туфлю и запустил ее в окно нового дома. Посыпались стекла. На Николая набросилось полдюжины мужиков. Он сопел, отбивался от них как мог и непрестанно орал: «Я ему покаж-ж-жу! Художник! Хмырь он, а не художник! Убью гада-а-а!» Он вылез из-под кучи пытающихся скрутить его мужиков и погнался за художником. Перепуганный Геня залез в страхе на сарай. Николай за ним. Они начали бегать по крыше сарая, пока Геня не провалился внутрь, а Николай не свалился с крыши...
Утром пробуждение Гени было тяжелым. В мозгу билась мысль о чем-то страшном, случившемся вчера, и теперь уже непоправимом. А Николай, наоборот, был спокоен и тих - теща устроила ему с раннего утра головомойку - нажрался вот вчера до чертиков, поэтому к твоей жене и приставали (надо же как-то дочку непутевую выгораживать).
Разговор был короток. Все стороны были обижены, возмущены и подавлены. С гордым видом художник заявил, что подает в отставку.
- Проваливай! - спокойно ответил ему Николай. - Дармоед!
- Что? - Геня в ужасе подскочил, оскорбленный до глубины души. - Вы мне ответите!
- Отвечу, - так же спокойно сказал Николай. - Все предусмотрено. Ну а вы чем ответите за свои грехи?
- Какие грехи?
Николай вскипел:
- Генечка, отлично знаешь, нечего о них упоминать!
Художник стушевался и просительно-вопросительно взглянул на Ирину:
- А ты что скажешь?
Ирочкой он боялся ее уже называть. А что она могла сказать? Побаловались - и будет. Хорошего понемногу. Все же семья, жить надо. А заново начинать жизнь, да еще с таким... - нет сил. И она ответила:
- Вам лучше, Геннадий Иванович, уехать. Вы унизили нас, оскорбили. И сами пали в наших глазах.
Слово Марии было заключительным - скатертью дорога!
Оскорбленный в своих самых лучших чувствах художник с тысячью двумястами рублями в кармане, которые вручили ему за труд, покинул охладевший к нему гостеприимный дом. Свою младшую дочь он отправил домой еще раньше. Пути Господа Бога неисповедимы, и кто знает - найдет, быть может, этот хмырь еще каких-нибудь простачков под стать Станкевичей и будет снова сосать кровь уже из других... Народный суд ему не суд.
Художник уехал, а после него пришлось закрашивать стены кухни и веранды и покрывать их другим, более простым, но изящным накатом...
Но были все ж у Станкевичей свои радости в жизни. Были такие и такое, куда они вкладывали свои деньги, добытые с таким трудом. Это дочери - Рая и Ада. Для них делали все, разбиваясь буквально в лепешку. Подчас урезали свои интересы, но дети, особенно Рая, были для них непререкаемым идолом. Как скажет, так и будет.
Адочка, младше Раи на пять лет, росла, закрытая тенью старшей сестры. Правда, на Аду обращали иногда внимание, но и только - иногда. С малых лет ей давали для аппетита выпить - ничего доброго, конечно, из этой затеи не вышло - жизнедеятельность организма была нарушена, и она долгое время оставалась толстой. Но и потом, когда она стала красивеньким статным подростком, даже и тогда на нее обращали мало внимания.
В Рае укладывался весь смысл и беспроглядное сосуществование ее родителей. А бабушка Мария от внучки была просто в восторге. Шли годы, и Рая превратилась в красавицу-куклу. Блондинка, прекрасные большие глаза, фарфоровые щечки, небольшой алый ротик. Нежный одуванчик! Парни хутора, будущие женихи, были от Раи в восхищении. Еще бы - самая красивая, самая богатая невеста в хуторе. Самая, самая, самая... Одевали Раю с иголочки. За отрезами даже ездили в Одессу на барахолку (хотя материал лежал и в магазине райцентра).
Но Ирина брезговала местными женихами. Ей надо было образованного зятя. А где искать умных молодых людей, как не на стороне. И когда Раечка познакомилась с офицером из соседнего военного городка, лейтенантом, его с восторгом приняли ее мать и отец. Рая тогда училась в десятом классе.
- Ну и что такого? - успокаивала Ирина мужа. - Сейчас лучше раньше замуж выходить, а то вечно в бобылках просидишь. Да и статистика говорит, что девушки в настоящее время замуж поздно выходят, аж после двадцати лет! Ну на что это, Коля, похоже? Нет, ты скажи...
И вот на этой почве между Раей и матерью возник конфликт. Рая хотела встречаться с офицером по-своему, как того она хотела - гулять в лесу, ходить в кино, но мать была против такого бесцельного проведения времени.
- Зачем? Зачем тебе птички в поле? Смотри, из этого доброго ничего не выйдет.
- Ну и не надо! - огрызалась доведенная до ярости вечными приставаниями матери Рая.
- Как ты с матерью разговариваешь?! Раечка, как не надо? Сама подумай, ведь лучше будет, если ты его пригласишь домой. А?
Рая виделась со свои кавалером только по воскресеньям, редко в будничные дни - так было обоим удобнее - одному для службы, второй - для учебы. Прогулялись они одно воскресенье, второе, и что вы думаете? Все ж оказались дома, а офицер - в гостях у родителей Раи. Лейтенанту захотелось посмотреть, как живет его подруга. Он произвел приятное впечатление на Ирину. За столом умел аристократически обращаться с вилкой и ножом и раз даже небрежно заметил:
- За границей в обществе употребляется в основном коньяк.
Ирина переполошилась: «Отстаем от жизни, что ли? Накупила специально для дочери пластинок, обставила ей отдельную комнату. По вечерам они сидят там, воркуют, слушают музыку. Все вроде бы современно. А тут на тебе, маху дала! Не по моде...»
Она осторожно осведомилась:
- Только коньяк? И даже водки не употребляют? А как же мы со своим самогоном...
Николай метнул на него презрительный взгляд, про себя подумал: «Молод, сопляк! А туда же... Указчик нашелся». И уже мстительно посмотрел на жену: «Получила? Еще не такого от младенчиков услышишь».
Рая, видно, поняла настроение отца и тихо подошла к нему сзади, склонившись, тихо шепнула ему на ухо:
- Успокойся, отец, все же у нас гости!
Отца она любила, но с матерью, как считала сама Рая, жить было намного выгоднее и проще - меньше забот и угрызений совести, да и деньги есть, балует.
Теперь Ирина была настороже. И была рада, что ловит на крючок такого интеллигента, каковым она начала считать офицера. Подхватывала его слова на лету.
- Что сейчас в моде у молодежи? Транзисторный магнитофон. Да вот достать его здесь трудно...
Ничего, Ирина достала. И на следующей вечеринке на столе стоял коньяк, и присутствующие пили его на заграничный манер малюсенькими стопками под джазовую музыку и завывания Битлов. Вот это было современно, по последней моде!
Совершив культурную революцию в доме Станкевичей, офицер исчез с горизонта Раи в начале июня одна тысяча девятьсот шестьдесят седьмого года. По слухам, его перевели в другой военный округ. Вот было-то шума у Станкевичей...
В том же году Рая с золотой медалью закончила школу. Перед ней стал выбор - куда дальше. «Учиться!» - твердо решила за свою дочь Ирина. От того же офицера она как-то слышала, что сейчас без высшего образования никуда. И вот, весь июль Рая упорно занималась с репетитором. Была мода такая у всех потомков Крушинских - приглашать на дом специалистов (правда, последние оказывались чаще недостаточно квалифицированными). Александра, сестра Раиной бабушки Марии, тоже приглашала на дом личного врача, поила его, кормила, платила, а он оказался... фельдшером. Александру вскоре отправили в больницу. Правда, золотая медаль Раи говорила сама за себя, так что репетитора приглашать бы и не стоило. Но что сделано, то сделано.
Ирина настраивала свою дочь, что, мол, без «левых» ходов нечего и мечтать о стенах института. Рая реагировала равнодушно, почему - поймем ниже. И вот Ирина ринулась искать нужных людей. В то время было модным (разнюхала это опять же Ирина, вращаясь в среде молодых) медицинское образование. И вот Одесса, медицинский институт. Раиса равнодушно следила, как мать мечется по деканатам и в приемной комиссии. Сунула одному представительному дяде чуть ли не на «Запорожец», и он твердо пообещал уладить дело. Но... не устроил. И пришлось Рае сдавать самой. Мать, присутствующая все время при ней, с удивлением взирала на свою дочь - скучную, посеревшую, вялую...
Рая, помимо ожидаемого, сдала экзамены посредственно. И не прошла по конкурсу.
Вокруг нее бушевала жизнь, бойко торговали пивом и рыбой, мороженым и водой. Сновали загорелые люди. Переговаривались, куда-то спешили, бежали, шли, гуляли. Где-то вдалеке гудел порт, перекликались пароходы. Везде била ключом жизнь, бушевал в яростной энергии человек, работая у станка, в конторе, у причала, на фабриках. Буйно размахнули над головой свои кроны знаменитые каштаны и незабываемые клены. По улицам яростным потоком шла лавина легковых автомобилей и грузовиков. Везде, куда ни глянь, всюду, куда упрется взгляд, радовалась жизнь. Жизнь деятельная, кипучая, стремительная. Жизнь целеустремленная. Лишь одна Рая бесцельно шла по городу (только что она узнала, что не зачислена). Она была беременна от офицера третий месяц...
* * *
... Издалека мы начали эту историю, и вот подошли к ее концу.
На юго-западной Украине, не так далеко от Южного Буга, по правую сторону его течения, есть село-хутор под названием Попово. Не ищите его на карте. Про него мы и вели наш рассказ. Здесь никогда не пахло свободолюбивыми казаками - негде им здесь было разгуляться, нет здесь широких и привольных, раздольных степей. Нет, не было здесь истинных казаков, здесь хозяйничали паны, белогвардейцы, румыны, немцы. И до сих пор здесь столкнешься со шляхетскими обычаями, самостийными замашками... И гремит еще здесь орган в костёлах, и по-прежнему ксёндз проповедует католицизм. Русская церковь здесь по-прежнему слаба...
Село Попово расположено в изрезанной балками местности, среди живописных холмов. В 1959 году райцентр, расположенный в шести километрах от хутора, перевели в другой город, и с тех пор Попово начало глохнуть, чахнуть. Молодежь сплошным потоком стремится в город - скучно в селе стало.
По вечерам на улочках села можно встретить «золотую молодежь». У этих нет идеалов, ничего святого - дай им только вино, деньги, гитару... или в зубы. Старики по вечерам предпочитают сидеть дома, под защитой дверей, запоров и злых собак. И смех, и грех, и есть над чем подумать!
Но люди, люди!.. Были, были такие времена, когда мужики здесь были богаты... Кто чем... кто деньгами, а кто и умом... И мы расскажем о них вам еще... Мы не заканчиваем.
Будь, старшина
Каждый труд должен быть оплачен - деньгами, нервами, здоровьем. Неблагодарного труда в довоенном СССР не существовало - все почетно и доступно! Мы идем в социализм. Вот только война 41-го помешала, неблагоприятная и мало удачливая... Ну, будь, наш везунчик-старшина разведчиков! И мы с тобой - ... может, прорвемся?!
Встать, тупой русский невежда! - Штейт ауф, руссиш швайн. Вот так бы могли заорать на нашего героя - русского старшину РККА и СА... да не могли. А вот наши - сами на себя - так смогли, на нашего бедного старшину - деятели из военного надзора НКВД.
Нихт ферштеен? Не понимаешь. Все-то он понимает, старшина. Сказать, что он сильно обижен на немцев? Это все равно, что ничего не сказать. Он их просто ненавидел за свою порушенную жизнь. Неудачлив стал один из разведрейдов для старшины удачи, как говорили о нем самом его же разведчики. А и то верно: со старшиной на вылазку, в рейд или там в короткую разведку пойдешь - значит, вернешься, а не то и наградой потом будь отмечен. И главное, что в старшине радует - задача для разведчиков будет выполнена. Так что будь, старшина!
А кто ты все ж есть, старшина?
С ним так было. Вот есть человек - и вдруг на его месте пустота, незряшная, неслышная и неощутимая, молчаливая до ужаса.
Теперь старшина ждет. Он умеет ждать. Обучен. Ждет, пока его судьба даст просечку, и он снова окажется «на коне» - он там ведь был... проклятые немцы, от которых досталась только лютая ненависть - к ним, немцам, довоенные лицемеры, с которыми пришлось даже поучаствовать в довоенных совместных встречах, маневрах и нескольких учениях... набирались немцы там ума.
* * *
- Вот, пожалуй, и всё, - майор из разведотдела дивизии заканчивал свои короткие пояснения обстановки. - Коротко повторюсь: дивизия наша и так потрепана в последних боях, а тут еще немцы оживились в последнее время на нашем участке фронта. Учтите, в итогах разведки не только дивизия заинтересована, но и там, выше, - и он ткнул указательным пальцем куда-то вверх, в темнеющее небо.
- Немцы активизировались, идет небольшая переброска пехоты и техники. Возможно, что и мышиная возня, но движение есть, и, в частности, на их укрепленной и охраняемой переправе, что у них в тылу в нескольких километрах от линии фронта. Вам надо, кроме передовых тылов немцев, попасть и туда - узнать, увидеть, обнюхаться. Еще раз говорю, что от будущей вашей группы разведчиков не так уж мало и зависит в вопросе выяснения дальнейшей обстановки. В разведрейд подберете группу небольшую. Большую не надо, а малая может не справиться. Надо живьем притащить к нам старшего немецкого офицера - где его взять, подумайте сами, решите на месте. Отберите в группу из своих разведчиков, хотя вас за последнее время также изрядно потрепали. Возможно, и присмотрите из своих знакомых, солдат в вашем расположении. Результаты рейда очень необходимы, ждем вас обратно - с большим и ценным «языком» и правильными данными - через два-три. Возможно, отрядим в тот район еще пару групп. Вам из наших кадров мало что светит, но постараемся помочь, чем сможем. Вашу поисковую группу возглавит из ваших - старший лейтенант, боевой офицер, уже ходил до немца. Хотя, конечно, он не так давно возглавил здешних разведчиков. И - с группой в обязательном порядке пойдет ваш боевой старшина.
... Уточняйте состав группы, маршрут, время, обмундирование, заявку. Завтра уточним и утвердим. Если нет вопросов, то расходимся...
Майор распрощался и ушел, будто растаял. Старлей подсел к старшине - более никого, они остались вдвоем, разведчики отдыхали и разминались где-то в стороне.
- Если это такой важный рейд, то почему не пошлют тебя одного, а, старшина?
- Я не офицер. Не положено. А разведка предстоит та еще... Чувствую.
- Во-во, и я о том же. Наслышан я про твои подвиги, ребята рассказывают.
- Рассказывали, - хмуро уточнил старшина. - Прав майор - и нас потрясли в последнее время, укоротили. Да, знавал я многих, и меня знают.
- Я недавно в разведке.
- Я тоже не разведчиком родился. Стал вот им невольно: портянками занимаюсь, дела храню, на вылазки хожу. Когда вас, офицеров, повыбивает - за старшего тогда остаюсь. Жди, говорят, старшина, новых, я и «жду» - у немцев под носом, на нейтралке, около фрицевских окопов. Получается. Удается. До прихода нового командира разведчиков.
... Сам кто я? Да долго рассказывать, старлей...
Есть что поведать о старшине. Да он и сам многое может наговорить о себе и о других - только вот муторно и стремно говорить-то. Ведь не зря уходящий майор шепнул ему на ухо: «Сделаешь рейд удачным - быть тебе при штабе дивизии, где не забыли». Что не забыли - блестящее прошлое и позор настоящего?
Было время - он и с генералами за руку здоровался, то было его время! А сейчас и комдива своего забыл в лицо, сколько уж не видел, да если еще пересчитать на военные мерки и предположить что там, наверху, некогда и не до него сейчас...
* * *
В 1937 году он молоденьким малоопытным лейтенантом попал в Испанию и там заработал свой первый боевой орден. Многие его сослуживцы удивлялись ему - как он прошел отбор, молчальник и крепыш, прослуживший в РККА мало, но хотевший знать много. Он отшучивался, говорил: «Я это, ровесник Первой Войны и беспризорник после Гражданской, пришлось пожить в асфальтных котлах и быть иногда битым старшими. Но так как меня нашли и приютили соратники Дзержинского, то у меня оставалась только одна дорога - из детской колонии в славные ряды Рабоче-Крестьянской Красной Армии. И я готов к выполнению любой задачи». Так что «но пасаран» для него имело только один смысл - «они не пройдут». Кто такие «они» - уже становилось понятным, однако ясности не добавилось.
После Испании, откуда его отозвали, когда стало ясно, что над ней уже не стоит безоблачное небо, в РККА начались непонятные «подвижки» командного состава армии. Так, по крайней мере, это ему показалось, но против он не высказывался, не критиковал и доносов не писал - и его как правильного и боевого офицера начали двигать вперед. Потом для него были горячий Халхин-Гол в Монголии, а в 40-ом пришлось повоевать на линии Маннергейма в холодной Финляндии. За Халхин-Гол наградили орденом - все ж там неплохо и удачно повоевали против японцев за дружественную Монголию. На финской войне поморозился, неудачно воевал и командовал - остался потому без очередного ордена, но зато присвоили внеочередное звание. До Большой Войны 41 года встречался с немцами в мирной обстановке и даже на совместных показательных учениях, обменивались опытом - точнее, это наши болтали «что почем зря», на «провокации» не поддавались и свято соблюдали пакт о ненападении. Вот эту-то войну он встретил орденоносцем, с двумя шпалами в петлицах - уже майор, молодой и напористый. Но даже месяц первых боев затмил его предыдущие военные кампании, в которых ему довелось принимать участие.
Старшину звали Клим. То ли так обозвали его свои же ребята из ватаги беспризорников, то ли так назвали его потом в детдоме в честь героя Гражданской войны.
... Но послушайте - что вам интереснее знать: судьбу предстоящего героического разведпоиска с участием самого старшины, или же предыдущую судьбу последнего. Так вы о чем, что вам интереснее? Ага, все-то хотите знать. Тогда заполучите полной оплеухой, пригоршней страха и надежд...
Знакомьтесь. Имя - Клим. Сначала немного о нем. За знакомство, как говорится. Для начала.
«Вот только буду ли я достоин такого имени?»
«Да будешь, будешь ты, не волнуйся - такие люди нужны, нам их много надо, может даже и в военных пригодятся».
Так что будь, Клим, посвятивший себя армии великого и могучего, непобедимого СССР. Что ж не пойти! Впереди светит орден или кусок украденной курицы, что почем и почем фунт лиха - выбирай, тебе государство предоставило такое право выбора. Он никогда не ставил в жизни разницы меж блестящей безделушкой сороки-воровки и ее последующей поклевки чего-либо. Ему бы прямой дорогой в ЧК, НКВД, но опоздал по молодости - торопящих расстреляли, не успевших оставили на развод... а зря, тупо оценили горящую молодость. Он стал военным, он был им - до конца мозгов, до их святости и тупости, быть может - даже брусиловцем, не став крупным офицером по своей молодости и убеждениям в начавшейся Большой Войне. «А то: все-то мы аналитики, все-то мы знаем. Но уже потом!» Клим не интересовался особо политикой, представлял, «что такое хорошо и что такое плохо», не знал Маяковского и сельского Есенина - военная наука сих не признает, скучно! Так что он вырос толковым и здравым военнослужащим. «Ну куда уж мне деться! Я это знаю. Хрен редьки не слаще, проходил по асфальтовой жизни. Понял я, что для меня армия - что мать родная... и зачем ты меня родила?! Спасибо, стал человеком, военным и даже освобождал западных наших людей в сентябре 1939-го от извергов - шляхты и немцев. За освободительный поход дали орден - особо мы там не стреляли, зато везде нас приветствовали... кто во что был горазд. Так что - заметили, отметили, «такие нам нужны».
После финских морозов сорокового года Клима после лечения направили на укрепление новых западных границ государства - там уже нос к носу стояли уже недальние соседи - фашистская Германия и сталинский СССР. Клима как опытного боевого кадра, пролетарского происхождения, молодого и удачливого двинули на работу в местное приграничное поселение для организации пограничного контроля, создания пограничной службы - в зеленой фуражке погранца, проходя по штату приграничного военного спецотдела, Клим проработал недолго - менее года (ловил врагов, лазутчиков, диверсантов, провокаторов), и 22 июня 1941-го, предупрежденный, встретился с врагом Державы лицом к лицу на одной из погранзастав, где они стояли до конца, когда немцы добивали их. С тех пор он стал спокоен. Как в той анкете: не женат, на оккупированной территории родственников не имею, не состоял, не замечен, лоялен. Награжден за спасение штаба при внезапном прорыве врага медалью, награжден за личную отвагу медалью - скуп наградами был сорок первый. Раздал портянки разведчикам, принял документы от уходящих в поиск разведчиков. Разбирается в оружии, учит новичков. Да, представлен к ордену за последний спец-выход в немецкий тыл. Вот так скупо говорилось про старшину разведчиков...
- Я чему вас обучаю? Надо бесшумно ползти, пропадая в матушке-земле - только она вас и спасет, а не передвигаться на карачках, выставляя все свои шесть конечностей. Вы еще спрашиваете, какие - ненужные вам ноги, загребущие руки, тыкву свою бестолковую - голову, и лишнюю вам задницу, которую вы выставляете напоказ. И не бренчать своими железными причиндалами. В схватке с противником работает все - от ножа под рукой до зубов, локтей и ног. Режьте правильно и грамотно - проволоку, часовых. Учитесь ждать, имейте терпения много...
Так учил и натаскивал молодняк старшина, ему было что рассказать и показать. Некоторые из его воспитанников не возвращались из разведок, другие уходили в тыл подлечиться, третьи еще держались на месте - не убитые пока, не раненые, - избегая наборов в другие части и подразделения армии. Последними дорожили, куда уж без них.
- И ходить надо правильно. Не в растопырку и не в раскачку, будто земля у вас уходит из-под ног. Ступни ног ставьте, не выворачивая их наружу, а параллельно друг другу, нешироко, но да и не слишком рядом - отпрыгнуть потребуется, бросок внезапный, мало ли что, для чего и кого. При ходьбе ступайте легонько на пятки и перекатывайтесь на носочки. Поняли?
Впрочем, народ для разведчиков отбирался уже опытный, отмеченный божьим даром. Только подправить огрехи и остается немного. Но у каждого из новичков есть свое - то, что потребуется группе, и спрос с него будет за двоих-троих. Стрелять, подкрадываться, подавать сигналы, метать ножи, глушить противника, вязать его снопом и забивать кляп, понимать и знать немецкий язык, разбираться в их мундирах и погонах, тащить, ползать - все разведчики должны знать такие науки, совершенства добиваются в каждой единице.
Старшина обмахивал пот и шел заниматься дальше текучкой - портянками, документами...
- А вот спросить бы нашего старшину. Знает ли он...
- Да он и сам еще молод, ответит ли. Хотя, конечно, повоевал, успел. На вид ему под двадцать пять, но не более тридцати лет, по крайней мере. Что может знать старшина в его-то годы, с его службой «тяни-подай»?
- Ну не скажи. Я вот тут такое слышал о нашем чудаке-старшине - старики, местные старожилы из разведчиков, говорят... Впрочем, из них лишнего слова не вытянешь.
... Не курить. Не отвлекаться. Слышать. И слушать. Не говорить даже шепотом. Видеть вокруг на 180 градусов. Иметь глаза на затылке. Их много вокруг - я один, со своими. Многое требуется знать и уметь разведчику...
- Так вот, я тут сегодня случайно разговор нашего командира со старшиной услышал. Да не подслушивал я. Случайно так вышло, любопытство - не порок. Что? Варваре, грит, нос оторвали. Интересно девки пляшут. Да согласен я, согласен. Так от - интуиция сработала, что разговор их будет дюже непростым. Я и затих. Слышу. Сами они учили нас чувствовать и слышать, так ведь?
- Так ведь. Ты покороче и лишнего не болтай.
Тот разговор - офицера и старшины - был странный, будто кодированный, не очень понятный.
- Да ты у нас скрытный, старшина. Так только рыси могут прятаться. Знаешь их повадки?
- Знаю про них только то, что хоть и ходят они «о своих четырех лапах» по земле и ловко крадутся, они здорово лазят по деревьям и там могут так замаскироваться, что и заметить их трудно где-то на суку. Прыгают отменно, когти имеют как... Одним словом - талантливый зверь и не сволочь, обиды не прощает. Наслышан про них.
Старший лейтенант опешил.
- Ты идешь со мной. А я про тебя и толком не знаю - кто ты и что ты? И можно ли тебе доверять, старшина.
- Так времени нашего с тобой маловато прошло. Да и сколь отведено - тоже не знаем.
Старшина Клим понимал. Знал и ведал горько, что уже не 41-й, не его год. Пусть будут для него непонятны судьбы его разведчиков и разведки в общем - одно сейчас ясно: они или «его», или он остается без них. Сказали ему: «Будь» - он и будет с ними. Святая простота - кто ж просчитает наш долгий страшный путь, да и пришел он сюда чуть ли не из другого мира. «Сейчас мы... отдать в кузькины руки... да быть такого! Страшные были потери. И ТАМ, и в других».
А вот это уже другой разговор. С майором из дивизии. Опять же наедине со старшиной - перед общей встречей о создании разведгруппы и ее отправке в немецкий тыл и к их переправе. Майор дело знал.
- Вот ты им и будешь. Командиром группы, созданной тобой же. Твой бывший командир геройски погиб, другого такого не сыскать. Вот, подобрали какого, ничего, тянет. Но разведрейд важный, а ты - глянь, орденов и медалей не счесть, да и при нашей разведке был не только при портянках, регалии и бумаги сбирал - через раз ходил на дело. Все выжившие тебя хвалили, старшина, бывший командир не успевал нарадоваться на тебя, пылинки сдувал и шкуру драл как с неубитого медведя. Вот ты сейчас жив, а он убит, сам знаешь как - пошел сам, приволокли другие. Про тебя чуть ли не байки ходят - мол, удача за ним хвостом тянется. Нечастые твои проколы - не в счет. Да тебе ж по штату надо давно быть командиром, разведки или отдела, из тебя готовый - готовый! - офицер разведки. И полевой, и контр-р! И забрал бы тебя, сундук, давно бы уже к себе, вот только кадров не хватает - выбивает их, а ты у нас железный - все знаешь, и пуля тебя не берет!
- Не понял, товарищ майор, - старшина побагровел. - Что? Не угоден стал фронту и Красной Армии? То есть уже Советской Армии. И сюда до меня добрались. Да я в ней, можно сказать, со времен железного Феликса Эдмундовича, подобрал он меня... да я вас... мой папа - прапорщик Брусиловских полков, «Георгия» имел.
- Да не ври ты, мы ж не из НКВД.
- Ну и хрена тогда вам надо?
- Значит, группу свою не возглавишь. Так? Ну и ладно, понятно. Ты не офицер, а на сердитых воду возят. Пойдешь со своим командиром-старлеем в группу его замом и нашим негласным к нему помощником. Ради дела! Ваша группа, старшина, не одна, понял? А результат один и важен всем. Многим. Так что оконтурь сферу поиска, вернись вовремя и обязательно при «памяти». Выйдешь и докажешь - снова герой, опоздаешь - останешься без награды. Кстати, насчет тебя идет в «верха» разбирательство, быть ли тебе снова офицером. Орденов же тебя не лишали. Так что мы уверены, что ты готов, и ваша будущая группа к разведрейду тоже готова. Смотри, подбирай людей, время для подготовки ограничено, согласовывай со своим командиром, ну а мы подтвердим.
Хочешь сказать, что за спиной ведем переговоры? - майор затоптал папиросы. - Пора. Пойдем на совещание нашей великой тройки - пока так, а уж потом я сам озадачу командира полка с его штабом. Идешь, старшина?
Если планируется выход группы для выполнения важной задачи, то в нее включается командир с замом, проводник-минер, радист, снайпер, виртуоз по метанию, сибирский здоровяк по тасканию и поднятию тяжестей, медбрат, два-три опытных разведчика, переводчик... Кого еще в том списке упомнить призабыл? Но здесь сейчас у нас задача помельче, попроще, точнее сказать - сбор разведданных о возможной переброске немецких войск в районах нашей дивизии и на данной линии участка фронта. Так что спецов требуемых я все равно найду и вычислю - среди своих, в полку, от дивизии. Шансы удачи - один из двух, один к трем - угадайте. И на том спасибо, и спасибо за заботу, что есть выбор. Впору заорать: «Ты кто?» Отвечаю: дед Пихто, и зачем меня выдернули из... я бы там! Орут в ответ: «Так ты кто?» Отвечаю бестолковым: да я... а вы кто такие и зачем в этом мире?
«Тоже правильно», - завершил свои умные и скучные обсуждения с самим собой - тихо и без свидетелей - воинствующий старшина.
«А теперь ближе к телу. Кого я буду иметь? В своей, нашей группе. Рассмотрим, посмотрим. Это смотря с какой точки и под каким углом зрить».
Проводника-сапера, спеца по местным минным полям, в группу не дадут на полный кошт - незачем. Проводит группу - и к своим обратно. Радиста? Слишком жирно, в краткие сроки должны уложиться, без шума в эфире, да и таскать рацию с радистом (а вдруг еще радистку?) накладно для малой маневренной группы - не согласятся в штабе с таким раскладом, радисты и им самим необходимы. Брать с собой снайпера - а кого стрелять, тоже вопрос. Врача в группу не дадут, им и здесь на месте работы хватает, скажут - сами обходитесь своими силами, на то вы и разведчики, мол, привыкшие к такому повороту событий. Вот и все «посторонние». Без них, получается? Не грех бы получить в группу опытного переводчика, шпрехающего по-немецки и понимающего русский язык - так где ж такого взять, из штаба, что ли, который дрожит над ними, как над писаной торбой? А не помешал бы свой, близко под рукой, толмач. Хотя, что я печалюсь заранее: может и найду такого среди своих, который учил до войны дойч-язык, есть же наверняка такие. А прочих - метать ножи, таскать, брать языка, вести охоту, смотрящих (и видевших вокруг) - выберем из своих разведчиков, зря, что ли, обучали их.
Даже если и не зря, Клим, то все равно «сколько же надо в группу»? Старлей ждет твоего ответа, теребит.
Ну, будь, старшина, поспеши к командиру развеять свои недостойные сомнения. Клим покосился на погоны с Т-образной нашивкой, что введены были в армии с конца сорок второго - начале сорок третьего сталинградской эпохи. Значит, Клим, ты уже в ладах с Красно-Советской армией, не в обиде на нее? Командиру своему говори сам, без его подсказок и дополнительных мнений. Или, коль пожелаешь, скажем за тебя, примеряющего гроб? Все ж работа впереди толковая намечается, не чета твоей штатной...
И вспоминать смешно. Расположение разведчиков. Сорок третий.
- Сорок второй. Правильно?! Я спрашиваю - правильно называю твой размер сапог?
- Так точно, товарищ старшина! - молодой ухмыляющийся паренек-верзила водрузился над коренастым «сундуком», смеясь и улыбаясь так ехидно, безалаберно и аппетитно, что невольно хотелось бездумно улыбнуться и заехать ему в морду.
- Пошел. Следующий! - старшина не улыбнулся. Не съехидничал в ответ, не позлорадствовал. Просто понял, что этот новичок - еще салага, плохо обкатан, не дострелян, одним словом - щенок, салага и просто еще маленький дурачок. Мол, не ты здесь первый передо мной, а после и еще придут. Видал старшина еще и не таких прытких. Чуть подраздернул Клим незастегнутый ватник, чтобы тускло блеснули ордена и мелодично звякнули на его груди медали.
- Следующий!
-... следующий! - ровно как в медсанбате.
- ... следующий... - будто уходит в ночной поиск очередной разведчик...
- Старшина! Клим, бросай срочно свои гнусные дела и портянки, поспеши к командиру. Звонок ему был, готовится идти «наверх» с докладом. Старлей сказал, что башку мне оторвет, если я, боевой сверхсержант Вова, не доставлю тебя сей же момент. Шнель, шнель!
Старшина что-то неторопливо и беззлобно проворчал, аккуратно отложил в сторону сапоги сорок пятого размера, обтер руки.
- Что орешь? Мать твою. Иду, придурок. Буду сей момент, - подпрыгнул в воздухе, заорал громоподобно: - В сторону, шавки! - И через несколько секунд: нож за голенище, нож на спину за ворот гимнастерки, удар по фляжке на поясе - полна ли и чем, автоматный рожок за пояс, хлясь ремнем автомата через плечо, тощий рюкзак-сидор за плечо, и прочее, и прочая. - Готов, сержант Вова! Что? Куда? Веди. Вопросы по ходу. Давай, свистунок. Если командир кличет помощника - быть беде, веди, сволочь нерасторопная. И пошевеливайся.
Вроде трудно удивить разведчиков выкрутасами там всякими, но рот разинули, а этих двоих уже как ветром сдуло.
В землянке воняло потом и портянками. Старлей сидел мрачный и хмурый. На дворе день, но тут смачно и круто храпел кто-то на деревянном лежаке, на столе лежал офицерский планшет и стояла круто забитая окурками гильза-пепельница. Сыро, гнусно и погано. Боевым задором не пахло.
- Старшина, сало есть?
- Товарищ старший лейтенант, есть спирт.
- Да пошел ты! Издеваешься?
- Сами такие, голодные...
- Орел! Недобитый.
- Не понял. Не-до-питый?
- Уговорил, старшина, наливай.
- Не буду. Куда и зачем вызывают? Может, пока и не стоит потому заниматься питием. А закуска?
- Эх, а и правда. Такое мероприятие срывается, - старлей лягнул соседа. - Просыпайся. Недоспал, бедолага, видно. В гости к нам из соседней роты забрел, лейтенант, говорит, что по старой привычке - мол, сам таким был недавно.
- Ну ты! Сало давай, обещал! - тычок лейтенанту.
- Сало? Срочно? А водка где? - мертвецки храпящий лейтенант внезапно ожил. Подскочил. Выхватил пистолет из-под шинели. Хватанул левой рукой нож из-за голенища. Чуть не прибил старлея кованым сапогом (старшина успел увернуться), прохлопал глазами с секунду, не больше, после чего шмат сала (откуда ни возьмись!) смачно плюхнулся на стол точно меж планшетом и пепельницей.
- Впечатлил. Уважил. Порадовал, лейтенант. А хлеб?
- Нету его.
- Тогда ауфвидерзейн: нас вызывают, а ты отоспался. Шлепай до родного очага. Не забывай в гости заходить.
- Не спешите прощаться. Мне приказано проводить вас до комдива.
* * *
- Я вас что хотел-то увидеть...
Перед генералом в брюках с красными лампасами стояли навытяжку в небольшой комнатушке двое - старший лейтенант со своим старшиной разведки. Кроме них здесь находился, где-то чуть в стороне и на втором плане, дежурный офицер комдива. Генерал как-то странно покачивался на носках, и его красные лампасы так и лезли в глаза разведчиков. «Ну прямо красные революционные штаны, - само собой приходило в голову оробевшим воякам. - Знаем мы этот интерес: паны думу задумают, а холопам расхлебывай, пока живой, при памяти и поджилки трясутся».
- Знаю вас обоих не понаслышке только, - генерал поздоровался с каждым за руку. Руку старшины задержал чуть подольше. - Старшего лейтенанта знаю еще командиром роты по своей дивизии, а старшину... давно не виделись, не призабыл?
- Мне данные по немцу нужны, - генерал качнулся на носочках, - которым бы я мог полностью довериться. Сведения нужны последней свежести и важности - вот их и раздобыть надо. Подсказали на вас - указали из нашего разведотдела, да и сам я вас тоже припомнил. Значит, не помешает нам и встретиться, тем более и новости про вас заимелись, хорошие. Оба вы стали капитанами. Рады? Старлей, не забрали б тебя в разведку - ходил бы сейчас в комбатах. Да ты на старшину-то так страшно не пялься, он ведь из кадровых военных, видал, сколько у него на груди - каков иконостас, а? Не уступит моему. Да, Клим?! Детали твои потом. Но за это и выпить не грех. Дежурный, организуй, а потом пригласи начальников штаба и разведки.
- Чаю, товарищ генерал?
- Да ты меня вообще за трезвенника держишь! Водки, сала, хлеба. Сегодня еще не употребляли? Ну и правильно, сам вас угощу... кх-м-м, а теперь, дежурный, зови остальных вышеназванных. Ближе к делу. Товарищи офицеры!
И все сгрудились вокруг стола.
... На передовых нашей армии перехвачены две немецких разведгруппы («а и не так много», - помыслил старшина), ушли, один немец убит, двоих наших солдат взяли в плен («не завидую им»). Откуда и для чего, спрашивается (СМЕРШ? Что скажет военная разведка?), такая ненужная активность немцев во времена тихого противостояния?
- Отвечаю. Знаю старшину и тебя, капитан. В одной сцепке у вас неплохо получается. И именно сейчас случай не рядовой и далеко не ординарный: немцы что-то замышляют. Вот потому-то я вас сейчас и не хочу поберечь, вас - моих боевых офицеров, доказавших свою отвагу и активность, - генерал отошел от стола, устало глянул на всех. - Хитрит немец. Дезу толкает. Ловит нас. Ловчит на мелочах, дабы скрыть главное. И если это действо произойдет не у нас, то где? Так что от нас фронт ждет толкового ответа, правильного и быстрого. Тут уж не до жиру - быть бы живу, - генерал замолк.
... Советская авиаразведка доносит, что идет активная переброска (передислокация?) живой силы противника и их танковых резервов. Что, где, куда, для чего - окончательно не ясно. Что это - будущее наступление? Прорыв? Контрудар (Или все ж пополнение?)? И ведь явно в немалом масштабе.
Наш фронт обеспокоен.
И четких ответов пока нет.
Зачем, к примеру, та же мощная понтонная переправа в немецкой прифронтовой полосе? Или перебазировки военных и транспортных аэродромов? Или же усиленное подавление наших прифронтовых тылов и авиабаз? На той же переправе - ее уже бомбили пару раз, но не очень удачно - сильное зенитное охранение, усиленная береговая охрана и сплошной прибрежный контроль самой переправы. В общем, не хило немцы пляшут...
- Короче. Дел еще много, - сказал генерал, - и без вас забот хватает. В десять минут уложимся? Это только долго пишется и рассказывается, а решается быстро. Это, надеюсь, всем здесь присутствующим понятно?! Заканчиваем разговор с этими двоими - что со мною, что и без меня с другими нашими спецами.
«Успеем. Должны успеть. Что тут рассусоливать? - успел подумать бывший ротный и бывший старлей, ныне капитан и командир разведчиков. Был он далеко не стар и не сильно молод, поизношен и молью побит, вот грянула война - и воюет. Успел поваляться на грязных и сырых нарах и настилах. Новоявленный капитан был житейски мудрым человеком, он понимал, что война - это та же заумная, трудная работа, что сюда не дотянутся женские руки с их теплом и обещанием уюта. Ну сдохнет он, капитан, в этом своем мудро-поганом сорок третьем не совсем как большой герой - ну и? Все мы сильны задним умом... о, это по-русски, вроде как славянский стиль, но помилуйте, где ж тогда наша душа, на каком перекрестке?
- Товарищ генерал, не мелковат ли я для такой задачи? - сказал Клим. - Вот вопрос такой мучает. Из грязи да в князи...
Генерал в гневе повернулся в его сторону.
- Цену набиваешь? В разведку пойдете еще в старых погонах, с удачей вернитесь и надевайте новые. Иль зажрались там у себя? Шнапс, сальцо. Да от вас за версту несет трофейной вонью, богачи! Давно ли отдирали от нар свои жирные задницы?
- А не мы ли, - не вытерпел Клим, - товарищ генерал, две недели назад ВЗЯЛИ то, что надо?!
Но генерал есть генерал - и что с ним спорить младшим, только копья тупить: «Вот я и говорю - зажрались! Позорите разведку. Аль забыл, старшина, свои прошлые уроки?»
... Да нет, что ВЫ! Знает же Клим, что нельзя задираться, крыситься и препираться (аукнется) хоть с кем, тем более со старшими офицерами, да особо на каких-либо разборках - имел же такой опыт. Так нет же - опять полез в словесную драку. Слово-то - оно, конечно, хорошо, но ценно к месту и для дела...
Всё, молчу, молчу, товарищ генерал, дальше уж только для нас двоих будет молчаливый бессловесный разговор. Он мог быть вот таким...
- Если бы не мусорил своим языком, то носил бы давно майорские погоны, несмотря на твою поганую молодость. Да еще бы мог нацепить большую звезду, нашли бы за что!
- А что же ты, такой ощеренный...
- Не дали. Тогда - не давали. Это уже сейчас могут звезду покойного героя! Но ты, старшина, все равно для меня незаменим и неподражаем.
- Значит, мало нас таких осталось. Очень мало.
- Тебе бы воевать в армии Рокоссовского, там таких как ты, свободных и непобедимых, овеянных товарищем Сталиным, много. Не страшно?
- ... Чаю народ желает? - совсем по-штатски спросил дежурный толпящихся офицеров.
- Какого чаю? Закругляться пора, - обладатель красных лампасов коротко хохотнул, усмехнулся. - Можно и надо - желающим, на ночь глядя, на короткий сон грядущий, немного, - но не чаю, а водки. Дежурный, а салом с разведчиками поделись, а то они ведут себя как голытьба драная, голь перекатная, нищета царская!
- Что вы нас, товарищ генерал, так позорите, - тихо сказал старшина.
- Что? Страшно стало? Или совесть проснулась??? - генерал чуть не подавился. Поперхнулся.
- Что? - вдруг неожиданно спросил старлей краснолампасника. - Вам тоже может быть страшно?
Зависла в комнатушке знойная тишина. Вроде как преддверие бури.
- Но-но! Не дерзите, старший лейтенант, бывший командир роты. Хотел бы я видеть вас, таких лихих, в тот момент, когда идет доклад ЕМУ... я доступно объяснил?
Выпили.
Вытерли усы и обтерли щетину на подбородках.
Занюхали рукавом. Закурили.
Подвели итоги.
Для первой группы разведчиков они будут таковы: выход в поиск через сутки. Возвращение через двое суток после ухода. Саперы обеспечат проход в наших минных полях, в немецких - придется уж разбираться самим, самостоятельно и на свой страх и риск. Возвращения тоже ждут, в заданном квадрате и в определенном месте, предупреждены и готовы к приему или прорыву группы. В плен берете не менее двух немцев, в разных местах, одного из языков доставить в наше расположение обязательно живым.
- В плен берете офицеров. Сошки нам не нужны, мути много. Даже их унтера нас не интересуют. А еще лучше заиметь трех «языков» разного калибра, вплоть до майора. Глубина вашего поиска - 7-9 километров, дальше - опасно. Вы нам нужны живые и здоровые, с добычей. Наградные листы для вас заранее готовить? Правильно... дурная примета. Да, найдем для вас переводчика - думается, что очень пригодится в ваших делах, по крайней мере, не помешает.
Произошел и короткий разговор в составе группы. Обсудили его с начальником разведки дивизии. Просто и обыденно. Чуть ли не поштучно. Старлей представлял это дело по-другому, даже возмечтал. Вот дадут им снайпера (а какие цели поразить?), они его доставят к переправе, где он своим прицельным огнем раздолбает всех командиров и старших немцев вусмерть, а разведчики его прикроют... а? Нет, слабо так поступать со снайпером - волочить его до переправы и заставить там отстреливаться от обезумевших и приходящих в ярость немцев, да еще и разведчикам отмахиваться от диких патрулей. А, или вот еще - дадут им радиста, точнее радистку, этакую цацу, тащите за нее (вместо нее!) тяжелую и драгоценную рацию, оружие, приглядывай и присматривай за ней, охраняй покой при передаче данных... но зато каков простор действий: передавай все и в любой момент. Но стоит группе славных разведчиков брать напрокат рацию с... Ну, радистку там еще куда ни шло, а то сунут какого-нибудь парнишку, нянчись с ним. Так что с радистом вариант тоже слабоват. Но вот если дадут толкового толмача - дело пойдет: поймали - узнали, что надо, и без проволочек - если самое то, что требуется - заворачиваем оглобли до своих. И не дай бог, если вдруг зашибет «языка» или кого из своих - остальные разведчики знают полученные результаты. Так что переводчик для группы поиска - это да! Находка для шпиона. Вот для сравнения - что взять с врача по месту? Ну, то есть в ходе ведения разведки от ее ловких и вдруг подраненных бойцов - да у врача или медсестры уши завянут и руки начнут дрожать в лихорадке. То ли дело свой, из разведчиков - подойдет (подползет), дружески похлопает (ткнет, пнет, рот закроет ладонью - вариантов много), объяснит ласково (рр-р! Мать твою! Ос-с-сатанел, что ли, земеля?), что потерпеть надо - мол, сейчас подальше выволокут, перевяжут, а ночью и до наших подадимся...
«Фу, бред какой померещился!» - старлей мотнул головой. Вовремя. Вопрос о составе группы последовал.
Перед визитом к генералу старшина еще успел заглянуть к своим разведчикам, устроившимся после разминки послушать байки сверхсержанта Вовы - вроде как своего, старшины, зама по подготовке и обучению разведчиков и всякого рода мелочным делами, которые так всегда сопутствуют жизни в разведке. Вова, удобно примостившись на корточках, уже начинал «травить»: «Рассказчик я, конечно, не аховый. Знаете, знаете... да погодите вы - знаете! Что лезете поперек батьки?! Ползем мы, значит, по нейтралке - ракеты светят невмоготу, постреливают. Вдруг слышу шум. Знаете что? Неужель знаете, рассказывал я вам, что ли, уже про тот случай... Да, медаль за ту вылазку дали, знатно поохотились тогда. Так вот, на чем я остановился? И вечно детвора перебивает. Значится, ползем мы, и впереди шум такой тихенький, неслышный вроде... И тут старшина наш как...! А, вот и сам он. Старшина, что хотели?» Клим отозвал его в сторону - лишь поманил пальчиком и незаметно провел по губам. Ага, понял - и Вова отплыл от сердешного круга боевых товарищей.
- Ты сам, сверхсержант, готовься к выходу. Другим пока ни слова. И предупреди вон тех двоих корешей - щуплого Веньку и его дружка Ваньку - о том же. Скоро буду и объясню.
На этих солдат - вертлявого Веньку, шпану из заводских трущоб, задиристого и ловкого в драке на ножах, и молчаливого скромнягу - здоровяка Ваньку из бывших гиревиков-спортсменов - старшина и положил заранее глаз, определив их в группу совместно с неунывающим и опытным Вовой.
- ... И сколько ж вас пойдет, соискателей, ровно на 48 часов? - спросил начальник разведки дивизии. - Определились, старший лейтенант?
- Так точно. Семнадцать, - ровно и твердо прозвучало в ответ.
- Не больше? Такой толпой, гуртом? Может, сразу целым взводом атакуем?
- И не меньше.
- Почему именно столько?
- Все расписано: стрелки, охрана, охотники, радист, саперы-минеры, команда, бортовики, хватальщики, носильщики, ухальщики, хавальщики, хапуги, переводчик, халтурщик, оружейный хват, и еще кто - забыл.
- Больше наговорил, старлей. Не на диверсию идешь, мост уничтожать и брать немецкий штаб - просто на разведку, уточнить. Старшина, он шутит?
- Каждый заменит троих.
- Вот это уже ближе к истине, - вошедший генерал почему-то улыбался. - Клим, для тебя приятная весть, только что сообщили: возвращают тебе твои погоны и все прочее. Так что, жив останешься - возьму к себе майором.
Начальник разведки покривился, чуть ахнул смершовец. Оба «новых» капитана даже не улыбнулись: а что им, будущим орденоносцам, которых страх не берет, которым море по колено, им, которым все до ... , сала даже не надо вашего гребанного, свое имеем!
Сало есть сало, и что его пробовать - пожрать пот вдосталь и вовремя только. А вот водка генеральская... И когда наливали на посошок всем - старшие офицеры сами, некоторые и не притронулись даже (работу надо продолжать), младшим аккуратно налил дежурный офицер - генерал и СМЕРШ внимательно следили при этом за всеми.
Выпили по последней на сегодня (О-о-о, русский водка! - Сталинская, не чета вашему эрзац).
Что бы не выпить с такого кондачка (на халяву)?
Вытерли усы. Спросили разрешения «убраться».
Получили «добро» (зеленую улицу).
Убрались. Все. По своим рабочим местам, определенным войной.
... В глухую чернильную тьму уходили и растворялись один за другим шестеро - разведчики, ведомые проводником-сапером, спецом по местному минному полю (и немецкое притраншейное тоже - зря, что ли, долгие наблюдения вели). Цепочкой проследовали на нейтралку Вова, старшина, Веня, переводчик (окрещенный в группе как толмач), старлей, и замыкал «ползучую змею» Ванька - Иван. Так будет (и должно быть!) через сутки (только лишь через сутки), когда группа разведчиков отправится в свой развед-рейд в недалекий тыл врага... С Богом. За Сталина. К черту.
Так должно быть. И так будет.
Знавал Клим одного снайпера. Почему «знал»? Он и сейчас живой, тот снайпер, у него еще прозвище такое интересное - Монгол. Можно было бы запросить его в группу, но да ведь все равно б не дали. Незачем, скажут, снайперы и здесь, по месту, у нас в почете. Вот была же до войны категория людей, которая называлась «Ворошиловский стрелок», они еще такие интересные значки на груди носили - и куда они подевались, повыбили, что ли? Или пора более серьезных дел наступила и вместо значков носят уже медали - такие потянут? Клим сейчас и от сибиряков бы не отказался - Москва же не отказалась в свое время от сибирских полков. Сибиряк он и есть сибиряк, и почему-то кажется всем, что они должны быть здоровыми и мощными, прокаленными морозами и обязательно упертыми. Вспоминается: как-то попались Климу четверо сибиряков из нового набора, обычные взрослые ребятишки, не орлы и не быки там таежные. Ответно смотрят угрюмо, глаз не отводят. Освирепел тут Клим, с маху накидал им в руки что попало и начал бить этих скромных «детишек» в грудь и головы. Когда очнулся, прошамкал: «Годитесь. Сволочи! Сразу в морду, даже не спросили - за что, мол, бьешь-то... Всем сесть на нары, меня положить, аккуратно. Амбары, мать вашу! Чё так участливо пялитесь?»
Монгол стреляет метко, очень даже неплохо. Умеет ждать - терпеливо, до тупости и одурения, до синевы в голове. Монгол невысокий, скорее даже маловат и щупл, но он вовсе не монгол, хотя и ус у него редок. И откуда ж вы только такие, немонголы.
- Так откуда же такие, Монгол? Ты, говорят, спишь даже со своей винтовкой, чуть ли не в обнимку, как с любимой женой. Лелеешь, холишь. Сколько же тебе, весу? Не женат, что ли, еще?
- Когда же? - густо пробасил снайпер. - Меня там ждут. Но ведь еще рано...
- Рано - это как? Потом поздно не будет, Монгол? Так сколько? - и в простом таком вот вопросе Клима просквозило восхищение.
- Двадцать один, - просто и скромно прозвучало в ответ. - Зачем суетиться? Охота она быстрых и торопливых не уважает. Поспешай не спеша...
- Так дотянешь?
- Быть может. Невеста ждет. На Алтае. Охотник я, с горного Алтая. Шорец, но не алтаец.
- А есть разница? Где ж такая чудная сторона - горная Шория...
- Есть разница, хренов чурка! Как между вами, - снайпер сцепил классический взгляд на линии «бровь-глаз». - Есть алтаец, есть горный шорец! Две разные вещи, два человека.
- А третьей нет, индюк алтайский?
- Третьей нет. Я попадаю за пятьдесят метров белке в глаз. Шкурку подпортить нельзя.
- Знамо дело! - Клим обозлился - ну и знакомство вышло. - А на тебе!
И излюбленным приемом в упрямого шорца полетели ножи, рожки, гранаты. Не в боевом, конечно, виде. Что, Клим, сдают нервишки, праведник нашелся, заскучал по лампасам или Соловкам? Благо, что более вокруг никого. Тебе, Клим, много ль надо сейчас - быть бы живу, остальных своих уже не вернешь. Как ни пыжься и не обзывай несчастного снайпера.
- И не боишься, снайпер?
- А чего бояться?
- Смерти.
- Горный шорец не боится ничего. Не путай с алтайцем.
- Психи! Ваш Алтай...
Шорец, не дрогнув, вскинул свою снайперку и...
... Вот сейчас бы спросил Монгол: «Вам надо снайпера-стрелка?» И ответил бы Клим: «Да не дадут тебя, а значит не судьба». «Тогда до свидания, а жаль - на переправе не стрелял». «Пока...»
И вам не хворать, не идущие в разведрейд. Клим вздрогнул. «Была бы рядышком та зной-баба, специалист на все «лады» - и немецкий знала, и медсестра грамотная, и сама как огонь! Вот такую бы в группу, только где ж ее черти сейчас носят... Живая ль?» Н-да, такую сейчас поди и не найдешь, Клим? Чтобы женщина, не дрогнув, могла мотать бинты на ваши оцарапанные головы и разбитые в кровь морды, да еще при этом ласково приговаривая и успокаивая, чуть ли не мурлыча и... Как она млела в его руках, когда он думал про всех женщин этого жестокого мира - мне не обязательно молоденькую, и не надо «синий чулок», мне сейчас лучше с орденом и пофигуристее, чтобы била по рукам... Ты такую найдешь? - Да рядом. - Тащи. Замахну. Может, успокоит... Плохо, однако, на войне мужику без женщины.
... Перед Климом стояла женщина. Хмель прошел сразу, да и не увлекался он особо выпивкой в начале войны, разве что когда хоронил своих.
- Ты-ы? Хто?
- Я - лейтенант. Мед. службы. Врач-хирург. Сказали, что тут кому-то плохо из разведчиков. Позвали. Два ордена имею, две ходки в немецкий тыл. Устраивает?
- А ты с нами... со мной не пойдешь, орденоносная цаца?
- Все мое при мне. И ты их завоюй сначала.
- Есть шансы, лейтенант? И кого только по жизни этой требушной не накопаешь, - и Клим потянулся к красивой податливой женщине, но сначала заработал пощечину и увидал скальпель возле своего плеча. И уж потом... Кричал, помнится, в ступоре: «... Мне такая годится! Чья ты любовница? И за что ударила...»
... Эх, заиметь бы такого одновременного переводчика-врача. Так нет же... пустые хлопоты у Клима.
А-а-а, сами обойдемся, своими силами!
Узнавал тогда Клим про эту женщину - рассказали, что муж у нее был командиром на погранзаставе, погиб на ее глазах в самом начале, и она вот сейчас живет как хочет, живет с кем захочет. Умеет сильно и страшно материться. Немецкий язык знала и раньше, но ненавидит его. До войны училась на врача-хирурга, с фронта просит не забирать... Война - сволочное дело и явно не женское.
И в разведрейд пойдут другие. Совсем не те, кто предлагает себя, как пионер согласно заповеди «всегда готов». И не совсем те, кто промолчит и обезопасится. Старшие командиры порешили, что «много не надо, мало не стоит», пойдут те, кто выполнит задачу данной разведки, а не будет отчаянно махаться на нейтралке и остервенело рвать за раз одиночного «языка». Нужны не профессионалы и герои, а толковые труженики фронта, которые вполне обойдутся без дорогого набора услуг, то есть без снайпера и врача, без радиста и профи-переводчика, диверсантов и минеров, без классных и спецобученных бойцов - ведь уже далеко не 41-й диверсионно-героический идет. Тогда зачем, к примеру, в разведгруппу на двое суток радиста и врача, или спец-лейтенанта разведки штаба армии, и что там будет делать снайпер, особо ценившийся в дни окопной войны. Таскать пленного офицера? Найдем. Точнее, сами найдете, вон какие рожи наели и медалями обвешались - что вам стоит разнюхать «что и где», забрать и приволочь пару больших человечков в волчьих шкурах... и зачем тогда куча загонщиков и большая свора гончих борзых?
... Два новоиспеченных капитана шли рядом. Молча.
- Ты уж извини, старшина, но хоть мы с тобой и в одинаковом сейчас звании, но придется тебе подчиняться мне.
- Да, так сказали. Ну и что? Не впервой, - скривился Клим. - Бывало и хуже. Ты у меня не из худших начальников. Были и пожестче, света белого не видал. Ты что, старлей, догадывался, что ли, про меня?
- Толком не знал, не до того пока было. Но чувствовал. Хватка у тебя явно не старшинская. И все равно - будь, старшина!
- Буду, командир. Куда ж я денусь. С тобой или без тебя...
В сорок первом, перед самым новым 41-ым, если уж поточнее, Клим познакомился с одной из местных активисток нового приграничья СССР - ну, там, где он стал зеленой фуражкой военного ведомства новых советских территорий, наконец-то освобожденных от панской Польши. Оба понравились друг другу. А что? Оба молоды, и Клим тоже, несмотря на две свои шпалы в петлице. И как-то быстро и хорошо у них все получилось - и новый 41-й встречали в одном кругу и потом старались часто видеться не только по делам. Вот только страшно помешал июнь - свадьба на носу, да и срок у невесты хоть и маленький еще, но уже третьим должен стать в их будущей семье. И хоть предполагал майор Клим большую беду на границе, готовился и готовил - все равно прогремело так, как гром в ясную погоду. Зеленые фуражки держались на своем рубеже до последнего, как и полагается, но уж больно неравны силы, нет и не предвидится подмоги. Догорала порушенная застава и городок, когда Клим увел последних защитников - не более десятка бойцов. «Это не последний бой, хоть и страшный. Пойдем к своим, еще пригодимся живыми». Они нарвались на немецкий военный патруль - враг уже давно хозяйничал здесь и добивал выходящих из окружения. И только Клим, живой и невредимый, пробился наконец к своим. И тут его взяли в оборот: «Кто таков? Почему бросил своих и бежал с поля боя? Струсил? Кто докажет рассказанное тобой...»
Так и не понял Клим про тот свой 41-й: была ли у него жена и будущий их ребенок, что же сталось с его невестой и, да может, найдет она его. Хотя вряд ли, не бывает чудес в этой адской круговерти, многие бы предпочли «да лучше б дела с вами не иметь!» Нет, она не такая, ждать будет, вот только много ли у них надежд? Да почему ж я тогда не погиб на границе, а нагрубил после выхода к своим «компетентным органам НКВД»? Сколько было бы уже нашему ребенку? А почему «было»?! И Клим заскрипел от злости зубами.
Климу и вспоминать даже нет желания и охоты про тот «разбор полетов», так поломавший его военную карьеру и уверенность офицера. Ордена оставили - за уважение к его былым заслугам, «погоны» рванули с плеч - оставили пустые (хотя в 41-ом и не было еще погон). Спасибо хоть так, а не иначе. Потом на военных дорогах под Сталинградом Клим как-то столкнулся с одним таким бедолагой: «немцы сейчас не добили, так свои же перед войной пытались», - сказал он. И поведал Климу, затянувшись гнилой махрой.
«Свои не ведают, что творят. Творили. Скажи, говорят, спасибо нашему отцу народов, что сразу к стенке не поставили. И не скреби обиженного. Спасибо, говорю, зна наше счастливое детство. Хамишь? Да нет, отвечаю, отчего ж - просто продолжаю наш мертвый диалог».
- Удивляюсь, - не вытерпел Клим тогда, - как же тебя эн-кэ-вэ-дэшники не расстреляли?
«Понравился я им. Долго изгалялись, били мертвым боем, сутками не давали спать, кормили селедкой без воды, башку мою не жалели. Измену и предательство искали. Только ничего я им не подписал: не ведаю, не знаю, с Блюхером лично не встречался (ну и что, что я был участником его уральского похода в гражданскую). Только воевал, шпионом не был, Сталина уважаю. Подписать Вашу Вшивую Грамоту? Да запросто, вот только пальцы не шевелятся... боюсь, товарищ-гражданин следователь, не получится. Он мне хрясь в лицо, в переносицу, пол наискосок и табуретка сверху на голову. И вновь для меня наступила долгожданная тьма. В таких случаях или обольют водой, или поволокут обратно в камеру, на отдых».
И у Клима тоже нет желания вспоминать ту «разборку» 41-го. Разбор полетов - это ведь у летчиков. Как тогда у пехоты? Что бы светило Климу после 22-го июня 1941 года? Клин, догадайся и ответь же честно самому себе: плен, окружение, расстрел, лагеря, штрафбат, разжалование? За то, что отчаянно бился на границе. Было дело на подступах к Сталинграду и в армии Рокоссовского там же, где и получил вечного старшину и попал в разведку. А что там разнюхивать и знать про немца - на Волге и в битых городских кварталах... ну не скажи!
- Клим, а ты сам-то давно таким умным стал?
- Не лучше и не хуже других.
- А война - это все ж тяжелая работа или трудная жизнь?
- Это с какого боку посмотреть.
- Ну ты и пошевели своими мозгами, да и ответь нам, грешным. Ты же умный - воевал в Испании, на Халхин-Голе, с финнами, ходил на западные рубежи. На родную заставу хочешь вернуться? А как - сначала на восток шел, а потом от Сталинграда обратно, да?
* * *
А вот своих взять, доморощенных - орлы, менее чем за сутки подготовились, без всяких там лишних вопросов «зачем и почему». По кочану - идем, берем, через двое суток возвертаемся, «а я вам не нянька», штабистов с нами не будет... ах да, я забыл сказать - в группе будет переводчик. Он, конечно, не чета вам, бравым воякам, но по-ихнему, не на нашем свойском, сказали, что неплохо кумекает. Одним словом - толмач, неплохо шпрехает. Прошу любить и жаловать! Практик из него никудышный по части владения оружием и рукопашной, но да поможете ему - беречь надо как зеницу ока. И перед разведчиками появился сутулый паренек, поприветствовав ошарашенный народ немецким «гутен таг» и добавив «ихь фертих» - «я готов» в переводе. «Ну, это и мы знаем», - подумали бравые разведчики. Вот так прибыл Толмач на свое новое место работы - для участия в разведрейде в составе этой небольшой группы поиска.
«И где такие чуда только обитают?» - помыслили, вопрошая про себя, разведчики - ну явно не вслух, несолидно. «Прикомандирован к вам из штаба, - объяснил новоявленный Толмач. - Здравствуйте, я к вам. Вы не волнуйтесь, я хоть на фронте почти новичок, но немецким владею очень даже неплохо». Из гражданских, что ли? Всякие там «хенде хох» и «Гитлер капут» и мы знаем, а вот далее... Ну да посмотрим в деле «дойч».
Теперь их стало вместе, кучно шестеро «добровольцев»: на полшага чуть впереди всех - старлей, командир группы, остальные - Клим, Вова, Веня, Иван, переводчик. Если проще - старшина, сверхсержант Вова, Венька и Ванька, Толмач - так понятнее и ближе всем. И пока старлей придирчиво озирал группу, широко расставив ноги, разведчики в ответ оценивали командира: вот, стоит как на параде, ишь расщеперился, старшина учил, что так ни в коем случае нельзя находиться - мертвая позиция, тупая и неустойчивая в общем плане развития событий. «Ну, прямо цирк, - думал старлей. - Балаганный и разношерстный! А впрочем, что это я - не впервой ведь... Вот балабол Вова, вроде как из морячков. Вот неразлучные друзья-приятели - шкаф Ванька и шкет Венька. И мой старшина - будущий майор. А где переводчик, куда исчез он в одно мгновение? Глаз и глаз за ним нужен». Толмач объявился быстро - пикнуть не успели, в форме немецкого пехотного обер-лейтенанта, неся в охапке кучу серо-шинельных коротких курточек. «Вас ист дас?» - вопросил Вова, хватаясь за пояс с большим ножом. Невозмутимый старшина передразнил: «Что это? Вас ис дас - кислый квас! С нами пойдет этот немец-обер. Молод, конечно, еще для звания «старший лейтенант», но да будем считать, что он из барчуков, папенькин сынок. А мы, все остальные, подеваемся в эти укороченные немецкие шинели, чтобы не так бросаться в глаза. Одевайтесь. Веня, ты что вытаращил глаза на нашего Толмача? И рот закрой, Иван».
Что с них взять - от Ивана с Веней, или же от Вени с Иваном? Одним словом - неразлучна парочка, то ли друзья или все же приятели. В общем - Венька с Ванькой, и никак не иначе, по-другому сказать и поставить в строй нельзя: сначала щуплый Венька вперед лезет, а за ним пристраивается здоровяк Ванька. Они даже спать как-то умудряются вместе на узких нарах - там Венька устраивается чуть ли не в ногах своего богатыря, или же где-то под боком у него. По первости вертлявого Веньку чуть не зашибли по ошибке - Ванька сгреб обидчика за ворот гимнастерки, поднял... Молчун, вообще-то, Ванька. Холостяки оба, молодые еще пока для такого дела, но когда заводская шпана Венька начинает заливать про свои похождения у девок, и глаза у него становятся как у мартовского кота, челюсть Ванькина будто под напором отваливается. НО оружие каждый из них таскал всегда сам. Ванька не пил и не курил, а Венька - дитя трущобных заводских окраин («и чегой-то к нам сегодня притащились? Проходите, гости дорогие, уважим...») баловался всем подряд - «пока я есть на гособеспечении, так как являюсь законным защитником своего отечества - почему бы и не попробовать той отравы, которую предлагают, да? Да еще бесплатно!» И он ловко цыкал слюной под ноги. Дрался он ловко и изощренно, не хватало только заключительного удара-кувалды, как у Ивана. И быть бы скромному Ивану хорошим трактористом на деревне, кабы не война! А Венька обязательно бы кончил уголовником и зачах бы где-нибудь в лагере, если бы не началась война... Ваня из деревенских, отменно владеет арканом, кнутом и самодельным луком, умело подражает голосам животных (старшина Ивану: «И где я тебе возьму корову ночью на второй линии немецких окопов?»). В отличие от прыгучего Веньки Иван всегда ступает тихо, бесшумно, на цыпочках, говорит тонким красивым голосом, а не сварливым, как у приятеля Вени.
Старший лейтенант, мысли про себя: «С бора по сосенке. Ну чем не спецгруппа? Да еще этот Вовка-мореман...»
А интересный тип был этот Вова. Он любил, чтобы его называли «сверхсержант», но почему-то его звали морячком, мореманом, балаболом. Любил он травить байки и делал это весьма отменно, был на самом деле сержантом (это в пехоте, здесь, у вас), «а я являюсь списанным на берег старшиной второй статьи - то есть «земляк» нашему старшине, и добавка «сверх» для своих земляков из пехоты». Вот таков Вова. И не поймешь его сразу, где он служил и воевал - то ли в Одессе, то ли в Севастополе, и где он потом, став сухопутным, побывал в передрягах. Полундру не кричит в запале, «аврал» - его любимое. Бережет свою тельняшку, стирает, латает. «Да на ней больше дыр, чем полосок осталось, - шутили местные острословы. - Давай мы ее подерем, эту твою кучу морского хламья». На что Вова глубокомысленно изрекал: «Когда надо, тогда и порву. Сам. Еще время не пришло». Старших по званию он запросто мог назвать «кэп», а младших и вообще мог обозвать салагами. Любил Утесова, мог порой и сам что-то промурлыкать, типа «Раскинулось море широко, и волны бушуют вдали. Товарищ, мы едем далеко, подальше от нашей земли». Вот таким был Вова, то ли на самом деле морячок, то ли прикидывается - поди разберись в этой военной неразберихе. Но воевал он люто! «Сердце, тебе не хочется покоя! Сердце, как хорошо на свете жить! Сердце, как хорошо, что ты такое! Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить!» Одни восклицательные знаки были по жизни у Вовы, других он, видно, не признавал: «... и тревожная черная степь пролегла между нами».
Вот такими они были - все вместе, а думы разные у каждого. И каждый из них думал и мыслил по-своему, беседовал и говорил «тихо, «про себя», не вслух... дабы неповадно было...». Сомнения и вопросы были, но весь вопрос состоял именно в том - так ли нужны они сейчас?
«Былое и думы» - так, кажется, называлось у Герцена. Или все же называются «Размышления у парадного подъезда» по Некрасову, где выясняется «кому на Руси жить хорошо»...
... «Вот кинули меня, успели. Занимался портянками и «немецким» барахлом. Вот вновь засияла майорская звезда!» - только ты, майор, из окруженцев, и не герой 41-го, а просто бывший майор. А потому - будь, старшина...
... То, что я оказался в дураках, еще не говорит, что весь мир сошел с ума. Что смотришь, старлей, без вас разведка поплохеет, поди думаешь. Гражданскую твою мечту обидели - вот и нянчишься со своей дерьмовой незаменимостью...
... Я ненавижу весь этот мир, я ненавижу портянки и лязг, я ненавижу мертвым боем уставшие свои жизненные дела. Я ненавижу свою тельняшку на отдыхе. Да-да, вы что, пехота базарная, не поняли разве, что я рожден и буду капитаном корабля дальнего плавания, а не для того, чтобы топтаться пешком в болотах. Грехи мои? Какие? А у кого их нет?..
... Сказали командиры - значит сделаем. Все прошлое - мое, никто не отымет, а вот в будущее надо еще пробиваться, если, конечно, шансы будут и дадут - лопатой отгребай тогда, догонят и еще дадут, снова догонят и добавят. Но ничего, старшина, мы их все равно уделаем, а то плюнуть не на кого. Вот только сволочью не был, но кусок праздничного пирога отхватить с дружками готов - это по нас, для нас...
... Не особо разбираюсь в золоте - ну и что с того, проживем: Менделеев умер, Цезарь загинул, мама в могиле, дочь у Сталина (слышал) в казахстанском концлагере, а я вот жив-здоров, не кашляю...
... Большой поиск - это не должна быть большая толпа. Сколько? Завалим лишних людей, и нам тогда бог не простит смерти своих. Не хватит в группе - нам плохо будет. Ведь ты, старшина, из «зеленых», идешь от самой границы - мне ли тебя учить. Но почему же так доотступались?..
... Да ты не балуй, командир, еще рано паковать нас под колючку. Полезешь сейчас в душу под шкуру - побрею ножичком. Шучу, не только умею портянки наматывать и считать - я слишком обучен. Нет, черту душу не продал, не успел...
... А вдруг группе повезет - генерала завалим, ну то есть захватим, в плен возьмем, он и выдаст нам все скопом, сразу - тут и пригодится мой правильный и профессиональный перевод. Но да где ж такое видано, чтобы немецкий педантичный генерал шлялся по нашим дорогам просто так...
... Недаром Суворов говорил (или Наполеон), что каждый солдат мечтает быть генералом (желает стать им) и носит в ранце маршальский жезл - не знал я, какого полета птица у меня замом ходит. Если бы знал - удавился бы от тоски и забросил разведку, вернулся в роту?..
... Да не тушуюсь я, и толпа большая не нужна. Необязательно сверлить меня взглядом - не пойму, что требуют. А себе доверять я не перестал, кумекаю в армейской жизни, что-нибудь спроворю с группой. Жалко этого вертлявого парнишку, что вечно лезет вперед меня, темный он - это на волос только белобрыс, верю в него, в нас...
... Все ж тяжела служба у офицеров - это говорю я, будущий кэп, прошедший Рым, Крым и разные Одессы, имею право, салаги. Побаиваетесь, со страха падаете, еле шевелитесь - не боись, я с вами...
... Мы своего добились - из запрошенных семнадцати по большому счету нас осталось для проведения разведрейда шестеро. Как мы пойдем - молча, через проход в минном поле, потом по интуиции - война любит «краситься» в белый цвет, а если зазеваешься - то и на самом деле покрасит...
Группа уходила ночью, когда окончательно и густо затемнело. И сразу после этого пошла. Чтобы резерв времени еще иметь в этот день - темнота, она ведь друг разведчика, любят они друг друга. «Знаем мы эту нейтральную полосу - полоску надежды, сколько душ она погубила!» Были шестеро во главе с сапером в окопе - и нет их уже. Впереди группу вроде как вел вслед за проводником в проходе по минному полю сержант Вова, в середине, пыхтя и неумело работая локтями, полз Толмач - беречь надо переводчика, запихаем его подальше от опасного авангарда и не совсем последним в цепочке ползущих разведчиков. Замыкать группу - во избежание непредвиденностей - должен опытный и хладнокровный человек, умеющий все видеть и все слышать - ну, конечно, Иван. Так что по порядку - Вова, Клим, Веня, Толмач, старлей, Иван. И командиру на «охоте» вовсе не всегда надо находиться на острие удара, это уж потом пойдут и будут нештатные группа захвата, группа прикрытия, группа отхода - на все и про все шесть человек, а порядок следования и порядок захвата - да не волнуйтесь вы так, все так и будет - без случайности и глупостей, по приказу командира, по стечению обстоятельств. Какие тут сейчас и для чего «радист - снайпер - минер - врач - штабист», еще вспомни «бомбометатель - овчарка - диверсант - лазутчик»... - глупости это штучные. Забыли одно правило: главное - сапоги дорогу знают! Если не одумались - предлагали ведь всем? - то теперь поздно и возврата нет.
Повернул в сторону своих проводник, помахал рукой перед лицом старшины и куда-то ткнул в темноту - неопределенно повел кистью. Ясно, уходи, сапер, дальше мы сами. Старшина ткнул сапог переднего Вовы и заменил его - теперь он будет проводником и поведет группу дальше по нейтральной полосе. Группа, однако, жирная и упитанная набралась - два офицера, два сержанта (переводчик, оказывается, тоже сержант, видно, в своих делах не так плох), два бойца.
Нейтралка осталась за спиной. Секундная передышка у группы - прошли удачно, без «скандалов» и стычек, при скудном освещении. Вот здесь немного полежали, чуть сдвинулись в сторонку, где уже впереди просматривалась безлюдная (малонаселенная, видно) линия немецкого окопчика - замызганного, узкого и явно не в полный рост. Снова подождали, оценили, перемахнули в две секунды и нырнули в какой-то овражек, что и доказать то требовалось: с глаз долой - из сердца вон. Вот теперь ползем аккуратно, по невидимой команде опытного ведущего старшины, можно даже зад задирать и локтями не скрестись - так даже следов меньше остается, а пули здесь не летают в оттопыренные задницы. Аль какая шальная может залететь ненароком - во смеху будет, в госпитале не поймут, косо посмотрят, да еще пулю нашу-то извлекут из твоего мягкого места. И не докажешь, что правильно полз, в верном направлении, а на задом наперед. Но везение было на стороне разведчиков, и самые страшные минуты уже миновали, утихал и охвативший их озноб.
На выходе из маленькой балки внезапно напоролись - нос к носу - на немецкого приблудного ефрейтора, так неожиданно явившегося из густой тьмы. Что уж ему пригрезилось - сейчас и трудно сказать, раздалось только короткое и приглушенное «ай-й» - и стихло. Готов, немчик - резко подоспевший Вова навечно успокоил случайного немца. Старшина обшарил карманы убитого, сунул найденные документы подкравшемуся Толмачу, махнул вглубь рукой - отнести труп с глаз долой. Ну?!
- Темно.
- Светить особо нельзя. Шкрябай.
- Да обычная пехота. Из местных. Здесь ихний полк стоит. Так что пока ничего... нового.
- Всем - уходим быстро и осторожно, и подальше! К переправе. И дай бог успеть затемно, пока немцы из-за своего капрала переполох не устроили. Возможно, по пути следования присмотрим еще кое-кого, грамотного и желательно из новичков неместного пошиба, - мнения офицеров совпадали.
«Как ты, Вова?» - кивок старшины вверх.
«Прекрасно!» - палец сержанта поднялся в ладони.
... А ты, Вова, далеко пойдешь - поплывешь, морячок, с разбитого корыта. А и где ж тебя такого потопили?
Докладываю. Не удалось утонуть в Черном море, кэп! Отбивались до последнего, там нас стреляли уже у моря. Денек тот последний еще кое-как отстояли, а в сумерках какой-то бот из последних и забрал нас - только немцы потопили его все ж, а я вот...
... Товарищ старшина, я ведь тоже старшина, только второй статьи. А вы какой статьи? Вам где лучше плавать - на Балтике, в Черноморье иль где подалее, ась? И где ж тельняшечка ваша, кэп? Нет, я не заблудился и не утонул еще. Почему не сдох в Крыму - так не удалось, рано еще, надо узнать - почему такая лахундра пошла в наших морях. Вот, флоту не стал нужен.
* * *
Следующие какие-то с полдесятка километров - всего-то, и что их, кажется, прошагать взрослому человек - шли чуть ли не целый день, с раннего утра. Смеркаться уже начало, когда подкрались к цели, подусталые за день такой нервной ходьбы - шаг, перебежка, долгое ожидание, озирание вокруг, снова вперед или в сторону, сигнал, короткое продвижение. До самой переправы, чувствовалось, оставалось не более полутора-двух километров, когда их движение окончательно застопорилось из-за попадающихся патрулей и небольших редких колонн. «Ну все, приперлись! И, кажись, нас здесь не ждут, опаздывающих в своем графике - времени-то обратного остается чуть поболе суток, а языкастой умной немецкой головы у них еще нет и в помине, к самой переправе ближе не подойти - так чего желаете?» - невесел был старлей, командир разведгруппы, вроде как в тупик пришел.
«Приплыли, что ли, кэпы?» - Вова-сержант, смежив глаза, всматривался в сторону долгожданной переправы - а ничего не видно! «Реку эту, что ли, освободить? Широкая, наша. Своя родимая, до морей еще не вернулся, так здесь хоть, что ли, позлодействовать?!»
Группе разведчиков предстоит - и это решение было для всех наиболее правильным и верным - по вечерней суете подкрасться поближе к переправе (но разделяться на мелкие группы не стоит) и по темноте (в лунных просветах) «затовариться языком» из патрульных, желательно из старших. Или же подобрать кого-либо из саперной понтонной команды, зачем-то (узнать детали и подробности) околачивающейся здесь, а после его - или их - допроса и порешить, какова цена мосту и переброске немецких войск, какая это система: тыл-фронт, фронт-фронт, или тыл-фронт-тыл. И уж после этого подаваться в бега.
... Всё-то мы думаем за всех и обо всем, а в частности, оказывается, каждый про себя и за себя - чтобы оружие всегда оказалось под рукой, и не так важно, немецкое оно или советское, чтобы много было патронов и ножей, будто все их на три тяжелых боя вперед наберешь, и гранат, да побольше бы, не помешает. Бинт у соседа найдется, фляжка пусть не протекает в колпачке, маленький сидор не брякает металлическим стуком, дополнительные автоматные рожки бьют по ноге по нехорошим местам. Загребаешь под себя, огребаешь на себя и все нервничаешь - достаточно ли, хватит, а то будешь выгребать в последний момент последнюю мелочь из кармана трясущимися пальцами. Перезнакомились ли остальные разведчики группы друг с другом, каждый со всеми? А зачем? Да вроде уже знакомы заново и давно, когда оказались за нейтральной полосой на вражеской территории...
- Убьют меня вдруг случайно - будет старшина за меня командовать.
Открыл Америку, старлей, порадовал - это ведь и ежу в тумане ясно, да и сами мы напросились сюда и сейчас. Ну, почти сами, сказали кому - и пошли... смерть одна, а жизней много наших! Так что мы пока повоюем. Да, а что с «языком», которого изловим тут на переправе, делать будем? Домой поволочим? Ну, в наше расположение, да?
На пустынном берегу недалеко от реки не так далеко от самой переправы они заметили немца, беспечно смотрящего в сторону переправы. Да неужто один? А где ж остальные из патруля? Может, вперед уже ушли, к своим поближе, где шумит безопасный и тихий гвалт переправляющейся небольшой колонны немцев, а этот, мол, опосля догонит своих - толстый фельдфебель, командир патруля?! И разведчики выжидающе уставились на командира - берем? Последовал подтверждающий кивок старлея, а старшина молча ткнул указательным пальцем в Ивана, с которым как обычно рядом топтался неугомонный Венька. Так кто пойдет? Из их густого малорослого леска - прибрежных драчливых зарослей - вынырнул под немца Венька. И они завозились в злобной неожиданной сцепке. Подоспевший Иван сильно вдарил немца, и тот обмяк на его руках. «И куда ты лезешь?» - прошипели друг другу друзья-соратники одновременно и без добавления «... поперек батьки в пекло!» Иван сгреб добычу и вся группа, ожидая воплей вслед и панических автоматных очередей, начала уходить подальше из зоны переправы и ее береговых патрулей. От греха подальше, в спасительную темноту.
Отдышались после аккуратной пробежки. Иван свалил кулем с плеч себе под ноги пленного. Старшина извлек у «языка» из кармана его удостоверение. Рядом уже нетерпеливо, тыкаясь в других, топтался Толмач.
- Начинай, - сказал старлей. И, успокаивая всех, добавил: - только не путай языки и не мельтеши. А то мы с немецким не особо в ладах, а ты нам перевод вроде фас-дойч начнешь выдавать! Давай!
Веня дал тумака немцу, Иван добавил по тычку им обоим. И двое - русский и немец - залопотали в свои два и четыре языка. Однако не скоро вышло что-то узнать от патрульного фельдфебеля, но кое-что прояснилось от перепуганного немца и озверелой рожи Веньки - «язык» развязался и потек.
... Не-а... Не слышал про большие переброски. Да это так, подкрепления вместо побитых, вы, русские, здорово деретесь, у нас много потерь. И на соседние участки тоже, небольшие переброски, в основном - живая сила и на колесах, техника для усиления. Вывозим раненых в тыл. А рядом нет бродов и удобных переправ, здесь основная, обслуживает большой участок, поэтому так усиленно и охраняем и укрепили зенитками. Да, пару раз ваши бомбили, отбились, здорово не повредили. Еще будете? Да, техника идет, пехота на фронт - но таких сил маловато здесь нам для наступления. Прорыв, удар планируемый? Да какое там, концы с концами еле сводим. Не знаю я больше, особо не посвящают. Так, кое-что, сам слышу и вижу...
Наступало утро, светало и приходили новые проблемы и заботы для разведчиков: забираем немца («черт бы его побрал, и навязался на нашу голову») и уходим до своих, чтобы поспеть вовремя. Или же занимаемся ожиданием и уточнением, не так все понятно в этой истории - ну, а вдруг будет «гроза или там будущий большой переброс? Они замаскировались и стали ждать, как Вова сказал, «у моря погоды». Так переждем что-то и что-либо и уходим прочь? После короткого обеда к разведчикам подошел старлей и хмуро сказал: «Ребята, закопайте немца, он там в сторонке валяется. Ну куда нам с ним таскаться? Обуза. А мы по темноте пойдем снова к переправе».
Планам этим не суждено было сбыться - над немецкой переправой раздался рев самолетов. Налет, очередная попытка разбомбить эту «кость в горле». В воздухе завыло, задребезжало, и разведчики, особо и не таясь, поспешили к месту действия. Помогут, быть может, им наши летуны? Вот это разбор полетов, толковый!
(... Из бомбардировщика он смерть понесет... А кажется, стабилизатор поет - мир вашему дому...)
... Спасибо, братки, подмогли нам. Может, и мы сейчас что придумаем, под шумок ваш...
Над переправой стоял рев, крики, лязг, горела техника, метались люди. Падали в воду, стремились на берег и по канавам.
Наблюдатель - разведчик, ведущий в одиночку наблюдение за рекой и переправой с самого-самого синего утра - то был сержант Вова - тихо свистнул, остановил группу и показал на машину на берегу, стоящую в стороне от выезда и суетящегося около нее человека. В глаза бросались его фуражка и погоны, передал бинокль командиру и коротко заключил: «Этот. Наш. Наш человек. Должен быть. Будет. Офицер он. Майор. Все ходил утром по переправе, тыкал пальцем в воздух и в стороны и кулаком в морды... этот нам пойдет!»
Этот нам подойдет. Большая шишка на ровном месте. Жирный гусь. Такой нам и нужен. Дождались.
Вот тут и вступили в дело законы фронтовой разведки - всякие там группы (захвата, прикрытия) и порядок (следования, захвата). Над рекой висел гул, слышались взрывы бомб, выстрелы, захлопали зенитки обороны, бегали люди, прятались и уходили от пуль, бомб и осколков. Вздыбились вода, металл, земля.
Немецкий майор метнулся к легковой машине. Навстречу ему спешили Веня с Иваном и чуть поотставшим Толмачом в форме немецкого обер-лейтенанта. В недалеком кустарники притаились Вова и старлей. В этом речном взрывном бардаке все это выглядело вполне приемлемым и очевидным - мол, солдаты и офицеры разбегаются в стороны, куда-то бегут прочь от пуль и взрывов.
Майор уже сидел в легковушке и что-то там делал, когда подбежавший первым Венька рванул дверцу машины, заорал «хенде хох» - и замертво начал валиться тут же, заваленный в упор выстрелом майора из «вальтера». Никого, значит, не ждал в гости немец - самостоятельный и независимый? Набежавший вслед за Венькой Толмач усиленно залопотал на немецком, сзади озирался по сторонам Иван - но никому из пробегающих рядом немцев не было дел до произошедшего, ибо бомбежка переправы заставляла людей бежать, падать, зажиматься, убегать, не видеть, не слышать, не погибать или быть убитым. Из машины вышел майор - что уж там ему наговорил обер-лейтенант Толмач, скорее всего про безопасность при сигнале «воздух», - и они, все трое, начали удаляться в сторону кустов и подальше от вздыбленной переправы, мелкой рысцой и целенаправленно прочь: майор с обер-лейтенантом и Ванька с переброшенным через его плечо тщедушным Венькиным тельцем, болтающимся по сторонам и абсолютно неуправляемым.
Затихали бомбежка, паника, появились патрули - ошарашенные и бестолковые, зашебуршались люди по кустам и канавам прибрежной зоны. «Ну и куда ж мы теперь? Время опять работает против нас - пока майор поймет, что к чему, не станет орать и заговорит толково и правильно. С Венькой, точнее, с его бездыханным телом, надо что-то делать - не оставлять же «его» на расправу. Попрятавшегося народа военного рядом - тьма, но да это пока нам на руку, но вот пока они рассосутся и разойдутся по своим делам... Сейчас начнут наводить порядок на самой переправе и приводить ее в рабочий вид чуть ли не до самого нового восхода солнца, то есть почти всю ночь. А за ночь тут на этом берегу - между немецкими позициями и рекой - наверняка набьются эвакуированные раненые, полупустые машины и пустые фуры и повозки, тягачи с поврежденной техникой... Вот и хорошо, и мы тут будем уходить под этот поток - стороной и побаиваясь наткнуться на неприятность. Смешно и грустно - все к реке, а мы супротив двигаемся, что весьма подозрительно.
И придется нам, не уходя отсюда, от этих кустов у самой почти что переправы, оставаться именно здесь - такое решение было странным на первый взгляд, но весьма правильным для разведчиков.
Начали обживаться. Для начала упаковали в перевязь и кляпом пленного немца, выставили боковое охранение в виде сержанта Вовы с наиболее проходимой стороны, Толмач начал свой длинный и нескончаемый разговор с «языком», объясняя тому сложившуюся обстановку и обещая даже убрать кляп, их слушали старлей со старшиной, Иван копал неглубокую узкую могилу - хоронить Веньку.
«Вот и допрыгался, пацан».
«Надо было Веньке говорить «комм цу мир» немцу, тот бы тогда и не запаниковал», - мысли у Ивана были как вроде пусты и бесцельны. Земля поддавалась ни хорошо ни плохо, так себе, вроде как и должно быть. Чему быть - того не миновать.
«Через кого же я теперь буду передавать приветы его младшей сестренке? Пишет обычно ей - и от меня вроде бы ей тоже «здрасьте». Как же сообщу ей о гибели брата? Мол, не уберег Веньку... Она в письме своем написала как-то - получал письма, конечно-то, Венька, вроде как для них обоих - своего брата Вени и его фронтового друга Вани, - известные строки, - Иван как сейчас помнил то письмо и те слова. - Пусть он вспомнит девушку простую, пусть услышит, как она поет. Пусть он землю бережет родную, а любовь Катюше сбережет. А ее и звали-то на самом деле Катей. Почему «звали»? Зовут Катей. Нет, Катя, уже Вени...»
... Немца заберем с собой, поволочим к своим. Хотя стоит ли - обычная-то переправа и головоломка здесь не предвидится. Веню похоронили, на переправе и берегу порядок немцы наводят. Эх, радиста бы нам сейчас, на крайний случай радисточку, они бы нашим и отстукала: мол, не извольте здорово беспокоиться, это не так смертельно и тем более не печально. Утром, хоть и срок наш двухсуточный уже истечет - а куда было раньше подаваться? К черту в лапы... - уходим отсюда. Домой...
Да, вот был бы радист в группе - не последовало бы последующее... пагубные последствия для разведчиков старлея и старшины!
«Так как разведгруппа № 1 в назначенное время не возвратилась и не предоставила командованию необходимых данных, означить ее как пропавшую без вести, и до выяснения причин из списка живых разведчиков группы № 1 не исключать.
Для продолжения и дальнейшего обеспечения сбора разведданных послать в немецкий тыл группу № 2 - не позднее чем через двое суток, как и было предусмотрено.
Нанести авианалет на указанную немецкую переправу и береговые линии штурмовиками под прикрытием истребителей - утром на следующий день после истечения срока, определенного как «двухсуточный».
Об исполнении доложить».
Однако сильного массированного авиаудара по немецкой переправе не получилось, маловато сил набралось для такой запланированной кровавой вакханалии, но переправу здорово подпортило, и штурмовики яростно прошлись еще и по обоим берегам в районе переправы, поливая снарядами и очередями подходы и кусты с чахлыми рощицами. Явного, ощутимого урона для немца особо не обозначилось - что там полупустая транспортная техника, приблудная живая сила и небольшая колонна, подходящая из тыла к фронту, - но все же немцы на этом участке фронта успокоились, стали в «ступор» - и что бы не начать долгожданное наступление советских войск на этой полосе фронтовых действий?!
О чем и было доложено кому надо.
При этом нежданно-негаданном авианалете, когда очереди штурмовика прошлись и по логову разведчиков, их и зацепило. Дернулся немец, на груди его расплылось красное пятно. Ухнул приглушенно старлей, командир разведчиков, и навалился всей массой на пленного майора - закрывал собою? Или же просто рухнул сверху? В итоге получилось, что были ранены немец (тяжело), старшина (в плечо) и убит старлей. Вот таков был нерадостный итог начала третьего дня разведгруппы - укоротили ее состав, поймали в тупике... И ведь надо побыстрее уходить, пока при памяти и оставшиеся еще живы!
Ну вот, старлей, и закончилась твоя власть, твое командование в этом странном разведрейде. Приступай, старшина - не о том ли ты мечтал? Как теперь будет выглядеть твоя группа уходящей? С двумя ранеными. Кто впереди?
Когда уходим? Старлея хороним? Раненых - перевязываем.
«Уходим сейчас, потом будет поздно - мандраж у немцев начнется, всякие поиски и розыски своих. Старлея закопаем неглубоко, забросаем, приберемся. Немцу помочь надо - Толмач, займись им, - старшина поморщился от накладываемой Вовой перевязки. - Вова идет первый, наши глаза и уши, за ним я - маловато толку от меня сейчас, потом Толмач - вдруг да что надо будет сообщить от немца или немцу, и за мной присматривает, и за немцем сзади. За пленным двигается Иван - обезопасит сзади группу и зазевавшегося немца когда надо подтолкнет. Всем все понятно? Простимся теперь с нашим боевым товарищем - и выдвигаемся».
- Прощай, командир! - сказал над могилкой Ваня.
- Прощай, старлей! - промолвил Толмач.
- Большого тебе плавания, кэп, - добавил Вова.
- Прощай, капитан. Все сказали. Веня ничего не добавит, ТАМ с ним встретитесь, - поежился старшина.
... Прощай, страшный лейтенант!..
И целый день, до ночи, они крадучись и осторожно уходили прочь - в направлении пылающего фронта, что обозначился в темноте вспышками редких ракет и нечастой стрельбой. Истекли трое суток «отсутствия» разведчиков, но впереди им предстоял переход через немца, по нейтральной полосе, к своим, не по своему коридору и в неожидаемое время - их не ждали! Так что какая там чаша весов, какая удача?!
Иван с сержантом Вовой отправились на разведку для выяснения одного лишь ответа на единственный вопрос - где переходим линию фронта. И они пропали во тьме, исчезли с глаз, сгинули призраками. Остались трясущийся в ознобе и теряющий сознание старшина, пластом лежащий и чуть ли не в бреду немец, и около них бесстрашный, с пистолетом в руках, Толмач.
Когда, чуть ли не под утро, разведчики вернулись к своей временной лежке, они застали чудную и странную картину, от которой не грех и встать волосам дыбом...
На земле, рядышком, в застывших неудобных позах валялись двое - немец и Толмач, а тут же, недалеко от них, полусидел старшина и тупо поводил пистолетом по сторонам - в глазах его будто блестела боль из раненого плеча.
* * *
Что случилось, старшина?
Да немец, видно, очухался после дневного перехода и окончательно начал приходить в себя - ну и устроил сначала возню, типа тихой сапой, потом мычать начал и грозился заорать - трудно понять, что тут было и что они говорили друг другу, я-то был почти в отрубе, в глазах только красный туман плавает.
Это ж надо только - сколько воевал раньше, сколько воюю сейчас - а ранен-то толком не был, так себе, были изредка царапинки... а тут, эко дело, угораздило же, здорово в плечо шарахнуло, будто трещит оно.
Меня привел в сознание пистолетный выстрел. В масштабах прифронтовой полосы он не опасен и его вряд ли услышат, но уж если стреляют чуть ли не под ухом - извини, подвинься. Удалось фрицу как-то завладеть пистолетом у переводчика, который пытался закрыть ему рот ладонью. Ну и прибил Толмача, не дышит - я потом щупал пульс. Трясется в лихорадке, водит пистолетом по сторонам - зачем лишний шум и привлекать «лихо»? Начал притихать наш пленный, я тих вокруг ополз и тюкнул его своим пистолетом по голове. Успокоился. Да живой немец, придет в сознание, куда он денется!
Вредный немец! И что мы с ним еще валандаемся? Все что надо он уже сообщил Толмачу и нам... предоставим как живое и верное свидетельство простого и обычного немецкого спектакля? Вредный очень немец попался: убил Веньку, из-за него погиб наш старлей - спасал гада от заслуженной пули... Мало? И Толмача в придачу нашего грохнул. А сам, этот вредный немец, хоть и ранен прилично, но не умирает. Живой еще, кат, гореть тебе синим пламенем, пока не сдохнешь по дороге в ад!
После гибели Веньки и старлея, еще сюда же смерть Толмача, разведгруппа потеряла половину своего состава, сильно опоздала, и будто стоит это укором мне, старшине: «... все, что я мог потерять - уже потерял, осталось только жизнь потерять, недаром ведь плечо зацепило - сигнал подают...»
... Бред, что ли, нес старшина или все же явь говорил - трудно понять с ходу...
Про старлея ему скажут - в строю мы ему нашли замену на командование его ротой, когда забирали в разведку. А сейчас наша разведка вновь оказалась без «головы», то есть без командира - угробили его, не уберегли в последнем разведрейде, и кто тогда сейчас пойдет командиром разведчиков, а, старшина? Не ты ли, чей статус затруднен: капитан, будешь ли ты майором? Старшина, станешь ли вновь, будешь ли все же офицером, а не лицом для поручений - батальон в дивизии потянешь?
Одним словом - разберутся. Наши аналитики разберутся с пленным немцем, итогами разведки и бомбардировки переправы, с дальнейшей судьбой разведчиков этого разведрейда. И вернулось вас трое... так: сержант Вова и солдат Иван с тобой, старшина. Вернулись, получается:
- непотопляемый черноморский флот;
- неукротимая русская деревня, все возрождающая;
- непобедимая советская армия, российской закалки.
Их можно и нужно наградить, а вот тебя - вопрос... Чем?
... И, возможно, скажет начальник разведки дивизии, заглядывая в пустые бездонные глаза старшины: «... Как я взгляну в глаза комдиву? Ведь в его штабе работал ваш переводчик Толмач, сын одного из офицеров нашей армии (который попросил забрать сына поближе к нам под надзор - чтобы был перед глазами). Как наш комдив взглянет тому прославленному человеку в глаза, что ему скажет? Война, мол...»
* * *
Было что вспомнить Климу. И у него была жена, хотя, конечно, если говорить правду - то невеста была, но ребенок-то у него ведь будет - опять же, был уже! «Но подруга твоя про твою Испанию 37-го не знала даже». Ну, что пригорюнился? На Халхин-Голе, в Монголии тебе приходилось еще тяжелее - так же, как было страшно в Испании. Аль забыл? Полуседой от пыли и заморенный жарой, но никак не полон счастья и военной удачи за своих солдат. Халхин-Гол не шутил. Да и финская война - вроде Финляндия и страна маленькая, и в свое время даже являлась территорией Великой Российской Империи - тоже не была дурна. А эти твои последние - враги и неприятели, которые кичатся «Митт унс готт» - с нами Бог, но да тут сказ про них особый, не только у тебя. Ты побывал в Монголии - и не признаешь фетиши, не носишь амулеты, да и в Бога не веруешь? Но что-то ведь хранило тебя, хранит до поры до времени. Потомки твои, коль доживешь, молиться будут на тебя, гордиться твоими наградами... Имеешь право? Иль они заимеют его? И куда тебя только не носило, и легко ТАМ никогда не было.
... Не трогайте вы мою Испанию. И Монголию вам знать не дано. И финскую оставьте в покое (...и меня брось, Иван! - хрипел при возврате на нейтральной полосе Клим)...
По-испански, на финском и монгольском Клим что-то понимал, знал слова и фразы, расхожие выражения даже применял. «Каррамба!» - так по-испански он ругался, когда сильно припекало и трудно выразиться даже русскими словами, а слово-то это вполне безобидное. Овладел Клим и приграничным сленгом перед войной с немцами - этакой смесью польского, украинского, русского и славянских языков на пограничном разделе до июня 1941-го. Но полиглот из Клима не получался, и в немецком языке, к великому его сожалению, разбирался он «шлехт» - плохо.
Но как ни крути, Клим, а от самого себя не уйти. Это как же? Как понять - строил новую границу СССР, а потом бежал от нее до самого Сталинграда... чтобы потом вернуться назад? Короче пути-дороги не нашлось?!
... Разговор Вовы-морячка со старлеем вдруг возник в голове Клима - он его услыхал недели две назад.
- А знаешь, кэп, вот приду когда домой - заведу себе дочь. Ну-у, жена мне родит, и обязательно дочь. Парня? А что они умеют - только воевать? Ну, конечно, не только воевать, но и девок делать. Да я не о том. Дочку мне надо, светленькую такую и ласковую.
- А вдруг темненькая попадется?
- Не будет темненькой... Дурень ты, кэп, а жизнь супротив меня поболе прошел ведь.
- Прошел... прожил... Да нет же еще! Не до конца прожил.
- Да ты в корень зри. Светленькая, свет очей. Такая обогреет, душу отдаст нам, дуракам, будь она даже темненькой или рыжей. Эх, да что с тобой говорить, только душу травить!
- Хм-м, Вова. Увлекательно говоришь, но не так уж я и стар - заведу себе после дембеля такую светленькую...
Не будет у тебя, старлей, светленькой дочки - обречен ты войной. Хотя, мечтать не вредно.
Они ползли через нейтралку к своим. Иван подволакивал вздрагивающего и бледного немецкого майора, вослед им, страхуя и прикрывая, так же странной парой тащились упирающийся Вова с ослабевшим от раны старшиной. Вдруг Иван замер, и Вова напоролся в блеклой темноте на него и натуженно прохрипел: «Ну что там еще, Ванька? Опять твой ненаглядный немец балует?» «Сдох он, сержант, не дышит. Иди послушай, Вова». «Точно? Дай гляну. А и верно - отмучился, сердешный! Да брось ты его, уже не нужен, не пригодится более. Доволочим к своим нашего старшину - он им и передаст документы немцев, карты и планшетку... Что могли. Сами что-либо еще расскажем. Разберутся... все правильно... хоть и опоздали. Хватит болтать, разшептались тут! Ползем».
«Свои!» - проскрипел гулко сержант Вова и первым свалился в русский окоп. Затем туда упал мешком потерявший сознание старшина Клим, толкаемый сзади Иваном. Третьим рухнул с бруствера окопа вниз рядовой Ванька. И наступила тишина. Все? Все желающие и страждущие вернулись домой, к своим? Может, кто отстал, затерялся, припоздал... или же вчера не вернулся из боя.
Тяжело и трудно находиться на фронте вот в таком положении. Или в другом, третьем, взвешенном и неустойчивом состоянии. Здесь на фронте не так уж много обмороженных и простуженных - и почему такое? Выживают сильнейшие, что ли... и зачем? Вот выпьешь фронтовые «сто» - тепло, становишься тупым бревном и «море по колено», отходишь в мир иной, мир грез... в кармане сухарь и кусочек сахара в табачных крошках, на ремне фляжка, пусть даже с водой, за голенищем сапога ложка деревянная, каска на голове, и гранаты рядом, и диск к ППШ или патроны к винтовке Моисеева есть - тогда совсем лафа, цветешь, дернешь сотоварищи свою или соседскую (подвернись!) козью ножку с ядреной махрой, пожуешь крошку завалящую - ну чем не жиз-сть! У ПЕХОТЫ - царицы полей...
* * *
Будь, старшина, со своим неудачливым рейдом. То оказалась пустая забава, «пустыш» - на языке разведчиков. И даже вражеская переправа сия на реке - фикция больших дел, местные подкрепления. Но это встало дорого для разведгруппы, еле вернувшейся вполовину и с двойным сроком задержки на свой сектор выхода. За такое орденов не дают, можешь даже лишиться звания и чинов. Может быть даже штрафбат - за то, что потерял «своих многих». Другие разведки, однако, подтвердили «вражескую липу переброса и дислокации войск» на вашем участке фронта. Вот так обстоят дела в действительности, сказали бы очевидцы.
... Ну, будь, старшина - «сверхсрочник». Война для тебя еще не закончилась, может, еще выживешь... Вот встретиться бы с тобой, с живым, генералом, чуть ли не Героем Советского Союза... Это уж потом военные историки насчитают 1418 дней Великой Отечественной Войны 1941-45 гг., вспомнят, что «Никто не забыт, ничто не забыто», забывая, что сразу после войны День Победы 9-го мая не был еще «красным днем календаря», в конце войны в Советской Армии насчитывалось почти 11 миллионов солдат, Героями с Золотой Звездой за войну стали только 12,5 тысяч - всех их надо помнить и не забыть об их ратном деле. Вечно, ибо история незабвенна. С сорок первого тех, кто был в окопах и на полях сражений, мало кого осталось в живых - и не залить им того фронтового лиха и горя ста наркомовскими граммами водки. И вообще - их, участников войны, оставалось с годами живых все меньше и меньше - годы идут, стареют ветераны: шестьсот тысяч, триста тысяч, к 2008 году всего лишь сто тысяч. Им вручали награды, ордена и медали, автомашины и льготы - скоро окажется, что и вручать их уже некому. Так не забудьте повторить, повториться детям, внукам, людям, молодежи, потомкам.
Может, старшина, и ты, ежели жив, что еще добавишь, откликнешься...
Вот такая вот перед вами невеселая короткая повесть про будни фронтовой разведки.
Исповедь молодого артиллериста
- Куришь? - обрадовался он мне в своей полутемной и затхлой землянке. И когда я ему аккуратно подпихнул по неструганной столешнице нераспечатанную пачку махорки, он расчувствовался совсем.
- А то присылают тут всех бодяг, поговорить не с кем. Сала-ги-жата... - это он сразу выдавал два понятия: салаги и салажата. Не сразу врубился, кто старшее, а кто глупее. Сижу, жду пояснений... Ну и «фрукт» мне попался, с таким жить - не фунт изюма... фу ты, соли хотя бы полпуда съесть!
Обрадовался этот монстр. Есть над кем поиздеваться. Тельняга торчит из-под гимнастерки, морда - во! Плечи - еще шире!
«Вляпался», - понял я, крутой вояка. Неделю уже воюю, танк немецкий закапывал, две гранаты в гадов швырнул, двух фашистов в штыковой заколол... сам чуть коньки не отбросил - но ведь выжил. Зря, что ль, меня тиранили на известном полигоне, что на Волге - оценили, не сорок первый, не сразу в «боя» кидают как пушечное мясо. Натаскивают, лычки дают, орденами будущими грозят - только потом выпускают... Замкомвзводами, сержантами. Бравыми, усы - нараспашку, шесть светлых волосинок в три наката, но да уж с биноклем и топо-картой я в свои восемнадцать с копейками разберусь с вашим хреновым фронтом. Для Великой Победы вот именно меня и не хватает... Я - вам, я - им, да я - ... р-р-р, зарубки уже почал на прикладе.
Глядит он на меня.
Тоже мне, вояка! С разницей в два? Три? Более лет? Не страшно.
А он вдруг так спокойно и мягко говорит:
(правильно начал)
- Ты откель?
«А охринель», - ответил ему «про себя», а вслух гордо поведал: «Уральские мы, там где Сибирь начинается».
Понял он, этот блатной и нерасторопный вояка, кстати, тоже сержант. Подпер рукой свой подбородок и вперился в меня своими глазенками.
А у меня глаза голубые, будто синь: татары, немцы в роду? А у него - такие же, только вот плещется у него что-то в глазах!
«Здорово, сержант!» - говорил он, закрутив из моей махры (не, не «козью ножку») небольшую и скромную самокрутку.
- Вам не дают папиросы? По пайку? - спросил я.
Он скривился. Пнул какой-то фанерный ящик под ногами, буркнул: «Не обижают».
Сундучок после его пинка завалился и вытаращил наружу свою явь: пачки папирос и серую хлябь махорки: «Видал?»
- Слыхал? - он пнул другой ногой, и жалобный стон прошел тягучей струной. - Чуешь?
Почувствовал.
- Мы на прямой наводке недавно работали. Нам так нельзя, тяжелой артиллерии, но так было нужно... - он угрюмо потряс своей тяжелой башкой, даже тельняшка его не кидалась в глаза.
- Много ребят наших полегло. Ты, ты - понимаешь?! Это - их, фронтовые «сто» и курево. Сижу, вот, балдею, жру за троих, пью - за четверых. Командир полка пригрозил, если я буду так жрать дальше - сдаст в штрафбат, а у него, суки, лежит мой наградной на орден - сам он подписывал, за хлястик его не тянул... Сейчас вот собираем всех «желающих» до нас.
- Слушай, сержант, а что это я тебя, салагу, голодом морю? Слушай, а ты, ненароком, не из моих ли? В Севастополе не блудил ли... аж может в Одессе-маме, а? Да я ж вижу, братан, ты из моих! Да быть не может, что ты не был на флоте?! Ах да, с Урала? Это хде? Понял, командир. Значит, земляки. Я хоть с Черным повенчан, но родом-то я с Белорусских болот - оттуда вышел, какие там моря и грозы?!
Он рванул фуфайку. Забренчало на груди, открыв его ордена и медали.
... На дворе стоял октябрь 44-го...
- ... я тебе не повесть рассказываю, не потяну, чертушка мой, но быль и сказки тебе поведает вот этот человек! - грудь его загудела, как чугунный демидовский колокол, от могучего удара. Луженая матросская глотка выдала новые матросские были.
... Когда пришел комбат, мы были с Иваном готовы. Порядок флотский там присутствовал, только наши души там уже (или еще?) не летали. Командир батареи дико всхрапнул, хрястнул «сто боевых» из аккуратно оставленной на бдительно чистом столе - ни пылинки, ни закуски - кружки, закурил офицерскую папиросину, приткнул под морду свой кулак («дать им, что ль, по морде, дурным сержантам? Себе ж будет дороже»).
Покурил. Выждал. Может, еще выпить бравому фронтовому комбату-старлею? Ан нет, себе дороже. Докурил. Бросил. Растер. Плюнул. Разозлился. Заорал:
«Подъем, шалавы! Распустились. Впереди - боевая задача, а вы тут расщенячились, слюни распустили. Иван, хватит супониться и отсиживаться по тылам, пойдешь командиром взвода разведки и корректировать с передовой будешь... Ты уже давно на офицера тянешь, хватит косить под морского придурка...» - и Иван обиженно засопел. Смолчал пред любимым комбатом.
- Сержант новенький, наш? Временный?! А ты, Ванька, успел разболтать его? А-а? Я тебя спрашиваю, твое черноморское отродье... наберут тут в артиллерию по «отъявленью», и майся с вами: один - моряк, другой - пехота. А стрелять-то я с кем буду?
- Но-но, командир! Я его проверил - он наш, бог войны! Ручаюсь, комбат.
- Давай, Иван, сюда старшего офицера батареи, двух ком-огневых взводов... командиров орудий пока не треба. И живо у меня: это тебе не затраханный Севастополь! «Батя» поставил нам задачу - расстрелять фрицев в квадрате...
Отстрелялись. Гром и грохот от передовой отстояли на несколько км и стреляли с закрытых позиций. Явился Иван с НП, весь грязный и холодный, обеспечив удачное наступление стрелкового полка. Комбат расцветал: в кои-то веки не зажимали с боеприпасом! Ком-дивизиона отгреб благодарность от стрелков, нищей пехоты, ибо что бы они делали, «царица полей» без «бога огня», славной советской артиллерии...
Ваньку - черноморду и белоруса - к ордену. Меня, как командира орудия, хорошо отбрехавшегося и подавившего «не глядя» две пулеметные точки и вражью минометную батарею - к медали «За Отвагу». Те медали - с серебром, номерные, других таких нет.
Пришел Иван, уже официальный командир взвода разведки, содрал с погон сержантские лычки, стал нашивать широкую дрань - «старшого», поучать начал. Заискиваю перед ним - большой начальник. Пакостник, давно ль из одной чарки... гад! Я, конечно, понимаю, мне до него, как в... или к... - у него бренчит «Слава», висит (точнее - прикреплена) «Красная Звезда», на груди болтается «Отвага» и «За боевые заслуги»...
... А он глянул на меня хмуро и сказал: «В сорок первом мало наград давали, это сейчас... шаг шагни и звезды».
Чем обижен мой Иван?
Не отгадал я тогда.
Поучал он меня тогда. Крепко и правлиьно.
- Раскатал ты свое орудиё! Врубил накрепко сошники в землю. Подкопался, окопался. Уложил в стороне под схрон боезапас. Учел своих людей: наводчика, заряжающего, подносчика. Все на своих местах, при памяти, готовы.
Далее слушай:
Батарее, прицел... поправка, веером, снаряд (такой-то), прицельный (потом - и беглый), интервал...
И пошла Рассея! Снаряд, ствол, порох, «она» прыгает как зверь, наводчик лихорадочно крутит... а?
- Первого убивает подносчика. Он подносит снаряд и выставляет маркировку на «О» - осколочный, «Б» - бризантный, «Бр» - бронебойный, «К» - кумулятивный... «К» - для танка, «О» - для пехоты, «Б» - тоже для пехоты, но в окопах, далее...
Я смотрел на Ивана, а он рычал на меня:
- Ты что, жить устал? Или тебя не ждут дома родители и жена? Нет жены - и ладно. Придешь через год - и наденешь хомут. Мужики ныне в цене - повыбивало нас, женихов, страдают по нам девки, салага!
Вторым в расчете убивает пуля или мина заряжающего. Да, забыл, перед тем наповал заваливает командира орудия - он беззащитный стоит сбоку, орет матом и не укрывается за щитом.
- Слушай, Ванька, разница меж нами с гулькин нос, но откуда ты все сие знаешь?
- «Проживешь с мое!» - бурчал Иван и рвал тельняшку.
«Последним остается наводчик. Цени его и уважай. Хорошие наводчики на дороге не валяются», - продолжал угрюмый белорус.
- Потом подшибает у пушки иль гаубицы правое колесо... обязательно правое, слышь! Потом - рядом яма от прилетевшей мины или снаряда, можно даже две ямы! Наводчик - он железный, должен теперь успевать за всех и вся: и чтобы родная пушка, как ярый конь, не зашибла, да и снаряд принести, зарядить, снова навести через панораму, успеть вовремя отжать рычаг для стрельбы... Усек?
- Иван, да откуда ты все знаешь?
- Наводчиком был.
Так я не понял: наводчик - ладно, понятно, незаменим, а остальное-то?
- Иван, а еще кем ты был? - спросил я его в декабре.
- Еще? А почему еще?
... В июле сорок первого я был уже в Севастополе старшим матросом, это в переводе на сухопутность - ефрейтор. Потом я дрался и воевал в Одессе и Севастополе... я ведь морской артиллерист... Когда меня, подранка, кинули на морской драндулет, покидающий выжженный Севастополь 42-го, я плакал, глядя вслед на своих «братков», которые отстреливались на берегу от наседающего немца. Я - живой, а те - заслонили меня, не оставили на убой.
- Слушай! - Иван окончательно обозлился. - Ты мне друг, но шкуру не порть. И не заставляй слезу пускать.
Успокоился. Потом через несколько дней, когда после штурма небольшого прусского городка батарея на переходе нарвалась на отступающих немцев - вышли живыми немногие и вынесли четверых раненых... Иван бредил...
- Ничо, ничо, мы с тобой, салага, еще повоюем! - глаза морского волка были бессмысленными, и в них плескалась боль.
- Иван! - я скривился. - А как же я?
- Ничего, старшой! Живы будем - не помрем.
... А в моей голове, в моих мозгах так отчетливо стоит его злой шепот: «... ты знаешь, кто брал Новороссийск? Не штабисты. Пьяная матросня. Нам выкатили бочки и поставили боевую задачу...»
Увезли куда-то в далекий тыл моего Ваньку-белоруса, так любившего море. А в апреле сорок пятого года я был ранен и попал в госпиталь.
А что же Иван?
Иван погиб в августе сорок пятого, на Японской войне.
В морском десанте.
Мне добавить нечего... я непьющий, но если моя жена видит меня Девятого Мая под «хмельком» - она мне не говорит ни слова...
Истребители танков
Их было в партии двести пятьдесят, набранных по деревням и поселкам. И теперь здесь, в одном из городков Тамбовской области, им предстояло пройти курс военного обучения.
Их разлучили с домом, извлекая из всех закоулков. Их брали бездомных или же прямо из конур. Добровольно и насильно, ласково заталкивая в клетку и с силой швыряя туда. Все эти собаки - рыжие и черные, породистые и дворняжки, большие и малые, молодые и старые, злые и добродушные - теперь предназначались лишь для одной цели: борьбы с танками противника.
Суровое военное время тяжело нависало и над собачьим миром: уходили на фронт или умирали хозяева четвероногих, человек становился менее отзывчив, плохо стало с кормом. Зато свободы хоть отбавляй! Злые одичавшие псы бродили целыми днями в поисках пропитания, подчас позволяя себе небезобидные выходки. Где-то горели танки, а эти собаки и не подозревали, что в будущем они будут иметь самое непосредственное отношение к таким делам.
Когда стало невмоготу, собак начали отлавливать. Порой в клетки попадали и безвинные - домашние псы, выходящие на прогулку... В клетках, которые везли по улицам, собаки по-разному вели себя: одни рычали, другие, задрав морды, дико выли, часть из них грызлась между собой. Многие, встав на задние лапы, тоскливо провожали бегущие мимо них дома. Прохожие с удивлением оглядывались, перекидываясь репликами.
- Куда их, бедняг?
- И правильно. Развелось зверья, не пройдешь.
- Поди на мыло...
Высокий, чуть прихрамывающий человек, с одной шпалой в петлице, подошел к месту перегрузки собак из клеток в общие вольеры. Скупая, всепонимающая улыбка согнала в уголках его глаз мелкую сеточку морщин. Он зычно крикнул, перекрывая лавину собачьего лая:
- Сопровождающие, ко мне! Отмечу вам в наряде о доставке груза по назначению...
К нему потянулись люди в милицейской форме, протягивая бланки. Офицер равнодушно скользил глазами по документам. Все это было ему знакомо - «...Доставлено в собачий питомник... По разнарядке Тамбовской комендатуры... Въезд через КПП разрешен...» Внимание офицера привлекала лишь последняя строчка: «Собак в количестве...» - он согласно кивал головой, шел пересчитывать.
Ему недавно перевалило за тридцать, капитану Вихремееву. С милицией он ничего общего не имел, так как числился в полевых частях, но вот по долгу службы им приходилось встречаться.
Прищурив глаза, Вихремеев с улыбкой смотрел на собак в вольерах. Дружный вой высоко зависал над собачьим городком, летел над полигоном, бился над городом. Капитан двигался вдоль сетки, кидая устало-равнодушные взгляды на беснующихся псов. Больше одного обхода для вновь прибывших он, обыкновенно, не делал, но тут, на удивление сержантов, он неожиданно пошел на второй.
Среди всей этой удивительной собачьей выставки офицер приметил странного кобеля, равнодушно положившего морду на вытянутые лапы. Пес уставился в одну точку - казалось, его не трогала суета его сородичей, умный взгляд выражал отрешенную покорность. «Пока жду, - будто говорили его глаза, - а дальше буду действовать согласно обстановке. Слезами горю не поможешь, а жить охота». Собака была дымчатой масти, лохматой. Вихремеев определил, что кобелю года четыре.
«Странный пес», - капитан удивлялся, что эта собака не пасует в непривычных условиях. А рядом с вольерами грохотал и жадно дышал полигон, где собак обучали бросаться под танки... «Хладнокровный, черт его побери! - у офицера родилось невольное уважение к псу. - А дальше? Ничего! Тут любых ломаем: через два-три месяца как миленький бросится под танк. Редко бывало такое, чтобы у нас был отсев «курсантов». А если не выдержит муштры и бросится на сержанта, то пойдет под собачий трибунал или же сразу получит пулю в лоб...»
По прибытию собак кормили сразу. Потом - периодически, до полной комплектации группы. Собак привозили нечасто. Сержанты собачьего питомника тщательно вели наблюдение за собаками в вольерах, постепенно рассортировывая их в более малочисленные группы, так, что «классы» оказывались однообразные по характеру: класс злых собак, класс агрессивных, класс спокойных, класс породистых, класс пустобрехов, класс «волков», класс малорослых, но ярых, и так далее.
Вскоре формирование партии закончилось. Капитан Вихремеев, прихрамывая, подошел к начальнику школы и, вскинув руку к выгоревшей фуражке, четко доложил об укомплектовании «личного состава» училища. Курс был открыт...
Занятия начались. Дымчатый лохматый пес попал в группу «спокойных», где получил новую кличку Дым. Здесь, в школе, не вдавались в прошлое питомцев, не интересовались их бывшими «Ф.И.О» (да и не у кого было) - здесь их крестили новыми именами, чаще просто «Первый», «Седьмой», «Тринадцатый»... Дым из-за своего осмотрительного норова и благодаря своему приличному «костюму» удостоился не порядковой клички, а именной. Собака вначале не отзывалась на кличку, но через неделю уже реагировала на свое новое имя. В школе с этим делом обстояло строго: бунты ломали голодом и плетками.
Текли первые дни занятий. Ознакомление, кормежка собак у танков, на ревущем полигоне...
Вихремеев обходил группы, его острый глаз примечал недостатки и промахи в обучении собак. К советам капитана прислушивались. Да и как не прислушиваться - Вихремеев, кадровый пограничник, встретил войну в первые ее часы. Поначалу пришлось туго... А потом списали по ранению, и он попал на эту собачью должность: комиссия учла его опыт в служебном собаководстве. Но там были овчарки, здесь же...
Капитан поморщился: «С ногой уже дело лучше. Может, скоро и на передовую окончательно отпустят. Второй год хлещет война... А между прочим такую крупную партию выпускаем впервые».
Со своими предыдущими группами выпускников он уже несколько раз выезжал на фронт. «Творческие командировки», - как с тоской шутил он. Тогда редкие единицы достигали цели: большинство же их били из пулеметов немецкие танкисты. Он многократно видел смерть своих питомцев и понял свою ошибку - собак нельзя выпускать с большого расстояния. В этом случае они не доходили до танков, или что еще хуже - от танковых немецких огнеметов шарахались под свои танки. Капитану пригрозили трибуналом. В своем последнем выезде на фронт Вихремеев попробовал выпускать собак за двадцать-тридцать метров. Когда нет за спиной стальной поддержки и мало гранат, красноармейцы были рады и такому обороту дел.
Вот с учетом своих наблюдений капитан и решил проводить обучение новой многочисленной партии собак.
- КЗ? - спросил он у сержанта одной из групп на полигоне.
В ответ утвердительно кивнули. КЗ - класс злых. Вихремеев двинулся дальше, как бы ненароком приближаясь к тому участку полигона, где занимался класс «спокойных». Там работал в поле Дым и его «одноклассники».
Капитан приостановился, с интересом поглядывая на занятия, покровительственно махнул рукой сержанту, прося не прерывать.
- КЗ, - Вихремеев усмехнулся, - в переводе это может звучать и как короткое замыкание! Но толк из них будет: на злость есть одна управа - голод! Только голодом и ни в коем случае плеткой... А голод весьма хорошая мера для обуздания строптивых животных. Что же в таком случае применять для спокойных?
И будто отвечая на его вопрос, сержант взмахнул плеткой: лениво окрысившись, очередной пес побежал навстречу грохочущему надвигающемуся танку. Не добегая до машины метров пять, собака резко свернула в сторону. Скуля и поджав хвост, она испуганно рванулась назад. Все закономерно: если раньше их учили бежать к неподвижному танку и ложиться под него, то вторая стадия обучения заключалась в обоюдном движении. А когда на тебя двигается лязгающая воняющая громадина, то страх приходит сам по себе.
Прошедший испытание пес с удовольствием проглотил кусок каши и смирно встал в конце очереди. Капитан видел, как облизывалась собака и на ее морде было написано: «А еще дадут? Если да, то я снова согласна бежать к стальному чудовищу. Шутка ли, не кормили несколько дней...» Да, это была правда: всех собак перед проведением главных занятий не кормили несколько дней - и стоял над собачьим городком вой голодных собак. Такая мера воспитания практиковалась для всех «истребителей танков».
На стартовой линии гордо вырос дымчатый лохматый пес. Если после команды собака не бежала на танк, сержант был вправе применить плетку. Но Дым, еще не прозвучало резкое «Фас-с!», уже ринулся вперед. Их - танк и пса - разделяло менее двух метров, когда Дым свернул в сторону... и понесся далее. Капитан вздрогнул, в недоумении протер глаза. Но все верно - собака бежала вперед, прыгнула через широкий ров, плюхнулась в воду, не дотянув в полете до противоположного берега, лихорадочно доплыла - и снова начала разбег. Предохранительный барьер остался позади, и вот стремительная тень пса метнулась на высокий забор, разделяющий питомник от долгожданной свободы. Вот тут-то изголодавший организм Дыма сдал - как подкошенный, он рухнул плашмя на землю.
Сержант, увидав такой поворот дела, глухо выматерился. Когда пса привели обратно, он со злостью взмахнул над ним плетью. И в награду получил презрительный взгляд собаки. Плеть со свистом прошлась по шкуре Дыма - тот вздрогнул и послушно встал в конец очереди. А Вихремееву вдруг стало жалко пса.
- Ну куда он рвался? Все равно бы не перепрыгнул забор - эта городушка превыше всех попыток даже породистых овчарок.
Офицер подошел к собаке и присел над ней. Равнодушный и безразличный взгляд собаки скользнул по нему и ушел туда, на свободу, за забор. И капитан неожиданно для себя сунул в пасть пса небольшой кусок хлеба, остаток сегодняшнего скудного пайка. Дым молча проглотил и уставился в землю.
Вихремеев потрепал пса за шею и хотел было уже отойти, как рука его случайно наткнулась в густой шерсти на веревочный ободок. Офицеру стало не по себе: знал он на ощупь такие ободки и знал, откуда они и для чего. Но словно еще не веря, он разворошил шерсть пса - серебряный с красными прожилками шнур ослепил глаза.
... Такими шнурами капитан Вихремеев самолично когда-то перевязывал «выпускников» своего училища...
Дни шли. Размеренно текли занятия. Грохот и рев стоял над полигоном. Обучение собак входило в завершающий этап. Уже смело бежали они навстречу лязгающим танкам, но... вновь метались в стороны. На шеях «курсантов» были привязаны выступающие вперед палки с нанизанными на их концах учебными запалами. Суть заключалась в том, что собака должна была метнуться под гусеницу, затем - хлопок, и танкист останавливал боевую машину. Допускался определенный процент потерь... Если же больше - обучающий персонал питомника нес ответственность по законам военного времени. Как говорится, мал золотник, да дорог.
И тут сержанты наткнулись на непреодолимое собачье упорство. Не помогало ничего: ни куски лакомой пищи, ни побои, ни ласка и угрозы. Класс выстраивался у стартовой линии: забег - бесполезный - совершили несколько первых собак. Остальные затем, тупо уставившись вниз, не двигались с места. Преподаватели кляли все на свете, вспоминали Бога и крест, трясли словесно мощи предков вплоть до четвертого колена... но тщетно. Тогда начали пытаться гнать под танк всех собак подряд. Таким образом очередь дошла до Дыма.
Вихремеев находился при этом лично. Ему было интересно, как пес, ранее проходивший школу истребителей танков, будет вести себя сейчас. Не забыл ли? И не струсит ли, чудом избежав в прошлом смерти под танком, обманувший на миг кровавую судьбу...
Дым метнулся под гусеницу. Сухо щелкнул запал, и собака отвалилась в сторону. Танк встал, и из люка тотчас же высунулась довольная физиономия танкиста. А в памяти Вихремеева всплыли лица немецких танкистов, чьи машины были подорваны собаками - перекошенные и злые...
Пес подбежал к сержанту, метнув по пути на своих сородичей презрительный взгляд, и, получив лакомство, встал в конец очереди.
Дело было сдвинуто с мертвой точки.
Потом собак учили делать выход на танк из окопа.
Более двухсот псов после трехмесячной подготовки получили «дипломы» и были готовы для своей высокой миссии.
«Жизнь - суровая штука. И она подчас может лишить самого главного - просто уйти от того, кто в ней так нуждается...» - вспомнилось капитану, когда он обходил ряды своих питомцев. Это в равной степени относилось теперь и к нему, отправляющемуся в одну из своих командировок с партией собак. Слова принадлежали старому мудрому пограничнику, другу капитана, погибшему в начале войны - когда они почти вышли из окружения, тот был смертельно ранен...
На одной из прифронтовых станций «собачий эшелон» попал под бомбежку. Число жертв перевалило за тридцать.
А вскоре, вздымаясь огненным валом, перед ними встал фронт.
Вихремеев и несколько сержантов сразу попали со своими псами в пекло. Немец усиленно атаковал обескровленную советскую дивизию, занимающую оборону на большом участке фронта, в которую были распределены по батальонам инструкторы питомника и их «курсанты».
Вихремеева с двенадцатью собаками направили в часть, куда был нацелен тяжелый клин фашистского удара. Разрастаясь и становясь все более отчетливыми, танки гитлеровцев уверенно шли на позиции обороняющихся. Сзади бронированных машин, чувствуя себя уверенно за таким укрытием, двигалась немецкая пехота.
«Не впервой!» - равнодушно думал капитан, пытаясь успокоить лихорадочность мысли. Над головой запели осколки, засвистели пули. Чуть в стороне, прямо в окопе, рванул снаряд, вздымая тяжелую землю. Заговорили наши орудия - перед наступающей пехотой вырос огненный вал.
Задача отсечения немецкой пехоты была решена - поливая из автоматов, фашисты залегли. Но упорно на оборону советской дивизии надвигались танки.
Было все: стрельба из противотанковых ружей, стремительные броски гранат, бледные перекошенные лица и заваливающие дно окопа солдаты. Грохот, лязг и вой слились в сплошной гул. Вот только странным казалось в этой обстановке собачье поскуливание.
Измотанные в боях советские бойцы стояли насмерть. Горели, чадя черным дымом, танки, а новые упрямо лезли на позиции.
Первая собака, выпущенная со смертоносным грузом, была убита через несколько мгновений шальной пулей. Немецкий танк приостановился, затем медленно стал обходить труп собаки. До окопа ему оставалось не более сорока метров. Навстречу танку метнулась другая собака.
Вихремеев механически отметил, как дрогнул от взрыва танк. Сбоку выходил на окопы уже новый. Со злостью замахнулся связкой гранат один из бойцов, высунувшись за бруствер по пояс - и, не охнув, замертво осел.
Капитан выпустил собаку. Остальные «истребители» сидели в окопе, плотно прижавшись к стенке - они не видели боя и угрожающих машин, но остро чувствовали необычное. К грохоту и взрывам они привыкли еще там, на полигоне - это было им не в диковинку, и поэтому, казалось, они чувствовали себя спокойно (но отнюдь не уверенно).
Отдельные прорвавшиеся танки начали утюжить окопы. Затем, лязгая, так же уверенно прошли дальше. Сбоку к ним бросились несколько собак. Оставшиеся в живых бойцы начали швырять гранаты...
Атака была отбита. И в этот день на их участке фронта наступило затишье. У Вихремеева после дневного боя осталось шесть «активных штыков».
Потом был снова бой. Дыма, эту лохматую собаку, капитан жалел, не выпускал - берег для особого случая. Были у Вихремеева и другие месты - сохранить Дыма и увезти его обратно в школу с тем, чтобы сам Дым стал «инструктором» у будущих курсантов. Значит, ему, Вихремееву, верным помощником.
Но настал такой момент, когда в ожесточенном бою погибла предпоследняя собака, так и не успев дойти до цели, а танк уже был в опасной близости. Капитан поднял Дыма, коротко и злобно сказал «Фас-с-с» и подтолкнул собаку.
В пятнадцати метрах от танка Дыма ранило в заднюю ногу. Пес пополз. И кто знает, может быть он успел бы сделать свое дело, если бы один из бойцов не сумел подорвать танк с фланга. Взрывной волной пса отшвырнуло в сторону. Снова смерть обошла его стороной, дала отсрочку.
К вечеру капитан с перевязанным и отошедшим от контузии Дымом перебрался на командный пункт полка. Миссия его закончилась, и Вихремеев ждал результатов от других групп.
В тот день с утра неожиданно повалил снег. Первый осенний снег сорок второго года. Дым лежал в углу, отдыхал. Изредка вздрагивая, будто его еще тревожил кошмар боя, он равнодушно осматривал КП. Чему на фронте удивляться? Здесь ко всему привыкнешь. Вот девчушка сидит за рацией, что-то монотонно бормочет и с умилением иногда посматривает на него, Дыма. И что в нем интересного? Нет, он своего хозяина и друга ни на кого не променяет. А вот какой-то дядя, с двумя шпалами в петлице, громко орет в трубку телефона - наверное, ругается.
Майор на самом деле докладывал обстановку, спрашивал:
- Будет подкрепление? Немцам скоро здесь не за кого будет споткнуться. Так будет подкрепление? Мобилизовать, говорите, всех вспомогательных? Они уже давно там, в окопах. Так будет, спрашиваю, подкрепление? На нет и спроса нет. У других то же? Сомневаюсь - почти весь удар пришелся на нас. Ладно - они снова идут...
Вдали нарастал гул предстоящего боя. В действие через пятнадцать минут вступила приданная полку артиллерия - с передовой сообщили, что в атаку идут танки. А через два часа оттуда передали, что прорвалась группа танков, которая движется в направлении КП.
- То есть на нас, - мрачно констатировал факт комполка. - Немедленно выслать навстречу резервный взвод автоматчиков. Да выдать им дополнительно гранат, - устало добавил он, обращаясь к своему начальнику штаба.
Потом повернулся к Вихремееву и с грустной усмешкой сказал:
- Собачек бы мне сейчас твоих, капитан.
И до того это сказано было ласково, что Вихремееву стало не по себе.
Взвод автоматчиков, потеряв половину личного состава, сумел повернуть танки, уничтожив часть их. И все же один танк прорвался... Это было так неожиданно, что на КП растерялись - сообщить им о надвигающейся катастрофе никто не успел.
Надвигающийся лязг насторожил Дыма - он видел, как засуетились люди.
Из танка, заметив перед собой выступающий из земли бревенчатый накат, дали выстрел. Перелет. Взрыв потряс блиндаж, из щелей посыпалась земля. Дым метнулся к выходу. Из-за ослабленного ремня пакет взрывчатки сбился со спины собаки на бок. Уже на улице рана ноги дала о себе знать: пес заскулил и ткнулся в порошу снега.
Для тех, кто остался в западне блиндажа, было лишь два выхода - или стремительно выскочить наверх... под пули танкового пулемета, или наверняка погибнуть в блиндаже под танком, от взрыва, пули и осколка. Успевшую выскочить из блиндажа телефонистку срезало очередью. Офицеры КП, как парализованные, замерли на месте. Поздно!
Никто из них не заметил, как отчаянно полз к танку Дым, оставляя на снегу кровавый след. «Дым, Дымок! - уже потом вспомнит Вихремеев своего друга. - Ты все же успел пересечь путь танку, скрестил с ним свои дороги...»
Близко, слишком близко полыхнул подорванный танк. И в амбразуру КП засвистел металл осколков. А вскоре стал рваться боезапас в самом танке. Блиндаж начало ровнять с землей.
Когда к КП подошли остатки резервного взвода автоматчиков, бой местного значения был закончен. Начались раскопки.
... Только через полтора месяца Вихримеев вышел из госпиталя. С дергавшейся щекой, на которой красовался шрам, капитан лишь недавно оправился от контузии. На левой руке его недоставало трех пальцев. Мрачными глазами смотрел Вихремеев теперь на мир.
Медицинская комиссия при рассмотрении направления выздоравливающих в полевые части учла опыт работы Вихремеева в служебном собаководстве...
Кто вы, поручик Самарин?
1. Оглянись назад...
Летом одна тысяча семьсот семидесятого года, после блестяще проведенной битвы у реки Ларги перед армией Петра Александровича Румянцева стояла трудная задача. Да, противник отступил, турок после стремительных атак на его позиции был подавлен - слава русским войскам, одержавшим новую победу и доказавшим свою мощь и непобедимость, - но что же дальше? Впереди главные силы турецкого визиря, а сзади, в тылу, татары, эти проклятые союзники Турции. Перед русскими - сто пятьдесят тысяч и грозят ударом в спину еще восемьдесят тысяч. Не многовато ли на три-четыре десятка тысяч русских солдат?
Не дожидаясь погибельного окружения, Румянцев двигался навстречу силам турецкого визиря.
... Много ли надо для пышущего здоровьем, жизнерадостного и крепкого двадцатилетнего офицера кавалерии? В этом возрасте не приходят еще тяжкие мысли и печальные размышления, жизнь кажется удачливой и беззаботно яркой. Стоит ли ломать себе голову о будущем или завтрашнем дне, когда день сегодняшний награждает тебя новыми эполетами, прекрасными вечеринками, лихими атаками и упоением сабельного удара, взмахом тяжелого палаша, разящего насмерть упрямого турка? Нет, не стоит и думать о мелочах, когда молодость и задор бравого кавалериста завоевывает женские сердца, бокалы вина и картежные деньги. И новые земли для Российской Империи.
Пыль тусклым серебром покрывала коней и людей, монотонно покачивающихся в седлах. Отдыха впереди не предвиделось.
- Почему вы замолчали, поручик? - подал голос Поляков, вертлявый и неунывающий товарищ Самарина.
Они, все здесь оказавшиеся в гуще русско-турецкой войны офицеры одного из драгунских полков, были в основном молоды и возрастом не старше двадцати пяти. Самарину недавно исполнилось двадцать, Поляков и того моложе, чуть постарше Самарина второй его приятель Азаров, еще чуть постарше Сотников, Шилов, Воронов, Углов. На этом фоне, шумном и браво молодецком, резко выделялся молчаливый капитан Назаров, их непосредственный командир. Капитана отличала сдержанность, отличные манеры, в схватках он бывал хладнокровным и не любил беспорядочности и пустого азарта, так характерного его молодым подчиненным. Немного угрюмый, с хрипловатым голосом, повышенной требовательностью, он радел и переживал за свою молодежь. Однако став в свои тридцать два года опытным воякой, не сумел завоевать расположения своих юных офицеров, на которых невольно давил своим большим жизненным опытом. Против его скромных запросов, ненавязчивой морали и дожидавшихся его из похода жены и десятилетней дочери выступала необузданная в своих порывах холостяцкая раскрепощенная дворянская офицерская поросль. Назарова уважали, побаивались, слушались, но и не более - он был, если можно так сказать, чужим среди своих. Как боевого командира его бы кинулись защищать от турецких сабель (опять же в надежде на награду и почести, не более), но как человеку, тем более захудалого рода, хоть и потомственного дворянина, никто бы не подал руки помощи. Молодости свойственен свой непонятный эгоизм, больше поддающийся чувству, чем рассудку.
- Поручик Самарин, вы что же молчите? Поручик Самарин, налить вам вина?
- Оставьте, господин Поляков. Вчера изволил набраться. И перестаньте смеяться, вы тоже были не на высоте.
- Стоит ли переживать? Зато как было прелестно, вам не кажется? Что еще может внести разнообразие в нашу походную жизнь, как не веселая попойка на бивуаке?
- Согласен, - Самарин улыбнулся, его усы задорно встопорщились. - Война войной, но и жить хочется. А как тебе, дорогой, понравилась вчерашняя молдаваночка, дочь местного хозяйчика?
- Ух-х, - Поляков звучно щелкнул языком и нетерпеливо завозился в седле. - То-то на нее так заглядывался Азаров.
Офицеры, слушавшие Полякова, дружно захохотали.
- Азарчик, понравилась ли тебе красотка?
- Неприступная! Как она отшила вас обоих, тебя и Самарина!
- Нет, Самарин ей, кажется, понравился.
- Еще бы, бравый поручик! Один вид и усы чего стоят.
- Поручик Самарин, дали бы вы взаймы хоть один свой роскошный черный ус!
- Он все отдаст, душа нараспашку, но со своей гордостью - усами - ни за что не расстанется.
- Породистый! Твоей стати и осанке, Самарин, можно позавидовать. Ну, да ты у нас ведь видный дворянчик!
- Воронов, не задевайте господина поручика. Не советую. Он у нас вспыльчивый, того и гляди может потребовать сатисфакцию, хоть она и официально запрещена.
- Дуэль? Нет, между нами она невозможна. Я знаю, Самарин великодушен и мелочи пропустит мимо ушей, простит своих. Чего не ляпнешь с больной головой!
- Чувствуется петровская закалка его деда. Ты в него пошел, Самарин, петровский дворянин? Те люди и их внуки мне внушают истинное уважение. Дед воевал, отец - военный. И сам пошел... Достойно подражания и истинной зависти, господин Самарин. Тому есть подтверждение - недавний ваш чин поручика. За храбрость у Ларги.
- Однако, тяжело, господа офицеры! Два года уже возимся с турком, - разговор становился общим и протекал неторопливо. - Что-то будет - пан или пропал?
- Выберем лучше пана.
- Себя? А то как бы не пришлось выбирать польского... Что-то там происходит. Или может произойти.
- Что, Поляков, устрашился турка? А ведь только начал воевать. У реки Ларги было только первое твое боевое испытание. Уже сдал? Устал?
- А может я не собираюсь всю жизнь носить военного мундира? Что такое служба - профессия, занятие, способ заработать или прожить? Мне требуется только слава, ее дуновение, стремление почувствовать себя не трусом. Чтобы было потом что рассказать своим детям.
- Которых ни у тебя, ни у многих из нас еще нет и не скоро будут. А может и вообще...
- Не надо мрачности. Мне судьба представляется такой, - Поляков подбоченился. - После военных лавров я скромно живу в своем поместье. Из которого, кстати, сбежал на войну чуть ли не помимо воли батюшки и матушки. И в котором они меня ждут не дождутся, с нетерпением ожидая моей свадьбы на дочери богатого соседа. Обо всем уже договорено.
- Прекрасно, прекрасно, - подхватил Азаров. - Мне нравятся ваши рассуждения. Каков благородный подход и понимание! И я, наверное, поддержу своего товарища. Не вечно же тянуть военную лямку, испытывать тягость угнетения такой неустроенной жизни. Надо же и побыть хозяином своего имения. Это Назарову, вечному служивому, деваться некуда, а нам есть куда пристроиться и где провести остаток жизни.
Впереди и сзади кучки офицеров мерно колыхались скученные нестройные ряды драгун. Кони всхрапывали, дыша седой пылью разбитой дороги.
- А меня вот не устраивает штатская жизнь. Скучно! - Самарин оглядел товарищей. - Буду военным сколько возможно.
- В крови это, что ли, у вас?
- Семейная традиция. А что ж за офицер без войны или не воевавший? Ломаного гроша не стоит. Я войну, господа, уважаю, она дает ощущение уверенности, причастие к российским делам великим. Да если еще учесть, что турки напали первыми... И война здесь есть для нас дело благородное. Угоняют в полон наших людей, грабят - какое может быть прощение турку?! Я в сей кампании вот уже два года с самого начала, довелось увидеть и повоевать. Вот и господа Углов, Воронов и Шилов прошли теми же дорогами. А до этой кампании несколько лет в гарнизоне послужил - скучно без войны, слава богу хоть молодой был и самонадеянный, только присматривался да нрав показывал, не зная, куда себя деть и где силы приложить... Война все расставила по своим местам.
Углов согласно кивал головой, будто подтверждая правду своего товарища, и не спускал глаз с вразнобой качающегося строя. В общий разговор особенно не вмешивался, но сути не упускал и слушал внимательно, не забывая при этом осматривать колонну. Военная жизнь приучила Углова обходиться без глупостей.
Надвигались сумерки, и небо медленно серело. Где-то в стороне мерно текла жизнь, а здесь в преддверии нового сражения гудела земля под копытами коней и ногами солдат.
«Капитана Назарова к командиру полка! - посыльный скакал вдоль колонны. - Назарова к командиру. Назарова...» Ему навстречу вырвался из строя всадник, с минуту они погарцевали друг около друга, потом посыльный махнул рукой вперед и ускакал прочь, а Назаров на своем коне рысью подался в указанном направлении.
- Отец-командир что-то затеял, - проговорил Воронов, провожая взглядом удаляющегося Назарова. - Для чего собирает?
- Пахнет порохом.
- Что, нюх как у гончей? Догадываешься?
Усталость долгого перехода ломала и крутила людей, заставляла засыпать кавалеристов прямо в седлах. То тут, то там вздрагивали они от толчков, непонятно дергались и вновь погружались в дрему. Тяжел переход солдат, которых ждет впереди не менее тяжелый исход сражения.
«Поручика Самарина вызывает Назаров. Самарина к капитану. Самарина...» - катилось вдоль строя. Сотников рысью держался сбоку колонны и непрестанно повторял: «Поручика Самарина требует капитан Назаров». И так бесконечно, как эхо в горах, долгое и грозное. Пока не получил ответ: «Поручик Самарин слышит. Приказ получен. Иду». Ловкий всадник отделился из строя и пошел за круто развернувшимся Сотниковым.
Сон валил людей в седлах. Сон, тяжелый сон сковывал драгун. Где взять силы, чтобы противостоять усталости, быть готовым к отпору врага?
- Углов, как мы будем выполнять задание? Полк встает на ночлег, все устали. Кого послать на разведку? - Назаров всматривался в серые тени, но будто и не ждал ответа. - Пошлем Самарина. Молодой, вытянет, выносливости не занимать, да и опыт уже кой-какой есть.
- Послать за ним? - Углов напрягся в седле.
- Уже. Сотникова направил. Ты займись устройством на ночлег, позаботься о караулах, а я поставлю задачу Самарину и прослежу его выход. Доложишь потом. По-ше-е-ел!
Полк устраивался на ночлег, драгуны предвкушали короткий, но столь долгожданный отдых, пищу и сон, а Самарин уже мысленно готовился к вылазке.
«Командир полка, согласуясь с указаниями Петра Александровича Румянцева, должен к утру произвести разведку своей полосы продвижения, определить наличие неприятеля в близлежащей территории. Все это проделать по возможности без излишней горячности и шума, стычек без необходимости избегать, себя особенно не проявлять, но данные о турке иметь основательные и досконально верные. Во всем этом залог будущей победы или неуспеха, - капитан говорил спокойно и четко, будто пытаясь вбить уверенность в своего подчиненного. - Общая задача, надеюсь, ясна и не вызывает вопросов? Прекрасно. Теперь идем дальше, господин поручик. От нашего полка по разным маршрутам идет несколько групп, в том числе одна из них - наша, под вашим старшинством. Сколько вы берете с собой драгун?»
«Да, я с вами согласен, господин поручик: много брать - слишком шумно и мало маневренности, но и небольшой отрядик больше подвержен риску неудачи. Определимся на следующем составе - полтора десятка драгун, и в помощь вам еще один офицер. Да, не возражаю, пусть это будет Поляков».
До Самарина волнами идут рассуждения капитана: «Ваша команда имеет цель проведения общей рекогносцировки и уточнения сил и расстановки противника. Ваш маршрут... Встряхнитесь, господин поручик, возьмите себя в руки. Вы молоды, и я надеюсь, что победите усталость. Еще раз уточняю, что стычки с турком избегать, горячности драгун и Полякова простора не давать и всячески удерживать их от опрометчивого шага. Команду построить здесь для осмотра. С богом, господин поручик!» Самарин вздрогнул от последних слов, сон разом слетел с него.
Как и обещал, Назаров самолично обошел строй команды поручика. В мелочи экипировки и детали вооружения вникать глубоко не стал, вполне доверяя исполнительности Самарина. Общим обзором остался доволен, легким шагом отлетел чуть в сторону, искоса оглядел иронично всадников... Дико гикнул и набежал на коней, пиная и раздавая удары кулаками и ногами.
В целом строй остался недвижим, лишь обиженно заворочался, да кое-где всхрапнули глухо кони. Крепко удержали удилами драгуны коней.
«У тебя стремена звенят - плохо. Вон из строя. За нерадивость будешь наказан».
«Твой конь на дыбы пошел. С перепугу? Слаб душой, плохо обучен, значит. Пока рановато в дело».
«Почему подкова плохо обвязана? О, покажи, покажи, да он, конь твой родимый, и подкован-то... Не годится. Конь для тебя первейший друг и помощник, а в таком плачевном состоянии. Не годится так! В сторону».
«А теперь - вокруг меня «рысью ма-а-арш». Хорошо, хорошо. Стой! Годится. Поручик Самарин поше-е-ел! Итоги докладываешь лично, живой и невредимый».
И четырнадцать всадников бесшумными призраками ушли в сумерки.
«Но не пора ли расковаться? - думает Самарин, вновь качаясь в седле. Глаза его широко раскрыты, словно мчатся навстречу грядущей опасности. - Да бросьте вы, господин поручик, высокие мысли... Не качаясь в седле, а трясясь. Именно трясусь в седле. И глаза мои не столь уж широко раскрыты, скорее прищурены. Какое там благородство во взгляде, если ярая усталость пытается закрыть их».
Так думал поручик Самарин, когда его отряд крался в сгущающуюся темноту. Гляди, кавалерия, имей острый глаз от пыли и коварных веток. Теплые ночи намного короче холодных, успевай! А не выполнить приказ - такого себе не позволит русский офицер.
Чуть сзади Самарина едет Поляков, безостановочно восторгающийся юноша. Поручик не выдерживает и иронично обрывает восторги своего товарища. С другой стороны Самарина, чуть ли не конь о конь, едет сержант, пожилой вояка, сивоусый, широкоплечий, не раз порубленный в схватках. Сержант чутко насторожен и прекрасно ориентируется ночью, не теряясь и сейчас в незнакомой местности. Такой опытный солдат не подведет!
Усталость постепенно проходит, темнота начинает разбавляться серостью, и очертания предметов впереди проступают плохо различимыми пятнами. Рекогносцировка местности в основном закончена, противник не встречен, не замечены и его разъезды, скопления и разведка. Впереди должен быть хутор, последняя точка - взглянуть на него, оценить, а потом с чувством исполненного долга можно и мчаться во весь опор назад, в полк.
- Ваше благородие! - Сержант резко коснулся рукой локтя поручика. - Стой! Впереди турок.
Самарин вздрогнул, враз освобождаясь от монотонности марша. До его сознания в этот момент не дошла даже грубость жеста сержанта, непозволительность такого обращения младших чинов с офицерами. До того ли? Зато вскинулся в своем седле Поляков, заметив непочтение сержанта. Вперед Поляков на свою беду не смотрел, всецело доверяясь своему командиру.
- Замолчи, малыш! - зло зашипел поручик на Полякова. - Не видишь, что ли, главного, мальчишка, пачкун паркетный! Сержант, где неприятель?
Из сумеречного белесого тумана выплывали силуэты всадников. Одного взгляда на них было достаточно, чтобы понять неприятную опасность положения. Турецкий конный разъезд - наполовину мамлюки, то есть одиночные кавалеристы (Самарин знал, что турецкие кавалеристы называются мамлюками или мамелюками, а также спагами), а вторая половина с сидевшими позади мамелюков янычарами (турецкими пехотинцами из привилегированного разряда) - шел почти на команду русских. Тускло блестели кинжалы в зубах янычар, в руках свешивались кривые турецкие мечи-ятаганы. От мертвенно-нереального вида турок ужас мгновенно сковал русских драгун. Первым, кто очнулся от парализующего действия неожиданной встречи, стал сержант, тихим голосом сказавший: «Как будем действовать, ваше благородие?» Уверенность и спокойствие седого бывалого сержанта враз привело в чувство поручика.
- Сержант, нам не дано право в схватке.
- Есть, ваше благородие! Жалко, конечно, разъезд их небольшой. Я вас давно знаю, господин поручик, вашу храбрость и отвагу... Мы бы им показали кузькину мать.
- Спокойно, сержант, не надо победных од. Видят они нас?
- Думается, что нет. Если мы без излишнего шума развернемся и уберемся отсюда, то уйдем от них. Давать команду, ваше благородие?
И с языка поручика Самарина уже готов был сойти приказ об отходе, единственно правильное решение в данной ситуации. Не хватило какой-то доли секунды... Приглушенный шепот сержанта и поручика перебил громкий нервный голос Полякова:
- Да их же мало, господин поручик: Не больше, чем нас. Что мы ждем?! Вперед, славные драгуны, ура! За Россию-матушку! За мно-о-ой!
И молодой офицер с саблей наголо вывалился на коне из-за прикрывающих русский отряд деревьев и густого кустарника.
Это было дико и непонятно - на оторопевших от неожиданности турок мчался, помахивая сабелькой, русский кавалерист: рот одиноко атакующего был искривлен в крике, глаза безумно вращались, конь его летел не разбирая дороги.
Дрогнул неприятельский строй, рассыпаясь и изогнутым полумесяцем охватывая отчаянного смельчака. Вот тут бы и конец славному россиянину Полякову...
- Драгуны, залп! - раздалась команда поручика. Рядом с ним застыл посеревший и растерянный сержант, потерявший в один момент дар речи от необузданного поступка младшего офицера. Теперь роли их - сержанта и поручика - резко поменялись. Самарин, сей блестящий и неустрашимый офицер, теперь отлично знал, что делать и как действовать, он был уже не тот, в растерянности пребывавший минуту назад, другой - собранный, жесткий, твердый и уверенный в себе боевой обстрелянный офицер. Надо спасать безумца Полякова, надо спасать так хорошо начатое дело. Надо, надо, надо! И надо во что бы то ни стало доставить данные разведки...
Драгуны не заставили себя долго ждать. Прогремел дружный залп. И, ломая дерево, взрывая землю, конный строй русских ломанулся навстречу туркам. Встретились. Схватились. Тяжелый палаш скрестился с кривым ятаганом. «Ал-ла-а», - завизжали турки. «Ух-х», - отозвались русские.
Если по числу коней оба противника были примерно равны, то турки превосходили силы русских за счет своих янычар - конных солдат.
Мамлюк полоснул ятаганом Полякова и достал плечо дернувшегося в сторону русского расширенным концом меча. Поляков молча начал заваливаться на шею лошади, чудом удерживаясь. Еще миг - и он начнет падать вбок, запутается в стременах и может быть затоптан копытами своего взбешенного коня.
Еще раз мамлюк занес ятаган над безвольным Поляковым. Самарин понял, что не успевает на помощь товарищу; обзор в тот же момент закрыл вздыбившийся без седока конь. «Эх, пропадет Поляков ни за понюх табака! Жалко молодого», - так подумал Самарин, рванувшись вперед, когда одиночный конь ушел в сторону, открыв дорогу. Где тут вспоминать, что разница в годах у офицеров составляла-то всего пару лет.
Старый сержант, немало повоевавший на своем веку, отличившийся с поручиком Самариным в последнем деле у реки Ларги, службу знал. Вырвавшись вперед, он почти нагнал отбивающегося, задыхающегося от напряжения Полякова, но чуть не успел - мамлюк задел офицера. Добить Полякова сержант не дал, выбив тяжелым ударом ятаган у турка, а вторым ударом разрубил того пополам.
К заваливающемуся с коня Полякову и сержанту неслись с разных сторон поручик Самарин и мамлюк с сидевшим за спиной янычаром. Турки были ближе. Вот янычар привстал и на всем скаку прыгнул с ножом в руке на спину сержанту, тот и оглянуться даже не успел на предупреждающий крик Самарина. Ударившись об землю, два человека покатились со всего размаха под копыта коней дерущихся рядом всадников.
Вот так упала с небосклона звезда жизни русского сержанта! Узнает потом и завоет от тоски его жинка, не имеющая даже возможности преклонить колени пред могилой дорогого человека, ибо прах его будет находиться в чужедальней стороне; поугрюмеют взрослые сыновья и дочь, так редко видевшие своего отца, тем не менее такого желанного и родного. Но, дай бог, сержант не первый и не последний погибший в российских войнах...
Янычара, убившего сержанта, затоптали кони драгун, мамлюка срубил Самарин. Произошла свалка, где в тесной суетолке восторжествовала не турецкая гибкость, но русская стойкость. И турецкий полуразбитый разъезд с улюлюканьем ринулся улепетывать прочь.
Самарин едва успел подхватить Полякова, готового рухнуть под своего коня.
... Назаров ждал. Ждал молча, не сводя напряженных глаз с того места, откуда в ночь ушла команда Самарина. Дремавший сидя Углов иногда разлеплял тяжелые веки и видел своего командира все в той же позе, выжидательно-каменной. Вокруг ни стука, ни шума, костров нет и даже не слышно разговоров - приказ по полку строгий, гласящий ни малейшим нарушением не выявлять себя врагу. И драгуны сторожко затаивались.
Странное ощущение испытывал Назаров - почему-то думалось, что Самарин появится именно там, откуда ушел. А раз так, значит надо ждать. Прямо какое-то наваждение! Капитан не слыл человеком суеверным, отнюдь, но свято чтил все обычаи веры в удачу.
- Господин капитан, приляжете? - шепотом спросил Углов и не получил никакого ответа. «Идол! И как у него хватает терпения».
Углов тяжело уснул. Стоя задремал Назаров. Не спали только караулы на постах.
Вечность, проваливающая и мучительная, кончилась. Назаров вздрогнул, чуть не свалившись на землю, и открыл глаза - вслед за едва уловимым шумом на капитана начали наплывать всадники. Самарин вывел своих точно и безошибочно, будто удача-дух в образе убитого сержанта вела его, охраняя от неприятностей.
Назаров сжал руки, побелели костяшки пальцев. Угрюмым взором охватил не менее угрюмую конную процессию: будто смертная коса выкосила наполовину ряды драгун, и тех несчастных, что висели безжизненной поклажей на осиротевших конях.
- Самарин, жив? - тихо прошептали губы капитана. И были услышаны.
- Живой и невредимый, господин капитан.
- Так кто же?
- Ранен Поляков, не страшно. Выживет.
- Еще?
- Погиб сержант.
- Как же так, Самарин? Не мог он просто так, Самарин, не мог.
- Еще потери...
- Вижу. Приведите себя в порядок, поручик! И ко мне на доклад, - ссутулившийся Назаров отошел в сторону.
Не прошло и получаса, как Самарин появился перед своим командиром, вытянулся.
- Господин капитан! Поручик...
- Достаточно. Присаживайтесь, господин поручик. Поведайте, что же произошло.
Что произошло? Рассказываю. Все шло благополучно, дело двигалось к завершению. Но у злополучного хутора, последней точки разведки, мы вышли на турецкий разъезд, по численности небольшой. Скорей всего встречная разведка. Опешили обе стороны. Ума не приложу, как же мы их вовремя не заметили. Как, впрочем, не заметили и они нас. Скорее, дымка помешала. Мы атаковали первыми. Доблесть проявил Поляков. Сержант, выполняя свой долг, погиб.
Так рассказывал Самарин, зная, что капитан не опустится до низких расспросов у драгун. А думал так: «Сержант не возразит, да и мертвым все равно - мир праху его. И Полякова охота уберечь от начальственного гнева за молодую дурость, так дорого стоившую. Да и сам я не на высоте оказался».
Назаров слушал внимательно, не перебивал, дождался, пока выговорится поручик.
- Что ж, поздравляю вас, данные имеют ценность. Углов! Углов, скачите до командира полка, передайте следующее...
Углов уехал, а Назаров испытующе глянул на побелевшего Самарина.
- Полякова, думаю, надо представить к награде. Согласны, поручик? Вот и хорошо: Он молод, проявил незаурядную храбрость и первым кинулся на врага, так? А если так, поручик, значит, сержант погиб, защищая именно офицера. Кого? Именно Полякова. Сержант службу знает, старый солдат, и отлично ведал, что в схватке надо прикрывать офицеров, беречь их, оберегать старших по команде и закрывать собой младших офицеров, если те идут впереди атаки. Сегодня ночью у вас, Самарин, получилось так, что впереди драгун оказался Поляков - что это? Вы были сзади? Не поверю, зная вас, господин поручик. Поляков шел в одиночку впереди команды? Нет, такого не допустят. Так что же, Самарин? Все ж упорно стоите на своем? Похвально, похвально, но... Полякова, конечно, наградим. И все же есть сомнение в нем, точнее - в правдивости его храбрости. Чудно говорю, поручик? Почему ж замолчали? Эта смелость Полякова не порушила ваши планы, поручик?
Назарова трудно провести. Но трудно согласиться с ним и Самарину, упорно стоявшему на своем.
- Ваша вина, Самарин, в том, что вы не смогли, не успели обуздать порыв Полякова. И получилась сеча. Ведь был строгий приказ: «Не ввязываться...» И нарушили его вы, а не Поляков. Ваше счастье, что все так неплохо кончилось. Хотя «неплохо» - не офицерское понятие... Потерять на рядовом выезде столько драгун! Впрочем, нам с вами это абсолютно ничем не грозит, извольте не беспокоиться, меня больше волнует ваша дальнейшая карьера, ибо такие промахи вам, боевому потомственному офицеру, непростительны.
Самарин стоял на своем, заливаясь то мертвенной белизной, то багровостью. Последний раз глянул Назаров на поручика, пристально и размеренно сказал: «А жаль, что не хотите понять! Вы свободны, господин поручик». Фраза прозвучала просто и буднично.
К вечеру следующего дня Поляков с тщательно забинтованной рукой на перевязи уже качался в колонне драгунского полка, идущего тихим осторожным маршем. Впереди пахло «грозой».
Не такой и тяжелой оказалась рана Полякова. Турецкий ятаган лишь изогнутым концом - на излете - зацепил предплечье молоденького офицера, и только бог, наверное, знает, от чего начал заваливаться на коне Поляков в тот страшный для команды Самарина момент.
На душе у поручика жгло. У Полякова - пело. Он подозвал Самарина к себе изысканным жестом, на лице застыла загадочная улыбка.
- Господин поручик...
Самарин перебил насмешливо-грубовато:
- Не извольте беспокоиться. Поляков, я слышал от нашего Назарова, что вас ждет награда. За ту схватку.
- Весьма польщен, - трудна была в сей миг искренность Полякова.
Они помолчали. Приятель Самарина вскинул умоляющие глаза.
- Господин поручик, примите в знак благодарности. Не сочтите за навязчивость. Ведь вы спасли меня, и мой долг - почитать вас до гроба. Будем друзьями?
- Разве мы не добрые приятели? Вы, я, Азаров. Про нас так и говорят.
- И как знак моей благодарности примите пожелание простить вам последний карточный долг.
- Ах, вы вот о чем.
- Он приличный, долг. А я от всей души хочу быть с вами накоротке.
- Поляков, я грешным делом приготовил вам деньги. Что свое нашел, часть у других занял - вот он, берете?
- Нет, нет, разрешите вам сделать дружескую услугу. А вы знаете, я послание от матушки получил, - зачастил Поляков. - О моем здоровье печется, умоляет вперед не лезть...
- Так в чем же дело? Последуйте ее совету.
- Торопит с отпуском. Свадьба-то намечается. Остаться бы только живым...
- Может, вы не туда попали, Поляков? Но, дай бог, закончится эта заваруха, пишите рапорт на командира полка - он у нас что надо, хоть и требовательный и спесивый, но свадебные дела глубоко уважает. Получите отпуск, отдохнете и женитесь - а там, глянь, и кампания закончится.
- Спасибо за совет, воспользуюсь, - Поляков облегченно вздохнул, не заметив промелькнувшей грусти на лице Самарина.
Блажен тот, кому есть куда вернуться! Вот и Полякова тянет ближе к родному гнезду, а его, на роду которого написаны дороги Самариных - военных, так и крутит всё дальше от дома. Не стремится он, Самарин, стать твердо на землю и спокойно жить в родовом поместье - а ждут его там тоже с большим нетерпением, - хочет жизни бурной и интересной, какой может и должна быть дорога офицера российского.
Стражи господства российского? Так что же?! На том и стоим. И трон стоит, и зиждется дворянство. Вот о чем думал Самарин, словно жизнь ставила перед ним все новые и новые загадки.
... Всего несколько дней разделяет сражения русских с турками у реки Ларги и у реки Кагул. У реки Ларги - отгремело, у реки Кагул - произойдет. Командующий русской армией Петр Александрович Румянцев не собирался сиднем сидеть и ждать окружения. И турецкий визирь просчитается, если подумает, что Румянцев «будет ждать погоды на Дунае».
Русские двинулись в наступление.
«А с нами что? Так и будем во втором эшелоне?» - кони под драгунами нетерпеливо переступали. «Дойдет наш черед», - осаживал Назаров наиболее горячих.
Бешеная лавина турецкой конницы контратаковала русских солдат. Началась сеча.
«Вот тут-то мы и пригодимся. Почему не выпускают?» Но Назаров твердо стоял на своем, не давая сигнала перейти в атаку, да и весь полк переминался в нерешительности. Что же случилось, почему медлят? Капитан искоса оглядывал своих, и холодок закрадывался в его душу - измена? Убит адъютант с долгожданным пакетом? Извечная нерешительность отдельных русских генералов? Впереди режут и убивают, а ты тут стой и неизвестно чего жди.
Смяли русские богатыри турок, погасили их напор, поубавили прыти, выстояв перед конным неприятелем. И навалились на вражеский лагерь. Тут и подоспел адъютант с пакетом к командиру драгун... Полк поднялся и пошел на рысях.
Уходили почему-то в сторону. Русские батареи били по турецким, метко накрывая их; летели вверх комья земли, кровавые клочья человеческих тел. А драгуны обходили место схватки.
- Куда нас ведут?
- Измена! - истошно завопил невидимый голос.
Назаров потемнел лицом, оглянулся и грозно крикнул:
- Поше-е-ел! Заткнуть паникерам глотку! Выполняй маневр! За мно-о-ой!
Он уже не сомневался ни в своем командире полка, ни в русских генералах, ни в самом Петре Александровиче Румянцеве. Не ведал Назаров, но узнает, что драгунский полк в составе русского корпуса зайдет в тыл противника, довершит разгром и покроет себя неувядаемой славой - славой русской армии в битве у реки Кагул!
- Куда же они нас? Странный маневр, - бурчал Самарин, догоняя и пристраиваясь рядом с капитаном, скакавшим далеко в стороне от колонны. Их пытался настичь Поляков.
- Дело будет, поручик. Горячее.
- Скорее бежим, чем наступаем.
- Вы потеряли веру, поручик. После той разведки?
- На что вы намекаете? Я не трус.
- В этом нет сомнения. Но лжец. А ложь не красит офицера. Ложь и хвастовство.
- Хвастовства не было.
- Что же было?
- Если вы, господин капитан, не оставите своих попыток, я буду вынужден стреляться с вами.
Капитан опешил. Рывком остановленный кон вздыбился под ним, шарахнулся на Самарина.
- Не будем ссориться, Самарин, сейчас не до этого. Да и запрещено стреляться. Подстрелить же могут и здесь любого из нас...
Капитан захохотал, горяча коня. Но через секунду его добродушная ироничность стерлась с лица, взгляд вдруг начал становиться недобрым.
Ах это «вдруг»! С одной стороны - скрывшаяся с виду походная колонна драгун, с другой стороны - мелькнувшие турки.
Самарин, взбешенно глядя на капитана, что-то говорил ему, смотревшему куда-то вдаль.
- Оглянись назад, поручик!
- Я не так воспитан, господин капитан, чтобы принимать сейчас ваше обращение на «ты». Я...
- Оглянитесь назад, господин поручик! - зло прошипел капитан.
- А есть ли нужда? Что будет...
- Турки, Самарин! - резко был перебит поручик. - Уходим. Быстро!
Назаров хлестнул плеткой коня Самарина и дал шенкеля. Однако самаринский конь с испуга полетел по прямой, и поручик с трудом заворачивал его в требуемом направлении. Уходящий впереди Назаров оглянулся и побледнел.
Турки оказались с двух сторон, Назаров и Самарин тоже в разных направлениях. Все перепуталось. От выстрела, подкосившего его коня, Самарин вылетел из седла и покатился по земле. Удар был сильный. Сгоряча поручик пытался вскочить, залитые потом глаза выхватили из круговерти вскинутый пистолет, наводимый капитаном в его направлении. Будто громом отдалось в ушах, боль рванула грудь, на которой в мгновение расплылось багровое пятно. Самарин дернулся, ничего не успев понять, шагнул вперед, одеревенело крутанулся и рухнул, пальцы его зацарапали негостеприимную землю. Поручик последним усилием оторвал тяжелую голову, надеясь на чудо, на спасение - и взгляд его вновь уперся в капитана, судорожным рывком вырывающего пистолет из седельной сумки и опять наводящего пистолет в его направлении.
«Да что это? Есть ли бог на свете?! Рехнулся, что ли, капитан?»
Выстрел для Самарина будто раздвоился. Грохот. Потом дымок из пистолета Назарова, и снова грохот.
... Ударили по голове, тяжелое и липкое залило глаза, внутри треснуло. Уткнулась буйная головушка очередного русского офицера на дунайских землях. Успокоился Самарин, вздрогнул последний раз и вытянулся. Но, дай бог, не он первый, не он и последний в этой войне... Поплачут по грешной душе да и забудут, время сотрет все остальное.
Назаров, отстреливаясь от наседавших турок, уходил прочь. Его заметили свои, помчались на помощь, схватились с турками. «Туда!» - кричал Назаров, тыкая в пространство. Но туда уже мчались конники, возглавляемые Поляковым, так и не успевшим получасом назад нагнать Самарина с Назаровым, но все видевшего - видевшего разыгравшуюся трагедию.
Поляков мчался впереди драгун к тому месту, где пластом лежал Самарин и вокруг которого сейчас зачем-то топтались спешенные турки. Добивают?
- А-а-а! - завизжал не хуже мамлюка Поляков. - Бей, ребята, турка!
И противники сошлись лицом к лицу.
... Пока они дерутся - не на жизнь, как вы понимаете, а на живот, - господин поручик, насмерть застреленный двумя выстрелами, оглянитесь-ка назад! Оглянитесь назад, поручик Самарин, скажите, что же вас довело до такой жизни, до такого конца? Молчите? Тогда попробуем рассказать за вас...
2. Оглянитесь назад, поручик Самарин.
Так кто же вы, господин поручик?
Отвечаю - Александр Борисович Самарин, дворянин, потомственный офицер российской короны.
Мой отец - Борис Иванович Самарин...
Так вот, Борис Самарин, одна тысяча семьсот тридцатого года рождения, кончал шляхетский корпус, был произведен в офицеры. Женился рано, даже до двадцати лет не дотянул. Женой его стала прелестная Мария, дочь соседа, помещика-дворянина средней руки, раз и навсегда влюбившаяся в своего Бориса, почитавшая и любившая его, но вместе с тем державшая дом именно в своих руках, а не в мужниных. Да и то сказать - у Бориса несколько десятков душ и маленькое именьице, у Марии - намного больше, не в этом ли корень разгадки? Ан нет. Мария-то сращу согласилась на переезд в родовое гнездо мужа - так громко прозывалась самаринская деревенька. Но и только. Бразды правления сразу и навсегда перешли в ее руки - управляющий большой деревни отчитывался перед ней постоянно с трепетом и регулярно, а малой деревней, где они жили в небольшой красивой усадьбе, Мария властвовала сама.
Во всех достопочтенных дворянских семьях воспитание детей обычно, как само собой разумеющееся, падало на матерей. Впрочем, как оно и должно быть в те старые добрые времена. Но вот Борис Иванович смело и бестрепетно, каким бывал на войнах и в сражениях, решил заняться воспитанием своей молоди.
- Пришла пора заняться недорослями! - Решительно объявил Борис в одну из своих не столь уж частых побывок (наездов, отпусков и т.п.).
Его благодарным слушателем должен был стать Иван Самарин - отец Бориса и дед оболтуса Саши, высокий, могучий и сухопарый, ироничный и страшно обожающий свою невестку Марию, старик с задубелым в петровских походах лицом. Он задумчиво пожевал свой сивый, некогда страшно черный и приводящий в трепет женщин ус, и с сарказмом выдал: «Ну-ну, спесивый мальчишка Борька, действуй! В нашем роду таких дураков еще не было. А твой Сашка мне нравится, только ему лозы не хватает... Для постиженья отдельных истин».
Борис Иванович был человек занятой. Что с него взять - офицер, вечно в походах и разъездах. Но да не успеет он прибыть в отпуск к своим, едва обнимет ненаглядную Марию, так и прильнувшую к нему, как уже закричит:
- Сашка, выходи! Докладывай. Слушался матушку? А в уроках, что я задавал, освоился ли? Не то выпорю!
И день и ночь занимался со своим первенцем Сашкой. Это уже потом Сашка стал поручиком, Александром Борисовичем. А до этого туго ему приходилось, отец был крут (весь в батю) и настырен в своих методах воспитания. Попытался Борис Иванович применить свою систему и к своим другим детям - последышам, как он выражался. Но последышами были несколько девочек-погодок... Такой визг поднялся и такой гневный взгляд Марии встретил. Не дай-то бог такое испытать, даже такому храброму офицеру, каким был Борис Иванович. «Пришлось спешно ретироваться», - как выразился он сам про сей конфуз. А старый глава рода - Иван Самарин выразился по этому поводу просто и доступно: «Дурак старый», - и поправился: «Ну, может не такой старый, а все равно дурак. Женщин трогать... Это все равно, что осиное гнездо разворошить! Даже в наши времена на такое не особо решались... Ну и времена настали!»
- Что, плохие времена? - вскипел Борис Иванович.
- Цыть, сопляк! - вздыбился Иван Самарин. - Не перечь! И Марию не мучь, ты в подметки ей не годишься.
- Твое семя, - пытался опровергнуть обвинение опустошенный Борис.
- Не перечь, сын! Вам бы только в бирюльки играть... Ох-х, молодежь!
- И это ты мне? Кто ты и что ты? Закончил службу в малых чинах... Имение с гулькин нос, извиняюсь, а держишься как...
Гордый, сивый ус Самарина-первого ощетинился, как некогда щетинился его штык под знаменитой петровской Полтавой.
- Не то говоришь, батюшка, мне уже за тридцать. Стоит ли нам ссориться... Ты стар... - сдал Самарин-второй.
- Чует мое сердце - один шаг до могилы остался... И все равно! - старик гордо вскинулся.
Разговор этот происходил примерно в середине семидесятых годов восемнадцатого века, когда Иван Самарин, так уважаемый внуком Сашкой, стоял одной ногой в могиле, а Борис - по отцу Иванович - только отвоевал русско-прусскую войну. Один - старый и в отставке, другой - в зените воина.
- Что ты, неразумный, решил равнять? У меня - героическое время и фигуры, у тебя - мое прошлое и твое будущее.
- Прости, отец! - пал в ноги Борис.
Опали усы Самарина-старшего, ткнул легко сына в плечо.
- Подь сюда, да Саньку в покое оставь, - и поправился: - хоть ненадолго. Чую, нашей кости он. Записал ты его в полк? Ну-ну, давно уже. Призабыл...
Деда Санька любил, да и чувствовал, что сам любим. Рос мальчишка непоседливым и подвижным, баловнем не был, в глупых проказах не замечен. Чуть что не ясно - бежал не к дядьке или к учителю, а тихонько стучался и заходил к деду в кабинет.
Любили они потолковать - старый и малый. Начинали с пустяков, детских «почему» и «как», а заканчивали войнами и воспоминаниями Самарина-старшего. Дед ценил ненавязчивого и внимательного собеседника, в которого преображался Санька, попав в заветный кабинет.
Вначале мальчишка, с восхищением окинув развешанные по стенам сабли и пистолеты, кстати, виденные им не раз, цокал языком. От восторга. Затем забирался в глубокое кожаное кресло, уютно и благонравно в нем устраивался и начинал:
- В прошлый раз мы с вами остановились... м-м-м... На чем же мы остановились?
- Не мычи, Саша. Нехорошо так. И не хитри. Говори прямо - что хотел спросить? Может, просто соскучился?
- Да, дедушка! Всё так хорошо здесь, просто и удобно, можно всё трогать...
- А в других комнатах не разрешают?! - старик гордо правил ус, подбоченивался. - Устраивайтесь поудобней, начнем. Что, говоришь, хорошо? На том и стоим. Вещи должны служить хозяину, а не он им. Не надо терять душу в вещах, это мешает подняться над обыденностью. В походе вещей вообще мало требуется, излишне себя в дороге перегружать и беспокоиться за их участь. К старости, однако, могу я себе позволить такое излишество, а?! Да и не вещи это... Это память, все эти пистолеты, сабли.
Саша рассеянно слушал деда, не сводя трепетного взгляда с угла комнаты, где на бархате прямо над столом деда висели награды - несколько медалей и орден. Старик перехватил взгляд внука.
- Смотришь? Правильно - зри! Мне они даны, есть чем гордиться и что рассказать детям и внукам своим! Но давай к делу ближе, не будем нарушать артикул. Спрашивай, что накопил.
Саша улыбнулся, не удалось сбить ему деда и в этот раз, всегда вначале решающего его вопросы, и уж потом впадающего в свои захватывающие воспоминания.
Они потолковали о затруднениях Саши в истории и географии, дед проверил успехи внука в письме. Остался доволен. Что-то пометил в своем блокноте, лежавшем на столе, весело отбросил остро заточенное гусиное перо.
- Не косись, Саша! Не советую подглядывать и подслушивать. А секрета нет в том, что я записал - передам учителю, на что вам надо обратить внимание. Я радуюсь твоим успехам в науке, одобряю тягу к истории - знать свое отечество потребно, и про друзей и недругов тоже надо ведать. В картах географических ты силен, похвально - сие солдату необходимо. Только слышал я, что ты и к другим картам пристрастился... игральным. Ежели что, велю выпороть, и отец не защитит!
Почему конную езду забросил? Считаешь, достаточно? Напрасно, напрасно. А то, что тебя вороной недавно сбросил в крапиву - не беда, крепче будешь. Я подскажу дядьке насчет вашей конной езды. Да, а крапиву-обидчицу я бы порубил на твоем месте. Отомстить надо.
Дед встал с жесткого стула - мягкую мебель не признавал, - в раздумчивости прошелся по кабинету, снял со стены саблю.
- Бери, - и увидел, как внук задохнулся от радости. - Порубишь - и назад, продолжим разговор. Пора тебе в руках и настоящее боевое оружие подержать. Пора. Я этой саблей еще шведа рубил.
Старик с усмешкой проводил припрыгивающего от нетерпения мальчишку, крикнул вдогонку:
- На девчонок внимания не обращай. А матери скажешь, что я разрешил!
С победой вернулся в тот раз Сашка. «Врага» изрубил, сам однако «поранен» - крапива жгучей оказалась, да и порезаться измудрился, - но ни единым словом не пожаловался. Дед остался доволен.
- Давай дальше, Сашок.
- Мне неясно слово «сторож». Откуда и что означает?
- А сам как понимаешь?
- Дед, ну это же просто - делим слово и получается...
- Сто рож...
- Правильно. И получается, что человек, находящийся при исполнении таких обязанностей, как бы должен иметь сто... пар ушей и глаз.
- Хм-м, что-то есть, внучек. Давай дальше.
- Возьмем слово «богатырь». Раскладываем - и получаем...
- Постой-постой, голубчик. Да ты читал ли баллады про богатырей? И что, они занимаются тем, что... Нет, нет, скорее «богом данные», «бога длань». Эх, не силен я, Саша, в науке. Был ведь простого звания, да вот выслужился, но... от своего берега уплыл, к чужому так и не прибился. Дерзай, Сашок!
- А слово «немец»?
- От слова «немой». Не понимал русского языка, потому и немой - немец. Раньше, при Петре, для русских все были немцы - немые, со временем пристало сие к немцам-германцам, их большинство было при дворе российском времен Петра.
- Значит, дед...
- А значит это то, что отец ваш, Саша, расскажет вам про них значительно больше и интереснее, чем я - он с ними воевал. Спрашивай его... Да почаще... Борису Ивановичу, думается, есть что рассказать про прусскую войну. Здесь не стесняйся, внучок... Ведь ты будешь военным, не так ли? Куда ж тебе деться от Самариных-военных? На том и стоим.
Часто, очень часто - насколько возможно были их встречи в пределах одной усадьбы - встречались, спорили и разговаривали поседевший в боях старый воин и подрастающий мальчишка.
- Сашок, - говорил Самарин-старший, мягко положив свою жесткую руку на плечо любимого внука. - Вот как ты ни крути, а тебе одна дорога - в армию нашу рассейскую! Ты согласен? Не очень?! Это как понять? Теперь я не согласен! Зачем тебе жизнь просиживать в деревне... Или быть паркетным шалуном. Будь солдатом - там ты себя покажешь, расскажешь, себе докажешь! Там - благородство, высокая цель...
- А батюшка говорит обратное - мол, благородство перевелось, и обретает трусость. Это он о своем прусском походе.
Дед с интересом оглядел внука, хмыкнул с горечью.
- Да, Сашок... Вернее, не то... времена не те! Солдат-то, он всегда благороден в своих порывах, тем и отличается от тех, кто витает на балах и в великосветских забавах. Поэтому и думаю... не прибился, не смог или не успел я к чужому берегу. Грамотешки не хватает! Но у вас-то... Дерзайте.
- ... Эх, - говорил Самарин-старший в другой раз, - ты представляешь, Сашок, красоту воинскую - мундиры военные, ментики гусарские, доломаны... Ух-х, словами не передашь! Что красоты в штатских костюмах... Я-то в пехоте прослужил, а всю жизнь мечтал про коня, кавалерию! Мечту исполнил... сын Борис в гусарах, ментик носит.
Иван Самарин уставился взглядом в заветный угол, посуровел.
- Тяжко складывалось у меня. Но я доволен. Что я имел и что имею?
А ведь Ивану Самарину можно было позавидовать. И есть в чем... Есть что рассказать воину российскому!
Подымался Иван со своего жесткого стула и рубил воздух трубкой, вынутой из зубов - как некогда колол шведа штыком. Ведал повесть трудную, повествовал былое. Широким жестом крестился на потемневшую икону, стародавнюю, как он сам, икону святого Георгия-победоносца, висевшую чуть выше боевых регалий. И продолжал рассказ.
- Видишь медаль? Серебряная. То - первая. Остальные уже потом... Вышли мы тогда под Полтавой с ружьями новыми, ударно-кремниевые замки, штыки к ружьям. Что ж тут не биться?! Петр дело знал - вооружил, обул, одел, к делу призвал. Знали, за что бились. Сколько мне тогда было? Уж и призабыл. Лет, наверное, девятнадцать-двадцать, одним словом, молодой, состоял в пехотном полку самым низшим чином. Это уж я потом пошел в гору. А тогда для меня было «крещение». Вдарили в штыки, погнали шведа. Я и Петра Великого видел, правда, издалека, он и сам хватом был, солдат изрядный... горжусь сим.
Помолчал старик, вспоминая молодость.
- За Полтаву и награжден сей серебряной медалью. Низшим чинам тогда ее давали. Ну а потом в гору пошел.
Горько усмехнулся старый, вспомнив сына Бориса, сказал:
- Впрочем, для батьки твоего, Сашок, я вечно был неудачником. А того не понимает или не желает он понять, что я для него дорогу пробил. Ну посуди сам, кто бы Борис Иванович был, если бы... Если бы не я, рядовой гвардии Петра, отличившийся под Полтавой и потом служивший долгие годы, дошедший до поручика, получивший дворянство за заслуги и немного душ в придачу... Самому много ли мне надо! Женился поздно, когда уж на ночи встал. Жена вскоре умерла, оставив Бориса полусиротой.
Повоевал я достаточно. После Полтавы была долгая война со шведами, Северной ее прозывают по истории. А вообще-то я считаю, что моя солдатская служба и началась с нее - с 27 июня 1709 года - Полтавы!
Много я пережил царей российских - Петра Великого, других. Борька, батюшка твой, родился в начале правления Анны, а ты сам - в середине царствования Елизаветы. Был в жизни нашей и Петр III. Сейчас - Екатерина Вторая, дай ей бог долгих лет! Большое послабление дала дворянству. Но да уж сильно поблажка, как бы не расслабилось дворянство российское... Жаль времен ушедших.
Какие были времена! Ружья пехоты наперевес и шляпы треугольные, кавалерия внушительна. Вперед! Что Петр говорил? «Вы не за Петра бьетесь - за Россию...» Может, не так точно передаю я, но чуешь истину?! А? «Солдат есть имя общее, знаменитое, солдатом называется первейший генерал и последний рядовой». Кто сказал? Он же, Петр! Великий был человек, Россию тащил...
Старик входил в азарт, швырял в сторону - куда попадет - «Придворный календарь». Саша теперь мог только догадываться, что речь деда, скорее сейчас походившая на монолог (ибо Иван Самарин в таком состоянии не терпел ни вопросов, ни контраргументов), переходит на заключительную стадию, в которой крепко переплетались и патриотизм, и сетование на сына, и почетность армейской службы, и многое другое, что внук слушал с неподдельным интересом.
Сегодня в «монологе» Ивана Самарина сразу после его кумира Петра Великого на сцену вышел - точнее, вылетел пробкой - сын Борис Иванович.
«И что он такой занудный? Ему бы жить да радоваться, а он клянет неудобства армейской жизни, неустройство в походах. Ищет справедливость, что ли? Где она? Ему ли говорить? Да его бы на мое место, в свое, конечно, время... Про генералов своих такое несет... Мол, им бы по паркету шаркать. Слушай, Сашок, может в этом все-таки что-то есть?! Не-е, да ну его! Гусар, офицер, грудь в наградах, что еще надо? Я свою мечту сделал - не я, так сын на коне в гусарском ментике. Красота! Надеюсь, ты туда же путь держишь? Эх, Борису бы добавить в свои суждения чуть... этакого... этакого... бодрости, что ли, или веры высокой, а? Как бы поточнее выразиться...»
А Борис Иванович сына своего любил, из вида не терял. У них тоже много было споров и разговоров - у подрастающего сына и блестящего гусара-отца. Про немцев и благородство. Про устройство Саши в полк. Про «Виват, Россия» и деда. Все это Александр вспомнит, когда через несколько лет в один из хмурых дней будет провожать деда в последний путь. Иван Самарин, проживший долгую и трудную жизнь, растерявший здоровье, но еще могутный старик и помрет-то гордо... сидя за столом, держа перо в руке, молча и с достоинством завалится на свои исписанные листки. Ни перед кем не клонил голову, лишь перед смертью. Да останется память о нем в сердцах его близких и друзей, и будет его могила на местном погосте первой в семейном склепе дворян Самариных!
Борис Иванович знал про немцев и своих генералов не понаслышке, знал как боевой офицер.
Осенью 1756 года прусские войска, разгромив Саксонию, вторглись на территорию Австрийской империи. Дабы ограничить непомерный аппетит и возможное посягательство пруссаков на интересы российские, Фридриху II противостал блок - присоединившаяся Россия к Австрии с Францией. Летом 1757 года восьмидесятитысячная русская армия, находясь на марше в весьма стесненных для нее условиях, была внезапно атакована у деревни Гросс-Егерсдорф. Тут бы и быть русским битыми.
- Вот это пруссаки! - вспоминал Борис сыну и деду. - Дали они нам. Вояки крепкие, дисциплина железная... Не чета нашей разболтанности и неорганизованности... порядок у них жесткий.
Но и русские не дрогнули в тот критический момент. Стойко защищались их передовые отряды. Своими смертями они дали возможность развернуться в боевой порядок. А некий командир резервной бригады, генерал Петр Александрович Румянцев, проведя быстрый маневр-обход, ударил во фланг пруссакам.
Одержав победу под Гросс-Егерсдорфом, русские в январе 1758 года заняли Кенигсберг.
В августе 1758 года кровопролитное сражение близ Цорндорфа не дало перевеса ни одной из воюющих сторон.
Одна тысяча восемьсот пятьдесят девятый год принес русским разгром сорокавосьмитысячной прусской армии, из коей под рукой Фридриха II осталось едва ли три тысячи солдат. Произошло это под Кунерсдорфом.
- Дорф - по-немецки «деревня». Так что славными для нас оказались эти деревни - Гросс... Егерс... Цорн... Кунер... Но дальше-то, дальше, - Борис Иванович наливался багровостью. - Вот вы, батюшка, говорите, кричали «Виват, Россия!» или вам там что-то в таком духе кричали... Не надо уточнений, не в них дело. А я вот ни разу не слышал, сколько ни ходил и ни ездил тогда, чтобы нам кричали «Виват, Россия!». Хотя бы даже на самой тихой ноте.
- Да, было дело, - с достоинством перебивал сына Самарин-старший.
- А у меня не было! И будет ли у нашего Сашки - тоже сомневаюсь. К чему тут благородство, для чего? Спуститесь, уважаемый, сверху, поближе к грешной земле, оглядитесь - где тут «Виват»?
- А я поддерживаю деда, - имел смелость сказать самый младший из спорящих, на что получил «не встревай» и «молодой еще старших перебивать».
... Спустя несколько лет, когда русские войска под командованием П.А. Румянцева вступят на территорию угнетаемой турками Молдавии, молодой драгунский офицер Александр Борисович Самарин услышит не раз произносимое в адрес русских благодарное и радостное «Виват, Россия!». Вспомнишь тогда деда, Александр? И задашься ли вопросом - зачем нам другая земля?
А вот благородный Борис Иванович, много лет спустя после войны с Пруссией вспомнит, вспомнит с удовольствием, млея и восторгаясь, что знает те времена, в кои начала восходить будущая звезда России в военном деле... И даже уточнит, что он, Борис Самарин и тот, великий и прославленный, родились в одно и то же время. И даже сражались в составе русской армии против Фридриха II.
Да, речь идет об Александре Васильевиче Суворове.
Когда битва под Кунерсдорфом закончилась разгромом прусской армии, командующий русскими войсками Салтыков... На Берлин не пошел.
«На месте главнокомандующего я бы сейчас пошел на Берлин», - сказал Суворов. Но большая часть русских войск ушла на зимние квартиры. Недоумевали офицеры, не понимали и солдаты. Не было еще сил и власти и у молодого тридцатилетнего Суворова, он тогда мало что еще значил: прибывший на русско-прусскую войну в 1757 году, а в 1759 году находящийся на штабной работе. Итак, подполковник Суворов, начальник штаба корпуса.
В сентябре 1760 года корпус генерала З.Г. Чернышева преследовал неприятеля. Впереди - Берлин. Первым к Берлину вышел передовой четырехтысячный отряд русских под командованием Тотлебена. В составе отряда был и Александр Васильевич Суворов.
Первый штурм оказался неудачным. Но вот подошли дополнительные силы, и 28 сентября 1760 года...
Борис помнит этот день. Будто произошло вчера. Так и стоит перед глазами.
Вот они, русские герои, идущие по Берлину в сентябрьский день 1760 года.
Архангелогородские драгуны. Эскадроны кирасир. Уланы Санкт-Петербургского полка. Гусарские Молдавский и Сербский полки.
Малороссийские гренадеры, Апшеронский, Киевский, Московский пехотные полки. Еще пехота.
Артиллеристы.
Славное донское казачество, невозмутимы и бородаты, в синих мундирах и шароварах с красными лампасами (где-то среди них был и Емельян Пугачев).
«Вот они! - восклицал Борис своим слушателям. - Так и чудится, что я вновь еду на коне между ними... Эх-х, было время!»
Европа была ошеломлена.
«Виват, Россия!»
И в то же время взятие берлина русскими вызвало сильное раздражение союзников России. Вот тебе и «виват», в самый раз задуматься.
Но военные действия продолжались.
Румянцев взял крепость Кольберг.
Умерла императрица Елизавета Петровна.
На престол стал Петр III. Свергнут июньской ночью 1762 года.
На троне - Екатерина II, завершающая семилетнюю русско-прусскую войну.
Пока Россию трясут крупные события, Суворов уверенно идет к своей цели... Подполковник Суворов со своим со своим кавалерийским отрядом нападает на растянувшийся прусский корпус и наносит урон... С тремя батальонами солдат разбивает городские ворота и врывается в прусский город Гольнау... Главнокомандующий напишет про него: «...себя перед прочими гораздо отличил», и Екатерина II произведет Суворова в полковники, назначив в командиры пехотного полка.
Борису Ивановичу Самарину после Берлина то ли не везло, то ли не очень удачно складывался для него конец войны. Израненный и получивший полугодовой отпуск по лечению, прибыл он из далеких мест в родовое гнездо, где и медленно поправлялся, проводил время в кругу семьи. Отпуск кончился, и он продлил его еще на год, а потом для него потекли скучные и серые будни мирно-военной службы. Продолжал тянуть лямку военного, но все чаще стал задумываться о камзоле гражданском.
- Батюшка, - спросил его однажды Саша вскоре после смерти Ивана Самарина, - почему вы так часто ссорились с дедом?
- Не ссорились. Скорее спорили.
- Спорили? Но вы ему не верили, не поддерживали, опровергали его взгляды.
- Нет, Сашок, не то глаголешь. Жизнь - она сложнее, чем кажется. А его, нашего дорогого основателя Самариных-дворян, я всегда уважал и буду уважать. То, что спорил с ним, так это понятно, ведь времена и нравы меняются, со старинной меркой настоящее не измеришь и не изменишь. И я был прав, и он прав, каждый из нас в чем-то и когда-то прав. Правда разной бывает - правдой генерала и правдой солдата... Покойный был мне нужен, очень, в нем и его убежденности я часто черпал силы, искал решений для себя. Отцу всегда нужен сын, а последний считает со временем, что вполне стал самостоятельным и обойдется без отцовского наказа. Лишь потом время расставляет все по своим местам.
Они помолчали. Борис Иванович с горечью заключил:
- А теперь, вот видишь, вроде и ты от меня начал отдаляться и не понимать. Молодость горяча, и я понимаю твои порывы. Вот говорил недавно насчет тебя с матушкой...
Александр насторожился, предчувствуя решение своей участи. Что путь грядущий ему готовит?
Да, разговор такой между его родителями произошел.
Мария была страшно разгневана и сердито выговаривала своему мужу:
- Борис Иванович, почему вы решили, что наш сын Александр будет обязательно военным? А вам не кажется, что с меня хватит двух военных Самариных? Так нет же, надо туда еще толкнуть и Сашеньку! Я добром не видела мужа и свекра, вечно воюющих, вечно на службе и в разъездах, так что - такую же судьбу предлагать Саше и моей будущей невестке, а? Будет же у меня когда-нибудь невестка, внуки? И будет ли у нас живой сын и отец наших будущих внуков?
- Не могу сказать, - тяжело вздохнул в ответ Борис Иванович, - дороги военных трудны и непредсказуемы.
- Да еще с ранних лет, да? Ну кто толкает в полк ребенка, которому только пошел шестнадцатый год?
- Я. Я толкаю. Крепче будет. И не ной, матушка. У тебя есть утешения на старость - дочери. О них и пекись. Отдавай замуж, устраивай, заботься. А попечение о сыне оставь на мне. Я себе не прощу, если из Саши вырастет слюнтяй и повеса. Да и учти, что Самарины - рода военного!
- Кто это вам такое сообщил, Борис Иванович? Аль пригрезилось? Мечты, мечты...
- Мария, не забывайся, - повысил голос Самарин.
- Я и не забываюсь, господин устроитель. Я его родила, мне его и оплакивать, когда благодаря твоей протекции его где-нибудь убьют. Понимаешь?
- Да, понимаю. Но все уже решено, рапорт вступает в силу. Саша начнет службу сейчас, в полку, куда он приписан, и там же будет произведен в офицеры. Не надо ему никаких офицерских корпусов, обучение пройдет в полку - так-то оно вернее и надежнее. Службу будет лучше знать и крепче будет.
Как была решена участь Самарина-третьего. И Александр отбыл в полк, где был на первое время определен в полковую канцелярию. Вскоре вся эта возня с бумагами, казенной перепиской, почтой и деньгами ему страшно надоела, и он попросил перевести его куда-нибудь ближе к настоящему делу. Начальник канцелярии с изумлением взглянул на юношу, прослужившего у него едва лишь полгода, но которого он уже оценил за расторопность, хватку и исполнительность, недовольно поинтересовался:
- А в чем, собственно, причина? Срок ваш идет, впереди производство в офицеры. Места у нас здесь тихие, мирные, служба спокойная. Что вам не сидится? Аль не терпится в генералы?
Александр объяснил, что хотел бы настоящей службы, командовать, действовать, обучать и самому активно учиться воинскому делу.
- Но помилуйте, Самарин, дела у вас и так идут отлично. А может вы устали сегодня? Тогда не угодно ли партию в бильярд? Размяться. Ставку поставим. И может успокоитесь, дурь из головы выйдет. А потом, после партии, и по бутылочке винца.
Самарин отрицательно качнул головой.
- Уж не думаете ли вы, Самарин, что полковая жизнь более прекрасна? Те же развлечения, карты и пороки. Уж я-то знаю, тянул лямку. Ну-ну, смотрите, не согласны - пишите рапорт, подам по команде.
И Александр Самарин вскоре после своего производства в офицеры попадает на полковую службу.
Служба ему нравилась. Он постигает ее в полковых учениях, познает палаш и саблю, неплохо стреляет. Коней обожает и, со слов сослуживцев, делает успехи в конной езде. Все бы неплохо, но не нравится ему, его юношеской пылкости, что старшие относятся к нему покровительственно, а иногда даже с насмешкой. Могут и оскорбить, вроде как ненароком, и тут же снисходительно процедить «извини, дорогой» - и таким вот ловким ходом избегнуть сатисфакции, дуэли. Насмешничали над ним, не зная, да впрочем и не интересуясь родом-племенем Саши.
Александр к тому времени вымахал стройным и сильным, пробились и зачернели усы. На силу не жаловался, не дрогнув, останавливал взбешенного коня. Ростом бог не обидел. Но вот только по лицу сразу читался его возраст и явно была видна молодость - лицо, что зеркало, отражало настроение, ум и глупость, азарт и нетерпение, страх и гнев. Ох и трудно добиться уважения своих умудренных жизнью и опытом однополчан! Так и хотелось порой Александру проучить обидчика хорошим ударом кулака, но среди офицерства такое не принято. Солдата - бей, на том и дисциплина стоит, на битье и держится, редко на сознательном отношении. Да и посудите сами - как еще сделать серого мужика верным солдатом, как только словом, делом и... кулаком. Но солдат есть солдат, офицер офицера трогать не может, не имеет права, в противном случае - скандал в благородном семействе, неизбежные дуэли, офицерские суды, гнев начальства, приговоры военной коллегии, разжалования и наказания. Вот это-то и помогало сдерживаться Александру - и ничего, помогло, возмужал юноша. Смело и безропотно отсекал насмешки, теперь уже мало испытывая робости после двухлетней службы в полку. Зауважали. Понравилась и великодушность Самарина, мало обращающего внимания на пустяки. Да еще случай раз помог - прискакал в полк по какой-то надобности офицер. Видно, важный, со свитой, сам сидит гордо, весь в орденах, взгляд орлиный. О чем-то приватно говорил с командиром полка, после чего посыльный примчался.
- Самарина! К командиру полка!
Оказывается, отец приехал к молодому. В первый раз, ибо не любил давить своим авторитетом и потакать сыну. И, как оказалось, первый и последний раз. А товарищи оценили в тот раз молчание Александра - надо же, ни разу не сболтнул, что имеет отца-подполковника, знать гордый и, значит, свой!
Тяжело слез с коня Самарин-старший.
Вытянулся перед ним, как старшим по званию, Самарин-младший.
И на глазах у многих любопытствующих офицеров подполковник взял под руку Александра и не спеша пошел с ним прочь.
- Видишь ли, Александр, еду в Санкт-Петербург. По делам. И заехал к тебе. Поговорить, посоветоваться. Кое в чем изменить свою и твою судьбу, если, конечно, не возражаешь. Хочу передать письмо для Петра Александровича Румянцева о твоем переводе. Ходатайствую от своего имени. Вот оно, читай.
Александр развернул бумагу, запрыгали отдельные строки.
«Премилостивый государь... от имени своего... имевшего честь воевать с прусской армией... под вашим руководством брать крепость Кольберг... сына моего Александра... дворянина, потомственного военного... служить под вашим руководством... в составе... остаюсь к услугам... ваш покорный слуга...»
- Что скажешь?
- Я рад такому решению. Ответ будет скоро?
- Думаю, что да. Однако вынужден тебе сказать, что матушка была очень даже против такого решения. Румянцев, говорит, сейчас недоступен, вспомнит ли, он же, мол, даже и не знаком с тобой лично. И вообще она рассердилась и сказала, что мы можем не возвращаться оба.
Александр улыбнулся, заметив смущение отца.
- Она же любит тебя.
- Пришлось ей пойти навстречу, сынок.
- В чем же? Касается меня?
- Нет, теперь меня. Я везу рапорт с просьбой о моей отставке. Несколько лет назад, в шестьдесят втором, указ вышел - «О вольности дворянства», по коему я могу покинуть военную службу и... переехать в свое имение.
- И все же я не понял причину вашей отставки, батюшка. В расцвете сил и славы?! И почему сам везешь? Зачем тратить напрасно силы, передай начальству по эстафете.
- Я ж говорю - еду по делам в столицу. А заодно и дела свои решу. Почему прошусь в отставку? Тут и мудрить не стоит - раны, старые раны, полученные от пруссаков, при штурме Кольберга и еще чуть позже. Напоминают, болят. Шалят. Так что впору на покой... твоих сестренок пристраивать, а?
И бравый полуседой офицер гулко и задорно захохотал. Но была в его смехе и горечь.
... Борис Иванович получил отставку. А сын его получил направление в действующую армию Румянцева.
- Ну, будь, сынок! - сухо перекрестил отец на дорогу, мать всплакнула, а сестренки и дворня заголосили.
- Ну-ну, - оборвал Самарин-старший, - не на смерть провожаете. На войну.
В 1768 году войска крымского хана, турецкого вассала, вторглись в южные территории России. Русские войска во главе с Румянцевым вступили в Молдавию.
Летом 1770 года у реки Ларги, недалеко от устья Дуная, встретились 80 тысяч турок и 40 тысяч русских. Ночью на реке Ларге русские навели мосты, переправились и на рассвете атаковали врага. Согласованные и стремительные действия русских заставили отступить турка.
Но отдыха впереди не предвиделось. И пыль тусклым серебром вновь покрывала коней и людей.
Впереди предстояло сражение у реки Кагул, где поручик Александр Иванович Самарин получит то, что ему отпущено судьбой...
3. Забыть...
- Кого ты мне привез? - всадник властным жестом остановил коня, тяжелым взглядом обвел группу людей, из которой шагнул вперед и преклонил пред ним колени один из них.
Грузно слез с седла, осторожно поддерживаемый, и, мерно ступая, подошел к лежащему неподвижно на земле человеку в запекшейся от крови одежде.
- И это все?
- Откуда же еще? Наши дела неважны. А его, - кивок на лежащего, - взяли в стычке перед нашим разгромом.
Важный муж, изысканно одетый, с властными манерами, брезгливо пошевелил изогнутым носком острой туфли окровавленного пленника, пренебрежительность исказила черты его благородного породистого лица.
- Стоило ли рисковать из-за такой падали! Он даже не шевелится. Мертв?
- Еще живой.
- Храбро отбивался от наших героев?
- Скорее, не успел. Сражен до того, как успел оказать какое-либо сопротивление.
- Хвала всевышнему! Не стоит оказывать воинских почестей этим неверным - они все смелы и безумны, а потому заслуживают только смерти. Так зачем ты его забрал?
- Как добычу. С благоговейным трепетом вручаю его судьбу в ваши руки. Одного вашего слова будет достаточно, чтобы голова его отлетела от тела... Решайте, мой господин!
Важный муж еще раз, но уже с любопытством взглянул на поверженного и изрек:
- Весь израненный, но живуч! Лежит как труп в окровавленном и пыльном отрепье, а на вид вроде как гордо отдыхает на своем привале! Отвези его и сдай моему лекарю - таково мое священное слово. И предупреди последнего, чтобы он поведал мне о тяжести его ран и возможной судьбе; я скоро буду у себя. Да пусть лекарь немного обработает и подлатает моего пленника. Ты понял?
... Лекарь деловито ворочал безжизненное тело и что-то терпеливо колдовал в нем, то и дело обращаясь к своему небольшому сундучку. Непосвященному трудно понять всю ценность сундучного содержимого, этакой маленькой кладези мудрости лекаря, где рядом с «Кораном» мирно уживались медицинские книги древних и современных медиков, амулеты и талисманы перемежались с весьма ценными мазями и порошками, а какие-то подозрительные плохо пахнущие снадобья и зелья соседствовали со склянками растворов; разнообразный инструмент в виде ножичков и щипчиков хранился в отдельной нише; отдельным пакетом лежали тряпки, связки трав, перевязочный материал. Лекарь очень дорожил своим сундучком, ибо все его содержимое олицетворяло смысл и назначение его, лекаря, жизни, волей Аллаха и султана определенного на службу в турецкую армию. Долгой и трудной была жизнь у лекаря, и всю жизнь учился он чему-нибудь и как-нибудь, где что увидит, услышит, запомнит, поймет, прочитает - и теперь, как сам он с гордостью говорил, может залечить раны и язвы, уподобить человека скотскому состоянию, может заставить временно забыться, а может и поставить человека на ноги или медленно и верно отравить.
- Терпи, - бормотал лекарь, с тревогой глядя на своего подопечного. А тот, широко раскрыв неподвижные мутные глаза, в которых не отражалось абсолютно ничего - ни боли, ни страха, ни ненависти, витал в мирах иных, в мирах подсознания, не выдавливая из себя ни единого стона и вздоха, будто закаменев в своем небытии.
- Неужто готов?! - лекарь припадал к груди раненого, прослушивая едва уловимый стук сердца, облегченно вздыхал и продолжал возиться дальше, извлекая из заветного сундучка поочередно инструмент, жидкости, мази, чистые тряпочки.
Долго, с непонятным изумлением - будто зрил чудо - смотрел на серо-белое лицо пленного. «Живуч, - бормотал с восторгом, - ну и живуч! Совсем как мы!» С трудом разжал ножом крепко стиснутые зубы раненого и влил ему в глотку какую-то жидкость, философски пробормотал заключение, будто подводя итог своей тяжелой неблагодарной работы: «Выживет ли вот только, вот в чем вопрос».
Грузной походкой раздраженного человека заходил к себе паша. Вид у паши, одного из многих турецких военачальников, был грозен: тюрбан на голове повелительно качался в такт уверенно топтавшим землю остроносым изогнутым туфлям. Паша грозно осмотрел двух янычаров с обнаженными ятаганами, охраняющих с собачьей бдительностью шатер своего повелителя, что-то буркнул им недовольное, пнул подвернувшегося слугу. У входа в шатер на шесте гордо развевался бунчук - знак его, паши, воинской власти. Паша долго смотрел на мотающийся хвост бунчука, угрюмо подумал: «Один, один только бунчук у меня, однобунчужный паша я. Есть же счастливчики повыше - двух- и трехбунчужные паши, визирь. А я вот вынужден прозябать в таком состоянии. Невезение? Интриги вышестоящих? Или военные неудачи? Для всех этих, что рядом и вокруг моего шатра, я - повелитель, для всех верхних - я один из многих, пешка в крупной игре».
Паша смотрел на свой бунчук, но уже будто и не видел его. Перед глазами проплывали другие картины и видения - разгром у реки Кагул, а если быть точнее, то для его солдат скорее было погромом, позорным бегством. И один лишь Аллах знает, сносить ли ему вскоре свою голову при ближайшем ответе перед старшими начальниками? Впрочем, успокаивал себя паша, не думается, что другие в лучшем положении и состоянии, чем я. «Плохо ли, хорошо, но я хоть остатки сумел вывести из-под губительных ударов этих Аллахом проклятых русских-кяфиров. Проклятый Румянцев!»
... Да, Петр Александрович Румянцев не дожидался, пока его возьмут в смертельное кольцо. Стремительно атаковал. И по частям разбил турецкую армию.
- Углов! - капитан Назаров раздраженно ходил кругами вокруг перепуганного грозным окриком своего помощника, никак не могущего понять, что же от него требует грозное начальство, и потому вконец оробевшего.
- Я говорил тебе приготовить черновик по Самарину? - Назаров в упор уставился на Углова. - Говорил? Сделал? Что-о-о?! Не знаешь, что писать? А я, значит, знаю? Там произошло такое, что сам черт не разберет.
- Но господин капитан, вы сами были свидетелем того...
- Чего? Ну и что толку? Самарина нет, ни живого, ни мертвого. Поляков ранен, будем отправлять. Кто же мне подскажет, что же писать родителям Самарина? Долг чести повелевает...
Углов протягивал ему исписанный лист.
- Что это? - встрепенулся Назаров. - Все ж написал, молодчина. А зачем же тогда мне голову морочил?
Назаров уже не говорил - орал. Немного успокоившись, взял лист, вытянул его перед собой и начал читать.
- Что? - лицо капитана побагровело. - Что ты пишешь, болван! И такое предлагаешь написать мне? Разве ж он, Самарин, погиб? Нет его, мертвого! Но нет и живого.
Назаров в бешенстве рвал редко исписанный листок, вновь кружил как загнанный зверь, садился и, обхватив голову руками, уныло и монотонно качался.
- Что же, что же написать?
Углов смотрел на него осоловелыми глазами, с грустью думал:
«Есть от чего рехнуться - половина нашего офицерского состава выбыла из строя. Самарина нет, Поляков ранен, Азаров и Шилов убиты».
... Когда Самарины получили «известие» о своем Сашеньке, трудно было передать состояние Марии. Горящим безумным взглядом она смотрела на источник ее беды, на того, кто послал ее Сашеньку в котел огня и смерти. Борис Иванович виновато опустил голову. И надо думать, что горе надолго поселится в той маленькой уютной усадьбе, которой так не будет хватать молодого хозяина. Разве что время, которое, говорят, является лучшим лекарем, излечит неизлечимое горе Самариных. Пусть надеются, трудно без надежды. Но на что надеяться-то?
Увял Борис Иванович, сразу как-то сдал, потерял интерес к жизни. И если его подруга жизни еще как-то боролась - управляла хозяйством, растила дочерей, в общем, дел у ней невпроворот, то Борис Иванович целыми днями бесцельно бродил по дому, пил горькую, изредка читал, часто запирался в кабинете...
Паша выжидающе смотрел на лекаря, ожидая пояснений.
- Так для чего ты, мой колдун, просил для неверного несколько дней отсрочки?
Лекарь склонился в глубоком поклоне.
- О, многоуважаемый, обижаете! Я не колдун, я - лекарь, и мои действия основаны на знаниях, обретенных мною в своей многострадальной жизни. Основаны именно на знаниях, а не на догадках и неточных поисках.
- Так рассказывай, не томи душу. Знаю, что ты у меня чудотворец, недаром пытались сманить. Плохо тебе у меня?
- Я доволен, господин. Все эти дни я провел с пленником и смею сказать, что он будет жить. Организм у этого кяфира железный - неверный выживет. Не изволите ли взглянуть на него? Я не знаю, для чего он вам потребовался, - продать в рабство, взяв за него большой выкуп? Сделать слугой? А может, сделать воином Аллаха? - но я приложил для того все свое старание.
- Я и сам пока не знаю, зачем мы возимся с полудохлым кяфиром.
Паша поднялся и пошел вслед за лекарем.
Он стоял и смотрел на вытянувшегося на низкой жесткой подстилке человека и смутное беспокойство закрадывалось в сознание. Зачем он возится с ним, что извлечет из этого, какую выгоду? Пока довезешь, да если еще и довезешь до рынка в такое беспокойное время... расходы не оправдаются. Не денежен такой шаг. Паша считал себя умным и рассудительным, деньги в кошельке не только ценил, но и умел считать. Тогда сделать рабом, слугой? И ожидать в любой момент любой выходки от такого слуги, так, что ли? Вплоть до коварного удара ножом. Паша поежился, зримо представляя ночную тьму и неверного слугу, бесшумно крадущегося к нему на четвереньках и с ножом в зубах, со звериным оскалом и страшным блеском глаз. Нет, нет, брать кяфиров в слуги - самоубийство. У паши и так хватает врагов, в любой момент он сам может ожидать прихода верноподданных визиря, которые перережут ему глотку... бр-р-р.
«Обратить в свою веру, сделать не слугой, а верным псом? Но как? Как заставить этого фанатика забыть язык, родину, то, что они называют служебным долгом и патриотизмом?»
Его пленник, одетый в турецкую одежду, лежал неподвижно.
- А где его одежда? - спросил паша.
- Сжег. На всякий случай. Пусть он очнется турком, в турецкой одежде. Почему я так сделал - сейчас расскажу.
- Он понимает нас?
- Он, наверное, не знает вообще или знает плохо наш язык. Да и почти все время без сознания, в бреду.
- Что-то говорит?
- Он не может говорить.
- Немой?
- Временная потеря речи. Вы чувствуете, многоуважаемый, какой для нас это выигрыш.
- Что в тебе, лекарь, я превыше всего и ценю. У меня много было лекарей... Но только лекарей, умных и проницательных среди них не было. Хотя, - паша странно взглянул на лекаря, - проницательность подчиненного порой опасна для его хозяина.
Лекарь в ответ смиренно опустил голову.
Паша задумчиво, будто выискивая окончательный ответ, смотрел на пленника, протянул ногу. Хотел пошевелить, толкнуть, тронуть. Но нога застыла в воздухе - немой открыл глаза и смотрел ясным взглядом на пашу, смотрел в упор, пристально. Паша не выносил таких вот взглядов - смельчакам впоследствии бы не поздоровилось. Но сейчас его как будто заворожило, зеленоватые глаза с желтоватыми звездочками (или так показалось паше?) немого пленника притягивали, гипнотизировали, подавляли волю, парализовали.
Паша с усилием отвел глаза, с натугой шевельнулась мысль, что немой хоть и неподвижен, но все же не помешает к нему приставить верного янычара.
- Говори, лекарь, - приказал паша, когда они удалились от постели немого.
- Он молод, силен, вынослив. Будущий загар сделает лицо и тело смуглым. Знание или хотя бы понимание турецкого языка дополнит переделку. Привить нравы, привычки и повадки турецкого солдата. Все это в совокупности да еще природный темный цвет волос даст нам верного солдата.
- Не боишься доиграться? - паша не сводил взгляда с лекаря, который будто читал его мысли.
- Боюсь, мой господин. Но такого еще не было в моей практике. Мои годы на закате, и что же еще мне усладит жизнь, как не такой великий опыт!
- И потеря головы... Твоей голове нет цены, моя же - бесценна, и я дорожу ей, она у меня одна.
- На нас играют обстоятельства. У него две тяжелые раны. И как он выжил - уму непостижимо. За одно только это он достоин уважения.
- И кто ж так бестолково стрелял? Дважды - и безрезультатно. Ты не подскажешь?
Но лекарь, захваченный «опытом», продолжал упорно гнуть свое.
- Грудь пробита навылет... Рана затягивается, но шевелиться ему нельзя и нежелательно.
- Дальше? - паша слушал заинтересованно.
- Рана на голове глубокая. Его счастье, что по касательной. Несчастного страшно корчило. Я обрил ему голову, пытался обработать рану. Страшно было прикасаться к ней, она пульсировала... Я дал ему зелья, и он приутих. В рану я лезть побоялся...
- Не знаешь устройства головы? Не знаешь, где находятся ум и дурость? - насмешливо вставил паша.
- Ранения головы всегда плохо кончаются для человека. Наша наука еще точно не знает ее содержимое и как лечить раны головы - это непредсказуемо. Так вот, я давал ему зелье постоянно, чтобы снять боли, затупить сознание. Это ли не шаг к тому, чтобы он стал нашим?! Память частично нарушена, а рана в грудь сделала его немым.
- Он постоянно будет немым?
- У меня нет уверенности, но думаю, образуется. И слишком большой была потеря крови. Но уже лучше, а дальше - поправится, зарастет. Речь должна восстановиться.
- Немой, немой. Назовем его Немым. Лечи дальше. Попробуем, лекарь? - и взгляды Ахмет-паши и его лекаря заговорщицки скрестились, в глазах блеснули адские огоньки. Так была решена участь Немого. Ему предстояло забыть... Не забыться, нет - забыть!
Шли дни, складывались из них череды недели. Гремели пушки и рубились турки с русскими, выясняя, на чьей стороне преимущество. И те и другие искали в битвах удачу, победы. И катилась, испепеляя землю, по селам и Черному морю упорно продолжающаяся русско-турецкая война. Военная судьба носила по полям сражения и Ахмет-пашу вместе с его соратниками и верноподданными, даря иногда время передышки и отдых в глубине от театра военных действий.
После одного из переходов Ахмет-паша встал лагерем. Закипели привычные работы, ставили шатры, устраивались на долгожданный отдых. Среди всех суетившихся, бегающих и работающих выделялись люди, поведение которых резко отличалось от массы остальных. Так, к примеру, начальника охраны паши взирал на суету равнодушно и неподвижно, лишь глаза у него порой подозрительно вспыхивали, когда кто-либо оказывался в зоне его внимания. Несколько телохранителей, сидевших в стороне, внимательно наблюдали вокруг, готовые вступить в дело по сигналу своего начальника, по мановению паши, в каждый подозрительный момент. Ахмет-паша, ведущий любые беседы и разговоры со своими людьми и подчиненными, не терпел присутствия посторонних, пусть это была даже его собственная охрана. Сейчас, сидя на мягких подушках в ожидании окончания установки шатра, Ахмет-паша мало интересовался вокруг происходящим, полностью положась на исполнительность своих солдат и офицеров и на верность своей стражи. Ахмет-паша желал сейчас осчастливить беседой сидящую перед ним тройку - лекаря, толмача, янычара.
Говорил только паша. Остальные молча слушали, склонив головы.
- Вы отвечаете за жизнь и успехи Немого. Отвечаете все трое, своими головами. Сразу всеми тремя головами. То есть за глупость одного будете отвечать все. Среди вашей троицы разве что своим значением выделяется лекарь, а ты, толмач - мелочь. О янычаре и говорить нечего. Сказанное мною вступает в силу. Единственную скидку представляю лекарю, назначая его старшим и давая ему право решать ваши судьбы своими докладами мне лично.
- Что каждому из вас делать - знаете, - паша уловил согласные кивки-полупоклоны и продолжал свои наставления, давно известные всем троим и уже осуществляемые. - Состояние здоровья, наблюдение за восстановлением речи и состоянием головы осуществляет лекарь. За толмачом - научить Немого словам, а после и обучить хотя бы первоначально турецкому языку, при этом применяя только наш язык, рассказывая и прививая наши нравы и обычаи, наши традиции. Да, совместно с лекарем тебе, толмач, внушить Немому мою доброту и напомнить ему его турецкое происхождение. Повторяю - напомнить Немому его турецкое происхождение и ободрить моим снисхождением его многострадальную судьбу! Лекарю и дальше работать с обликом и внешностью Немого. Янычар отвечает за боевую подготовку нашего подопечного - обучение владению нашим оружием, конной езде, понятие законов и правил. И если не хотите лишиться языков, то не страдайте для всех других окружающих многословностью на эту тему.
Все трое поднялись, отвесили поклоны и удалились прочь, поближе к объекту своей дальнейшей работы и участи, за который, того и гляди, при любой оплошности запросто можно было не сносить головы.
Лекарь подошел к Немому. Это прозвище так и закрепилось за пленником, разве что теперь его стали звать чуть иначе - Немой Турок. Немого турка сейчас было трудно узнать, так он сильно преобразился.
«Немой, немой! - думал лекарь, глядя на того, кто принес ему новые страдания и унижения, новые радости и бессонные ночи. - Тебя уже и назвать-то сейчас так нельзя. Немой - значит молчит. А он уже и не молчит. Паша его начал называть Немым Турком - скорее по привычке, что вот, мол, был человек недавно немым, а теперь ко всему - турок. А кто же он, Немой, для меня? Хоть и немой, но мой... паша накрепко привязал мою судьбу к его судьбе, но все же - хоть и мой, но все же не мой... Не-Мой! Вот тебе и Не-Мой, просто, доступно, понятно... и страшно, а, немой?»
В начале - несколько месяцев плена-лечения, потом - дальнейшее отуречивание. В начале - страшный звон в голове, провалы сознания и темнота существования, созвучная невозможности вспомнить себя и свое «я» словом и разговором. Кто я? Ему говорили, учили, втолковывали, что ты - тяжелораненый турецкий солдат, проявивший храбрость, за что и благоволит к тебе несравненный Ахмет-паша, не оставляя тебя сирым и нищим. Они потом виделись - покровитель и его подопечный. Ахмет-паша что-то спросил, получил в ответ короткий и вразумительный ответ, понял, что Немой - уже не немой, начал говорить и постиг азы турецкого языка, что до совершенства в этом вопросе еще далеко, но да оно и не так необходимо. Паша радостно захохотал, чем привел в изумление лекаря и поверг в трепет толмача и янычара.
- Я вспомнил покорителя мира Александра Македонского! Чем наш, чем мой турок хуже Македонского?! Он тоже будет покорять, только дикую Европу, неся ей свет и культуру Востока и Великой Турецкой империи. Тихо и незаметно посвятить новоявленного Искандера в исламскую веру!
- Будет исполнено, мой господин! - откликнулся лекарь.
Ахмет-паша топнул ногой.
- И немедленно! Не откладывая.
- Воля господина - закон!
... Ему спокойно и буднично сказали, что он - Искандер (да, да, так его звали и зовут), наконец-то пришел в себя, опасности позади и раны затягиваются, и теперь ему, солдату ислама, напоминают о его долге перед верой и Турцией.
Все было сделано без шумихи, на высоком профессиональном уровне, без суеты и помпезности, но толково и обстоятельно. С тем и для того, чтобы любой вид подозрительности отсутствовал как со стороны Искандера, так со стороны мимо проходящих и видевших это посвящение янычар. Видели? Видели! Знают про янычара Искандера? Знают. Большего пока и не надо, ибо в любой игре свои правила и запретные черты.
Что ж, лекарю и его искусству можно было позавидовать! Да, святой троице есть чем гордиться. Теперь трудно разгадать в Искандере его сущность, кто он и что он! Изменился сильно. Взгляните сами.
Смуглая кожа, продубленная солнцем и ветром. Гордое и благородное лицо, явно выражающее принадлежность хозяина к нации, которой многое позволяется в завоеванных землях. На голове белоснежная чалма, одет в шаровары и халат. Сидит, скрестив по обычаю ноги в остроносых изогнутых туфлях. Взгляд холодный, неподвижный. Если заглянуть под чалму, увидим обритую голову со шрамом. Борода и усы изящно подстрижены, окрашены хной и поэтому красновато-бурого цвета. От всего облика веет уверенностью, ни грана растерянности и уныния. Конечно, что унывать любимцу Ахмет-паши, ведь не каждый удостаивается честью быть обласканным им. Многие знают, что Искандер состоят в личном отряде паши, а что этот отряд занимается карательными и наказательными действиями против своих же, известно каждому - к примеру, кто не выполнил приказ, побежал в бою, провинился... Мало ли неожиданностей ждет турецкого солдата, особенно в стычках и сражениях против кяфиров - если дрогнет и начнет катиться назад пешая и конная турецкая лавина вместо того, чтобы кричать победоносное наступательное «Ал-ла!», вот тогда в дело вступает личный отряд паши, заворачивая стадо отступающих. Им разрешается стегать, бить плашмя и рубить ятаганами трусов. Искандер, однако, хоть и числился в отряде, но еще участия не принимал - говорят, что пока слаб здоровьем и куц языком.
Как тяжело с ним было толмачу! Все равно что с малым ребенком, который не знает, что от него хотят. Толмач поочередно тыкал в людей, предметы и неустанно повторял и повторял. Вначале беспрестранное: «Турок, турок! Турок! Турок!»
Знал ли Искандер раньше язык турецкий? Или хотя бы слова? Толмач так и не смог понять это при всей его проницательности, хитрости и изворотливости. А уж он-то, видавший виды и бескрайние просторы Азии в своих скитаниях, разбирался в людях. Видел и был в Африке, в отдаленных уголках Турецкой империи, толмачом ходил с посольствами. Но как найти язык с немым, как понять его душу? Толмач кипел от бессилия, с завистью смотрел на янычара, успешно обучающего Искандера. Махать ятаганом, саблей, скакать, стрелять, стоять в боевой стойке - чего уж проще, ведь это все наглядно, достаточно жестов и показа - и дело будет. Но как научить неученого, как достичь трудно постижимое?
Как-то турецкая конница шла в атаку с визгом и кличем «Ал-ла!» - толмач заметил, как в пустых глазах Искандера, где-то далеко-далеко в глубине их, зажегся любопытный огонек. «Что-то вспомнил? Что вспомнил? Или что напомнило?» - толмач мгновенно наклонился и заглянул в глаза Немого. Но огонек, не разгоревшись, потух. Толмач схватил коран и поспешно стал его читать, заставляя Немого повторять за собой слова. Обоих в ту минуту мучило: «Что напомнило «Ал-ла»? Где и когда? Что же было? Было ли?»
Отчаялся окончательно толмач. Впал в сомнения и неуверенность. Поделился своими неудачами с лекарем. А лекарь доложил Ахмет-паше.
Паша рассвирепел.
- В зиндан толмача! В зиндан и Немого Турка! Там и пусть один учит, а второй учится.
Лекарь дал время остыть своему господину, потом мудро и глубокомысленно заметил, что решение его, повелителя, правильно, но вся беда в том, что нет в этой местности зиндана, даже какого-нибудь завалящего, что местные жители не знают таких благ воспитания и такой меры наказания, как зиндан, что можно, конечно, отрыть зиндан, но постоянно наседающие русские не дадут осуществить такого благого намерения.
- С вашего разрешения, мой господин, я доведу вашу речь до глупых ушей толмача и предупрежу о строгом исполнении возложенных на него обязанностей. Думаю, воодушевленный вашим наказом толмач еще более активно возьмется за обучение.
Ахмет-паша отреченно махнул рукой, явно показывая, что ему сейчас не до забот «святой троицы». Прием был закончен.
А лекарь, возвратившись от Ахмет-паши, поведал толмачу следующее. Немой находился тут же.
- Не помню, где я видел, то ли в Крыму или где в Средней Азии, но да это не так важно. Ты знаешь, что такое зиндан? Правильно, правильно, это глубокая-глубокая яма с узким лазом, сверху обычно перекрыта решеткой или еще чем-то в этом духе. На дне сидят несчастные, скудную пищу им бросают сверху или опускают на веревке. Им, узникам, холодно, голодно, тесно, солнечный свет не доходит до дна глубокого колодца. Да, им не позавидуешь. К чему я это говорю? Ахмет-паша порешил заточить тебя, о несчастный, в зиндан, если ты не сумеешь разговорить Немого. Он слышит? Слышит. Понимает наш разговор? Думаешь, что нет? А хоть частично? Тогда еще раз рассказываю, сопровождая жестами, мимикой и прочим...
Толмач слушал и мертвел лицом. Немой обеспокоенно переводил глаза с одного на другого.
Лекарь неторопливо и хладнокровно повторил свой рассказ, будто ставя на место зарвавшегося в небеса толмача, ибо не собирался он расставаться со своим Немым, будущим Искандером. Уже позже, когда Немой начнет говорить, станет Искандером и будет немного понимать по-турецки, лекарь расскажет ему один случай из своей жизни.
- Видел я, как однажды рыли новый зиндан. Один из тех несчастных, который был занят на погрузке земли внизу, вдруг плохо себя почувствовал. Надсмотрщик прикрикнул, чтобы тот пошевелился, если не хочет быть наказанным за свои прегрешения. Однако слабый и больной узник так себя плохо чувствовал, что не внял ни словам сверху, ни своему разуму. Кстати, рыли зинданы его будущие узники, и из них кое-кто уже успел посидеть в сырых подземельях. На беду рядом топтался сам хозяин, местный хан. Решение его было просто и мудро... видя, что несчастный не желает работать, он приказал засыпать его сверху. Никто не тронулся, тогда он злобно прошипел: «Туда же захотели?» И все забегали, подгоняемые пинками и ударами, старался и надсмотрщик. А хан веселился, видя безуспешные попытки заживо погребаемого человека.
- Что же дальше? - осторожно спросил Искандер.
- На следующее утро зиндан продолжили рыть, - коротко прозвучало ему в ответ.
Отношение к Искандеру со стороны «святой троицы», бдительно и самоотверженно выполняющей возложенную на них Ахмет-пашой миссию, было разным и далеко не одинаковым. Если лекарь относился к Искандеру с чувство чего-то вроде уважения, смешанного с доброжелательностью, то толмач в отношении Искандера стоял на позиции подозрительности и недоверия, и эту неприязнь подогревало и пресловутое «чуть что не так - не сносить головы». Толмач таился от лекаря, таился от Искандера, боялся ловушек и интриг, чувствовал себя как загнанный, затравленный зверь. Но зато янычар, человек чисто воинского склада, для которого в жизни существовали только приказы, сражения, который уважал только силу и ловкость, да еще умение отлично владеть оружием, был от Искандера в восторге.
- Прекрасно! Хорошо! Да ты, Искандер, прирожденный наездник, - восторгался янычар. - И кто бы мог подумать, что ты так быстро освоишься.
Искандер не отвечал, только снисходительно хмыкал. А толмач, не оставляющий без своего едкого внимания любого шага Искандера, ни единого успеха, замечал:
- С таким учителем, как ты, янычар, из любого пешего можно сделать искусного всадника и рубаку. Искандер, а может, ты уже сталкивался с конной ездой?
Янычар цвел от похвал, не давал новоиспеченному джигиту вступать в пререкания и разговоры, вновь и вновь гнал Искандера преодолевать препятствия, рубить... А бывало схватятся конными, показывая ловкость и отчаянность, многие засматривались. Мог, одним словом, гордиться старый янычар успехами своего молодого ученика.
Каждый из этой тройки - лекарь, толмач и янычар - пытались вложить свой опыт, душу, исполнительность и фанатизм в Искандера. И делали они свое дело старательно, такова уж судьба и доля любого солдата в мире! Говорят, что время лучший лекарь. Возможно, что и так, только вот вопрос, что оно, время, лечит - физическую или душевную боль и рану, или же все сразу? Видели Искандера несколько раз вдали от лагеря, но бдительные стражи заворачивали его обратно. Что он, Искандер, хотел, о чем мечтал? Стремился к одиночеству, пытаясь вспомнить что хорошее из своей жизни, пытался ли понять свое «я»? Время залечило раны Искандера, оставив на память шрам на голове и вновь подарив радость речи. А что в душе? Вот тут-то и было над чем призадуматься лекарю. Хотя, впрочем, его ли это забота? Но привык лекарь к Искандеру, прикипел к нему, и не могла его не беспокоить странная молчаливость и беспристрастность Искандера. Как так, почему не трогают земные радости и бедствия струны в душе Искандера, почему он холоден и недоступен? Лекарь продолжал искать ответа в многочисленных беседах с Искандером, пытаясь понять, стал ли надежен турок Искандер, что знает последний сейчас и не мучают ли его приступы глупой памяти. О, Аллах, освяти наши души грешные, лиши сомнения!
Мучился сомнениями и толмач. Ну и что, что Искандер заговорил и говорит по-турецки?! А что внутри, что скрывает Искандер под холодной маской послушания? Да, он исполнителен, но не более. Толмач часто видел, как Искандер берет Коран, берет изящно и небрежно, без благолепия и внутренней богобоязни, листает его, но будто изучает Коран как книгу, а не как святое слово пророка, и читает его скорее из любопытства, чем от потребности очистить свою душу. И толмача мучили сомнения - так ли уж чист Искандер? Толмач не знал всю подноготную Искандера, его особо не посвящали в эту странную историю, а поэтому и думы у толмача работали только в одном направлении - как встряхнуть Искандера и направить его на путь истинный. «Хотя, - думал толмач, - не все-то здесь чисто...»
Глядя на Искандера, содрогался иной раз и старый янычар. «Зачем и чему я обучаю Искандера? Ведь он и так прирожденный солдат. А мне твердят, что я обучать и обучить его должен... Может, для важного дела готовят? Да простит Аллах мои сомнения! Я здесь ни при чем».
Но никто из них троих ни разу не проявлял вслух своих сомнений, разве что иногда прорвется реплика или что-то типа двусмысленной насмешки. Да будет сие покрыто мраком! И пусть за них решает Ахмет-паша, ему виднее, у него голова большая и светлая...
Пришло и время, когда Искандер стал принимать участие в действиях особого отряда Ахмет-паши. Как и другие, он заворачивал трусов и паникеров обратно, туда, где кипели схватки турок с наседающими русскими. Вперед Искандер никогда не лез. «Наверное, боится, как все подобного рода вояки», - думали про него рядовые турки, в то же время панически боясь больше всего именно Искандера за его жестокость и беспощадность, ибо он один из немногих мог позволить себе рубить насмерть бежавших с поля боя турок. Старый янычар не раз был свидетелем таких эпизодов, с горечью восклицая: «Разве нельзя полегче? К чему сразу насмерть? Ведь придет в себя трус, опомнится и принесет еще пользу в ратном деле... а его сразу рубят, без прощения и снисхождения. Неужто это я такого зверя породил?»
Искандер не лез вперед. Отсиживался сзади, явно дорожа своей головой, да и впереди его обычно всегда хватала плотного строя турок. И все же он однажды поразил толмача, старого янычара да и многих других - тонкая цепочка турецкой пехоты во время одного из натисков русских дрогнула и разорвалась, и тогда вперед вырвался Искандер, грозно размахивая ятаганом...
Ахмет-паша, заметив смелый порыв своего любимчика, привстал в изумлении на стременах и завизжал от восторга. Да и как тут не впасть в умиление, если того и гляди русские насядут рассерженным медведем и так сдавят, аж кости затрещат... В такой исторический момент всегда герой необходим, который и должен спасти положение.
Турки отходили, а вперед с горсткой смельчаков выходил Искандер. Вот его конь, дико хрипя и роняя клочья пены, со всего размаха вклинился в группу русских кавалеристов.
Старый янычар вздрогнул от предчувствия беды. Прочь сомнения, надо выручать бесстрашного Искандера! Янычар всадил шпоры в коня и закричал: «Бей кяфиров! За мной!»
Искандер оказался один в полудуге русских кавалеристов. Рубился он ловко и стремительно, конь, послушный его воле, ворочался и топтался на узком пятачке. Вот Искандер несколькими сильными ударами отбил направленные на него сабли, искусным ударом выбил пистолет у одного из русских и напористо послал еще глубже и ближе к русским позициям. В этот момент турецкая цепь остановилась в своем бегстве, а русская пехота стала отходить. Как на ладони в центре боя стала видна группа конников, в центре которой Искандер виртуозно отбивался ятаганом. На помощь Искандеру летели турецкие кавалеристы.
Группа русских, оценив обстановку, повернула назад и неторопливо стала уходить прочь. Потерь среди них не было. А к Искандеру, раненому в последнюю секунду схватки, подскакали турки.
- Что с тобой? - закричал старый янычар, видя как Искандер зажимает левое плечо правой рукой с намертво зажатым в побелевших пальцах ятаганом.
- А, так. Ерунда. Чуть зацепили, - Искандер смотрел странным взглядом куда-то в сторону.
Старый янычар увидел, что Искандер провожает глазами уходящих прочь русских кавалеристов и что в глазах его стоит плохо скрываемая горечь. Старый вояка в тот раз, еще не остыв от азарта схватки, подумал, что Искандер жалеет о скором отступлении русских. Но да простится янычару его мысль! И в тот момент Искандер свалился с коня и ударился головой.
Ахмет-паша после этой скоропалительной стычки поспешил оторваться от погони и уйти подальше от беды. «Наверх» послал гонца с донесением о своих храбрых действиях, где не забыл упомянуть и об Искандере. От визиря пришла благодарность и повеление о производстве Искандера в офицеры. А Искандер с непроницаемым лицом сидел теперь - ранен ведь, да и контужен, лечится - долго и часто в окружении «святой троицы», в окружении славы и почета, страха и ненависти... его мало кто понимал, друзей не водилось, и сам он еще более замкнулся. Лишь при появлении Ахмет-паши, который не оставлял его без внимания, лицо Искандера как-то странно оживлялось, будто перекашивалось.
В строй Искандер возвращаться не спешил - ранен он был легко, но контузия головы явно была не в его пользу. Частым собеседником Искандера стал лекарь, который рассказывал много интересного из своей жизни и странствий.
Вставали в воспоминаниях, из мглы небытия, из пыли прошедших десятилетий люди и города... Плыл караван в пустыне, ведомый отчаянным караван баши. Много караванов провел на своем веку караван баши, а этот окажется для него последним. Один за другим возносятся на гребни барханов навьюченные верблюды, а сквозь марево раскаленного воздуха их уже подкарауливают впереди те, что промышляют разбоем и грабежами. И вот когда медленно начнет остывать знойный песок, на караван обрушится их засада. Перестреляют упорных, повяжут упрямых, а остальные под присмотром погонят караван совсем в другом направлении. Караван баши продадут на базаре кому-нибудь толстобрюхому, а ему, лекарю, чуть повезет. На то он и лекарь. Он увидит «сильных мира сего», города, минареты, услышит как скликают верующих на молитвы муэдзины, совершит намаз во многих мечетях Востока, пока наконец не вернется на родину.
Много вспомнит и поведает лекарь. И найдет в Искандере благодарного слушателя, молчаливого и редко перебивающего, будто мотающего истину на свои огромные буро-темные усы.
- Морщишься, Искандер. Болит?
- Голова. Сильные боли, звон и круги перед глазами. То проходит, то вновь возвращается.
- Не пожелал бы я такой контузии... Старой раной на голове получить сильный удар при падении. Я хоть рад тому, что исход для тебя не так печален. Могло быть еще хуже. Ты не испытываешь, Искандер, - лекарь смотрел вопросительно-испытующе, - кроме боли ни каких ощущений? Ну там кошмаров, воспоминаний каких?
Искандер прямо взглянул в глаза лекарю, чуть помедлил с ответом. Ответил равнодушно, отрицая и отметая все правые и кривые волнения лекаря. Разговор застопорился. Пытаясь спасти положение и заметив, что Искандер уже смотрит на черноволосую, стройную и молодую невольницу, идущую мимо них, лекарь весело рассмеялся.
- Скучаешь по женскому обществу? Все правильно - молодость, она дает о себе знать. Нравится тебе эта невольница? Одно твое слово - и Ахмет-паша по моей просьбе отдаст ее тебе. Говори.
Девушка полоснула по Искандеру горячим взором, словно давая свое согласие, проплыла дальше. Уже не первый раз вот так обменивались молодые пылкими и жадными взорами.
Она уходила, качая бедрами, а Искандер тускнел глазами.
- А любит ли она меня, чтобы вот так, по твоему приказу, прийти ко мне?
- Не то говоришь, Искандер. У нас так: боится - значит, уважает, не боится - значит, не любит. При чем здесь любовь? А у вас как?
- У ва-а-а-ас? У кого это - у ва-а-ас? Лично у нас - никак...
... Сомнения у одних, контузия у другого. У каждого свои заботы.
В один из дней 1773 года, незадолго до которого долго выздоравливающий от контузии Искандер доложил, что готов к новым схваткам, русский драгунский полк сел на «хвост» Ахмет-паше. Настойчиво и решительно драгуны наседали и трепали одиночек и группы турецких солдат. Пока наконец дело не дошло до решительной атаки обозленных турок с русскими. Сражение началось столкновением массы кавалерии с обеих сторон и фронтальным наступлением турецкой пехоты. Но вскоре под ударами драгун пехота турок начала отходить, а кое-где даже побежала. Бой рассыпался на отдельные схватки и столкновения. Общую картину трудно было представить из-за такой сильной разрозненности как Ахмет-паше, так и командиру русских драгун. Звон стали, крики и вопли, выстрелы и пороховой дым покрыли место сражения.
Когда особый отряд Ахмет-паши, получив приказ не только заворачивать бегущих, но и самим принять участие, вступил в дело, толмач и здесь не оставил Искандера без присмотра, мчась чуть ли не рядом со своим подопечным. Уж слишком крепко въелась служба в толмача, чтобы он напрочь забыл свои обязанности даже в этой кровавой кутерьме. Но смертельная карусель так закружила вскоре толмача, закрутила и отбросила прочь от Искандера, что он на время потерял последнего из виду. Однако старый янычар, неизменный в своей преданности Искандеру, бдительно охранял своего молодого ученика. Толмач попридержал коня, здраво рассудив, что махать ятаганом вообще-то не его дело, вовремя вспомнил, что он все-таки толмач и поэтому его живая голова больше принесет пользы при допросе русских, которые несомненно и в большом количестве попадут в плен грозному Ахмет-паше. И толмач отъехал назад, нашел укромное место, где его трудно было заметить, но зато он неплохо просматривал местность и схватившихся впереди кавалеристов.
Толмач смотрел внимательно. И вскоре похолодел от ужаса. Он видел, как Искандер, превосходно владеющий ятаганом, вместо того, чтобы сразиться с тремя русскими кавалеристами, окружаемыми самим Искандером, старым янычаром и еще двумя мамлюками, сразил наповал двух последних и занес оружие над сражающимся с русским офицером старым янычаром. Страх охватил толмача, и он зажмурил на какое-то время глаза. А когда открыл их, то увидел зарубленного старого янычара на уносящем тело несчастного коне, увидел, как ткнули саблей коня Искандера. Потом конь под Искандером начал оседать, а трое русских кавалеристов скакали прочь от места схватки.
«Что это? Измена? Чья? Иль нелепость?»
«Но кто узнает, что я видел? Мне дорога моя голова... И мой язык - не враг мой. Пока умолчу».
Что же натворил Искандер? Решительное лицо русского офицера мгновенно попало в поле его зрения. Лицо, знакомое до боли, одно из лиц, порой приходящих во сне за эти долгие годы. И Искандер решительно дважды опустил свой ятаган на головы скакавших по обе его стороны мамлюков. Удары были точны и смертельны и вызвали сразу странное замешательство как у русских, так и у турок. Старый янычар недоуменно оглянулся на Искандера, но времени на размышление не было и он схватился с русским офицером, ловко ушел от его удара и уже занес ятаган для ответного решительного удара. И услышал непонятный крик сзади, краем глаза уловил дикий взгляд Искандера и вспыхнувшую сталь над своей головой... казалось, ничто не могло остановить страшный удар старого турецкого рубаки по русскому офицеру - но смерть все же опередила янычара.
Поздно ночью, когда Ахмет-паша удирал не чуя ног с остатками своего воинства, капитан Углов, бледный и заикающийся, нашел Назарова.
- Помнишь, несколько месяцев назад отец Самарина, Борис Иванович, запрашивал нас, не прояснилось ли что в отношении его сына?
- Помнишь, помнишь! - вскипел Назаров. - Все я помню, только не знаю, что отвечать.
- Да, вы правы. Какие люди гибнут. Сегодня погиб поручик Сотников. Какие люди уходят! Мало нас осталось, офицеров первого набора, тех, кто с начала этой кампании, теперь все новые и молодые... Грех на них жаловаться, но не грех и вспомнить «стариков». Вот мы с тобой остались в живых, так? Бог миловал.
- Так. Да Воронов еще. Почитай и все. Поляков хоть и живой, сразу после ранения и выздоровления ушел в отставку, нет его с нами. Вот.
- А Самарин?
- Что Самарин? Столько лет... Погоди, погоди, ты что-то знаешь?
- Не могу точно утверждать, но... Случай со мной сегодня странноватый произошел. Нас трое - я и двое драгун, навстречу четыре турка, тоже конных. Вроде как спаги - турецкие кавалеристы. Сходимся. Как глянул я на переднего из турок, душа перевернулась - обличьем турок, а если внимательно приглядеться, то... Самарин Александр, наш пропавший у Кагула поручик.
- Столько лет?! Показалось? Хотя вряд ли турок может походить на Самарина.
- Показалось ли? Гляжу и он смотрит на меня, не каким-то там звериным взглядом, нет, потом раз-два взмахнул и два турка готовы. Опешили мы. Тут наскочил на меня еще один из ихних, а меня дрожь пробрала. Ну и просчитался я...
- В чем ты просчитался? Не тяни.
- В маневре. И не быть бы живым капитану Углову, кабы не тот «турок». Как заорал он! На русском языке. Ошарашил моего убивца, наскочил и завалил.
- А потом?
- Вот только потом я и пришел в себя. Рубить - можно было, да не поднялась рука. Ткнул я сгоряча его коня саблей и завернул своих драгун. Благо, что целая группа турков показалась.
Назаров безумными глазами смотрел на Углова. И молчал.
Углов молча повернулся и начал удаляться шаркающей походкой смертельно уставшего человека.
Шел мимо костров, коней, драгун. Прошел было мимо, но приостановился у группы веселых молодых офицеров, где один из них, юный и безусый, но подающий надежды, пел на гитаре то, что трогало и трогает душу любого русского офицера, будь он только начинающим службу или уже познавшим тяготы полковником...
Кто вы, офицеры российские,
Как нам про вас рассказать?
Я знаю, что вы не мифические,
Но какими вас тогда показать?
Вам скажут, поручик - ведите в атаку,
Смелым маневром берите в штыки!
Кто ж, как не вы, затеваете драку,
Когда над головой засверкают клинки.
Давно отметались картежные банки.
Уже отзвенел хрусталя перезвон.
Сейчас вам даны долгожданные ставки -
Проявляйте, поручик, воинственный тон.
Простите, поручик, долги неимущим,
Забудьте обиды и зла не таите
Всем им, на смерть по долгу идущим,
Иль счастья и жизни для них не хотите?!
Назад оглянуться - зачем и куда?
А что впереди? - не ведая зря,
Скажем лишь: стремись ты туда,
Где будешь полковником... иль съест тебя тля!
Кто вы, офицеры российские,
Как нам про вас рассказать?
Я знаю, что вы не мифические,
Но какими вас тогда показать?
4. Гонец турецкого паши.
Ахмет-паша думал. Думал думу горькую. Плох тот солдат и генерал, который думает, что противник глуп и бессилен. Если враг твой слаб силой и умом, это еще не говорит о том, что и ты должен быть нищ духом. Противника необходимо уважать, то есть ценить без приукрас и шапкозакидательства... Вот с этой позиции и надо бить его, используя свои преимущества.
События русско-турецкой войны показали турецким военачальникам, что уповать на одно только преимущество в численности - значит сильно ошибаться, тем более если имеешь такого напористого и умного противника, как русских. Да, русские генералы доказали, что надо бить не числом, а уменьем. Уменьем, то есть умом - думать надо, думать, как ошарашить врага, обмануть хитростью воинской, блеснуть воинской выучкой, уверенностью солдат и офицеров в их ратных делах... Вот как поступают русские. «Нам же, - горько думал Ахмет-паша, - трудно противостоять их организованной воле и бесстрашию, их железному напору. Храбры мои солдаты, но почему-то бегут... Смело идут на кяфиров, а довести дело до победного конца не могут... Неудачи преследуют нас. Как организовать эту массу, толпу нашей пехоты и кавалерии, сделать ее боеспособной? Многое, если не все, держится у нас на страхе и алчности, зависти и тяжелых традициях. Понимают ли это наверху? Может, не знают положения и нравов здесь, у нас?! Вряд ли. Так кого устраивает такое? Мы, великая Османская империя, коей подчиняются молдаване, болгары и румыны, греки и южные славяне на побережье Адриатики... Мы, чьи владения простираются по обе стороны пролива Босфор - в Малой Азии, на Балканах и по Дунаю... Мы, при чьем правлении бросает в дрожь всех местных славян... и мы не можем противопоставить России всю свою мощь. И наверняка не сможем наказать их спесь и высокомерие. Хотя, что это я?! Войну-то против русских начал крымский хан с одобрения нашего мудрейшего султана».
Ахмет-паша поднял тяжелый взгляд на слугу, тот молча изогнулся, ожидая приказаний господина. Испарина покрывала лицо слуги, он ждал, а Ахмет-паша, вперив в него мутные глаза, молчал. И понял тогда слуга, что не видит его господин, что озабочен паша чем-то трудным, непередаваемым делом.
«Если я не предприму встречного шага, то последние неудачи коснутся меня. Мне наплевать на судьбу тех, кто командует мной так тупо и бездарно, я должен сам позаботиться о своей судьбе и обезопасить себя. Как? Напомнить о себе султану? - Ахмет-паша вздрогнул. - Не слишком ли дерзко такому земному червю, как я? И все же надо припасть к стопам великого султана, дать весточку о своих героях, не забыть и подарки!
Однако так ли здравомыслен такой шаг? А если, если гонца? Гонца послать. Если он дойдет - я спасен, по крайней мере помилован, пусть в опале, но жив; не дойдет - невелика потеря, значит не судьба. Но послать надо именно того, кого бы знал или ведал султан».
Ахмет-паша очнулся от дум и коротко приказал в пустоту, не глядя:
- Писаря ко мне. Быстро. Со всеми принадлежностями. Оставить нас наедине, писарь хочет мне поведать о важных делах. Охрану у шатра усилить.
Два часа провели наедине Ахмет-паша и писарь, о чем они говорили - то неведомо. Но лишь раздался крик Ахмет-паши, в шатер вихрем ворвалась верная стража. Что, что случилось? Где, кто, что? Смута? Заговор против любимого начальника? Убийца? Иль срочное, не терпящее отлагательств дело?
Стражники зашарили глазами, стремительно, бдительно, в руках грозно заходили ятаганы и короткие копья.
Картина внутри шатра, убранного хоть и по-походному, но ярко и с удобствами, была вроде как мирной - сидят двое напротив друг друга, Ахмет-паша ставит перстнем печать на сургуче зажатого в руке пакета, а писарь широко открытыми глазами смотрит на него.
- Что встали? - ровным голосом, но таким, что заледенели души, сказал Ахмет-паша. - Не видали государственного преступника, что ли?
И дико, истошно завизжал, как раненный зверь. Так, что кровь застыла в жилах у стражников и они, растерявшись окончательно, одеревенели, не зная кого хватать. Кто? Кто??? Ахмет-паша - изменник? Или писарь?
- Хватать! Писаря хватать! Шпиона и вероотступника! Да куда вы его потащили? Тут же, тут же казнить, отсечь негодяю голову!
Брызнула страшно кровь, Ахмет-паша нетерпеливо и яростно смахнул со своей одежды ярко-красные капли. Брезгливо сказал:
- Можно было и аккуратней. Испоганили весь ковер. И убрать быстро эту безголовую падаль.
Что и было сделано с непостижимой быстротой. Ибо знали, что Ахмет-паша нерасторопных не любит.
Не любил Ахмет-паша и лишних свидетелей...
- А теперь позвать ко мне Искандера. Быстро. Охрану усилить...
Возможно и прав был по-своему Ахмет-паша, пытаясь оградить себя от будущих неудач и прошедших невзгод, замышляя свой хитрый ход. Если бы глянуть вперед, обладать даром ясновидения... что можно было бы увидеть?
А вот что. Русско-турецкая война, начавшаяся в 1768 году, закончилась в 1774 году подписанием выгодного для России Кючук-Кайнарджийского мира, заключенного в селении Кючук-Кайнарджи, которое находится у правого берега Дуная, почти в двухстах верстах южнее крепости Измаил, стоящей в устье Дуная. За период войны русские войска победоносно прошли из Каменец-Подольского на Яссы, далее на Фокшаны и затем на Бухарест (левобережье Дуная); восточнее их движение из Каменец-Подольского ознаменовалось битвами у реки Ларги (недалеко от устья Дуная) и у реки Кагул (низовье Дуная), а потом продвижением по правобережью Дуная у Кючук-Кайнарджи к Шумену... Вот бы как было, как есть, как будет. Но и это не все. Турецкому султану не захочется примириться с утверждением России на северном побережье Черного моря, и в 1787 году Турция вновь начнет войну с Россией. Только вряд ли до того времени доживет Ахмет-паша, один из хитрых и изворотливых турецких командиров. И, возможно, одним из тех, кто не даст удержаться Ахмет-паше на плаву, невольно станет Искандер.
Но ближе к делу.
- Искандер, тебе выпадает почетная миссия.
Турецкий офицер в ответ склонил голову, как того полагает (как думал он сам) этикет турецкого военнослужащего.
- Я - весь внимание, Ахмет-паша!
Ахмет-паша не обратил внимания на вольности офицера - не до того было - и продолжал.
- При создавшемся положении, когда русские находятся в более выгодном отношении, чем турецкие войска и мы с тобой, Искандер, в том числе, одним из выходов я вижу упредить события. Что греха таить, столько лет мы добивались победы у России, но имеем одни неприятности и поражения. И мне не кажется, что вскоре произойдут перемены к лучшему. Скорее...
- Скорее наоборот, мой господин.
- О! Ты внушаешь мне уважение, Искандер, своими прямыми и честными словами. Ты есть несгибаемый турецкий солдат, однако еще не утопший в лаврах и осознающий печальный ход событий. Мне нравится твоя искренность.
- Я ваш слуга и льщу надеждой быть вам полезным, вы наставляете на путь истинный...
- Давай договоримся так: разговор у нас серьезный, должен идти как между двумя близкими солдатами, которых сплачивает цель и судьба. Ты это понял?
- Да, но мне неясна моя миссия. В чем она будет заключаться?
- Отбросим лесть и ухищрения, будем говорить о деле, прямо и открыто.
- Я готов, господин!
- Так вот, если речь идет о наших судьбах и головах, - быть ли им?! - то мы и будем с тобой делать ответный шаг. Вот этот пакет надо доставить в Стамбул и вручить султану; если это свершится, то мы спасены, и я тебя не оставлю без своего внимания. Ох, тогда мы заживем! Ты должен...
- Я понял, что должен доставить пакет во что бы то ни стало.
- Хорошо сказал, Искандер. Ты не забыл, кто тебя вознес из серой солдатской массы?
- Я вам обязан. Служил и служу верно.
- Вот видишь, пришло твое время отдать долг. И пробиться в Стамбул должен именно ты, потому что именно ты как-то фигурировал в султанских бумагах. Не понимаешь, о чем речь? Все просто в этом мире - по велению султана ты стал офицером, тебе и дорога в Стамбул, напомнить султану о нашем существовании, о нашем старании делу ислама!
- Я вынужден спросить, что же в пакете, о чем говорится и какие бумаги? Кто и как повезет? У кого будет храниться в дороге?
Ахмет-паша недовольно поморщился, скосил глаза.
- Торопишься, Искандер! Но, может, и к лучшему. Ты должен знать все или по крайней мере все, чтобы знать, как действовать в любой обстановке. Так вот, в пакете только письмо. Пакет в любом случае не подлежит вскрытию, разве что уничтожению в смертельных случаях. Пакет должен вскрыть самолично султан. А говорится в письме о нас, что мы, не жалея сил и жизней, сдерживаем и бьем русских, и что вина в том не наша, что мы несем потери и кое-кто не может организовать разгром проклятых русских!
Искандер молча слушал, вопросов не задавал, ибо понимал, что в данном случае болтливость не украшает офицера.
Как ехать и кто едет? Пути два: один сухопутный, прямо до Стамбула, второй - с выходом по суше к западному черноморскому побережью где-то в районе Варны или южнее Варны, а оттуда морем в Стамбул. Плыть с кем-либо попутно, либо нанять специально. Ахмет-паша рекомендует однако путь по суше, как будто более устойчивый, да и пролегающий по европейским покоренным землям Османской империи. Но в любом случае ехать и плыть тихо и незаметно, сторониться сел и людей, держаться подальше от людных дорог и прибрежных морских путей. Чтобы не было ущемлений и трудностей Ахмет-паша выделяет достаточно средств на данную экспедицию.
Пакет хранит лично Искандер, не доверяя никому и не рассказывая о конечной цели. Для других это - поездка по воинским делам в Стамбул. Сопровождают Искандера четверо конных из личной охраны паши и доверенное лицо самого Ахмет-паши. Все едут в военной форме, неброской и не очень привлекающей внимание - так легче продвигаться. Но, хоронясь людных мест, есть опасность встречи с болгарскими мстителями... проявляйте бдительность и осторожность.
Везете подарки султану и его приближенным - запакованы плотно, надежно, не привлекают особого внимания и удобны для транспортировки.
Ахмет-паша вдруг споткнулся в своем рассказе и замолчал. Смежил глаза.
- ... Тебе ведома, Искандер, следующая истина? Когда чья-либо армия одерживает победы или добивается весомого успеха, то в таком случае в мире о них складывается мнение, что страна сей победоносной армии сильна и неукротима, что всё в этой стране благополучно, что генералы и солдаты армии умны и образованны, грамотны в военном деле, дисциплинированы и бесстрашны. Все мелкое и скандальное при победах не то что забывается, а даже не упоминается: взаимные зависть и недоверие, алчность генералов и убогость существования солдат, отдельные провалы, неблагоустроенность походов и отдельные неудачи и прочее, и прочее, и прочее. Зато проигрывающей стороне - государству и ее армии, полководцам ее и солдатам оборотная сторона достается с избытком. Вспоминаются все пороки, имеющие место и несуществующие, все грехи и просчеты и даже самые малые неудачи. Вот в таком положении сейчас мы и находимся - в состоянии опалы, и ходим по лезвию ножа. Пакет в Стамбул даст нам возможность устоять в начинающейся буре.
- Кто же будет вашим доверенным лицом?
- Не перебивай, Искандер. Ты понял мою мысль про победителей и побежденных? Есть одно неплохое изречение, бытующее у нас: «С миру по нитке...»
- ... И голому рубашка?
Ахмет-паша хрипло рассмеялся.
- Не путай с русскими. У нас, турок, звучит так: «С миру по нитке - голому петля», звучит как предупреждение, как основной столп турецкого бытия. Нужна ли в Османской империи жалость к слабым и славянам... раздавать им рубашки? О-хо-хо!
- Кто поедет со мной?
- Увидишь. Но, понимая твое нетерпение, скажу. Кто же еще, как не твои друзья?! Старого янычара нет в живых, остаются лекарь и толмач. Лекарь, однако, мне незаменим здесь - мне нужны умные люди. Значит, остается толмач. Кто же, как не эти люди, поставившие тебя на ноги, а? А здесь переводчика я себе найду нового, не так сложно.
... Толмач получил от Ахмет-паши секретные указания: «едет» пакет в Стамбул, но пусть его содержание тебя не интересует, а твое дело следить за безопасностью движения, за драгоценной жизнью Искандера, за выполнение миссии Искандером. Остальное, как подумал Ахмет-паша, толмач, если ему будет очень надо, вынюхает сам. Толмач слушал внимательно и почтительно, лисьи его глаза беспрестанно бегали с предмета на предмет, а в душе поднимался ком беспокойства.
Время выхода Искандера с доверенными ему людьми наметили на раннее утро - поменьше любопытных глаз и активных ушей. Разные люди и по-разному провожали его, Искандера. Ахмет-паша, к примеру, окинул хозяйским глазом маленький караван, остался доволен, напутствовал Искандера словами: «Ну-ну, держись, сын мой! Не забывай моих слов о жизни и смерти. Да благословит тебя Аллах на подвиг», - и отошел в сторону, уже более ни во что не вмешиваясь, лишь цепко и зорко наблюдая за происходящим. За Ахмет-пашой наступила очередь черноволосой молодой невольницы, с которой Искандер в последнее время встречался тайно и часто - на этот счет злословили многие, но в открытую говорить опасались, догадываясь о молчаливой благосклонности Ахмет-паши к Искандеру. Девушка чуть ли не повисла на офицере, заплаканная, с дрожащими губами и ресницами, и оттого еще более привлекательная.
- Ты куда, Искандер? Это надолго и опасно? Чувствует мое сердце, что вижу я тебя в последний раз. Нет? Я не буду больше плакать, но ты еще вернешься ко мне? А вдруг у нас с тобой кто-то будет... сын, к примеру, или ты больше хочешь дочь? Искандер, ну что ты молчишь? Не молчи!
В ответ - да какой тут может быть ответ, если чувствуешь, что отталкивая прильнувшую к нему девушку, отдираешь от себя кусочек сердца и души - Искандер тяжело вздыхал, косил по сторонам затуманенными глазами.
- Ну, хватит, - услышали они тихое Ахмет-паши.
Оторвали девушку от Искандера и безвольную увели. Через час Искандер с охраной уйдет в далекий путь, а вечером его любимую бросят в постель Ахмет-паше. Любил Ахмет-паша такие шутки... Чего греха таить, любил он побаловаться с безвольной жертвой, как зло и жестоко играется кошка с пойманной мышкой. Он, Ахмет-паша, блаженствует, а ради него в неизвестность двигается Искандер.
Последним из провожающих был лекарь. Стоял он в Стороне, чуть грустный и смущенный. Сам к Искандеру не подошел, а поманил его к себе, легко и просто махнув рукой. Видно, тоже не хотел внимательных ушей в своем последнем разговоре с Искандером, поэтому и стоял далеко от всех. В лекаре чувствовалась напряженность.
Разговаривали тихо, чуть ли не шепотом, понимая друг друга почти по движению губ. Улавливали развиваемую мысль и нить прощального разговора мгновенно, с полуслова, не договаривая и часто не доводя ее до словесного окончания. И сквозила между лекарем и Искандером четко выраженная ясность невысказанного и замаскированная грусть.
- Значит, вглубь империи идешь? Счастливчик, Стамбул посмотришь. Там многие мечтают побывать.
- Труден путь туда, всякое может случиться.
- Да, да, опасностей много. Не все туда попадают. Вот и ты... что у тебя на роду написано... отвернулся и не смотришь ни на меня, ни на юг в сторону Стамбула.
- А? О чем вы, господин лекарь?!
- Да о Востоке. Только не нашем Востоке, а о том и загадочном и загадочных, кто живет в той стороне, откуда к нам приходит солнце.
- Русские, что ли? - Искандер усмехнулся, а лекарь ответно скривился.
- А ты часто русские слова произносишь. Когда вот спишь или раздражен.
- С кем поведешься ведь, господин лекарь, воюем-то с русскими. Как тут не нахватаешься русских слов... ведь и многие русские солдаты знают турецкие слова и даже немного научились говорить на турецком.
- Да-да, Искандер, я с тобой согласен... родина есть родина. Ты офицер... и был им... человек благородных кровей и долга, ты должен... Но да не мне, сынок, тебе советы давать, решай сам, мое дело малое - вылечил, поставил на ноги - и лети. Крылья-то отросли? Я не собираюсь тебе мешать, лети.
- Полечу, мой крестник - били все время по крыльям, но теперь удача на моей стороне.
- Счастливо, я пошел. Береги себя, бойся «многоязычного» человека...
Вышли плотной группой. Толмач не сводил глаз с Искандера, а охрана бдительно охраняла их обоих и грузы. Сам Искандер был налегке, только при оружии да пакет в искусно пришитом внутреннем кармане.
В первый день ехали медленно, рыская из стороны в сторону, вроде бы избегая наторенных дорог и сел, но в то же время маленький караван, ведомый Искандером, избегал уходить далеко от населенных пунктов, пока наконец под вечер они не заехали прямо в село и с шумом и громкими расспросами типа «Где ближайшее питейное и едальное заведение?» да «Далеко ли до Стамбула? В какую сторону туда ехать?» осели в маленькой и уютной харчевне. Стражникам Искандера весь этот шум и суматоха вокруг них нравилась, им льстило, что пред ними болгары преклоняются и заискивают. Лишь старший из охраны недовольно косился по сторонам, недоумевая над поведением Искандера, громко и открыто расспрашивающего о дороге и местных жителях. «К чему раскрываться раньше времени, показывать, кто мы такие и лезть на самый вид?! Да, тепло в дороге не помешает, но так ли оно уж необходимо для нас сейчас? Зачем выявлять себя другим раньше времени?» - он кусал недовольно ус, морщился и вдруг наткнулся на кислый взгляд толмача. Кажется, они поняли состояние друг друга. Значит, господин Искандер, голова их маленькой экспедиции, напрашивался на грубость. И когда по темноте они выехали из села, - опять непонятен сей шаг - старший стражник напрямую спросил Искандера, куда они вообще-то едут и какова цель их поездки.
- Тебя, несчастный, уведомил кто спрашивать меня? - Искандер высокомерно взглянул на «любопытного».
- Я хочу знать, за что страдаю.
- При таком поведении ты можешь и окончательно отстрадаться. Или ты забыл, кому служишь? Напомнишь мне о тебе при возвращении светлейшему Ахмет-паше?
- Не надо, господин офицер, я понял. И все же думаю, что вам лучше иметь во мне преданного человека, чем молчаливого врага... Мало ли что может случиться в дороге с вашей жизнью и драгоценным грузом, а?
- Ты не боишься говорить мне такие речи? Не боишься, что пристрелю на месте?
- Если моя душа вознесется сейчас на небо, значит, такова воля Аллаха. Но, думается мне, еще рано.
- Смерть никогда не приходит поздно. Но ты еще пока прав - груз требует охраны. Выполняй свой долг.
- Я понял, что мы идем в Стамбул.
- Рано или поздно вы поняли бы это все равно. Кто тебя толкнул на такой разговор? У вас заговор? Договор с кем?
- О нет, господин офицер. Толмач, похоже, тоже недоволен, что мы так быстро рассекретились.
- Каждый из вас - ты и толмач - выполняет свою роль и отвечает за ее выполнение. Понятно?
- Да, господин офицер!
- И не надо разевать рот и нагнетать аппетит на тот груз, который мы везем. Это не про нашу честь, слишком тяжел он для нашего с тобой, стражник, кармана. Не по плечу! Не по зубам! А по голове...
- Но кому он предназначен? Везем кому из родственников награбленное? Подарки кому-либо? И из-за них рисковать своими шкурами?
- В противном случае вы все рискуете большим. Мы везем подарки тому... от кого зависим сейчас... и большего от меня не жди. Прикуси язык, отбрось гордыню и заговоры и будь полностью моим!
- Я понял, виноват, каюсь. Но зачем мы так здорово шумели в селе?
- Все, что я говорил и делал - так надо. А за излишний шум благодари своих ослов-подчиненных, можно было и без этого обойтись! Держи их в крепких руках и боевой готовности - здесь на дорогах лихо!
Ночью их обстреляла какая-то шайка, пытаясь окружить и повязать на ночлеге. Но благодаря вынесенному дозору, своевременному сигналу тревоги и быстро погашенному костру, отбились и до утра таились в засаде. Утренняя серая мгла показывала, что дальнейшая дорога свободна. Кто это были - шайка смутьянов, мстители или еще кто... не до выяснения было, так как к утру умер от раны один из подстреленных стражников.
Путь продолжали. Угрюмые и хмурые, начинающие подозревать всех и вся, настороженные ко всему скакали люди и сам гонец турецкого паши. Искандер был твердо уверен, что ночное нападение на них не могло быть итогом их вечернего шума в харчевне села (слишком рано, неразумно и неосторожно бы). Нападение мстителей в таком густонаселенном районе вроде тоже должно отпадать. Что же тогда приключилось, кому потребовалось напасть на них, неизвестных никому здесь и облеченных принадлежностью к турецкой регулярной армии? Случайность? Но нападение произведено профессионально, с военной грамотностью - спасибо тому дозорному, что находился в секрете чуть в стороне от лагеря. Все свои находились в куче, у костра... так что на них подозрений не падает. Что же это за неизвестный враг, которому они стали почему-то известны? «Кто встал поперек дороги? - Искандер не мог получить ответа. - Или мы кому помешали?»
Исподлобья смотрел вокруг старший охранник; с равнодушным лицом посвистывал толмач. Но взгляды всех скрещивались на Искандере, будто выжидая всё ж долгожданного ответа.
- Почему мы заворачиваем к побережью? - не выдержал первым старший охранник. Спросил негромко, но отчетливо. Так, что услышали вопрос и остальные: невольно приостановили коней и уставились на Искандера.
Гонец турецкого паши понимал, что до бунта еще далеко, но знал и другое - рано или поздно охранников привлечет сопровождаемый ими груз, и тут уж они могут позабыть про все на свете, в том числе и про собственную жизнь и будущее воинское наказание.
- Идем куда следует, - Искандер помедлил: - Как и надо. И помните, что в случае нашего прихода туда, где нас ждут, нас ожидает приличная награда. Поехали! Почему встали?
- Хе, - хмыкнул толмач и бросил вроде в никуда, - а где нас ждут? Вообще-то им есть чего ждать...
Искандер не понял выпада толмача; смутно догадываясь об угрозе, он, однако, не мог понять, чего все ж добивается толмач. Так ли тот неосторожен и болтлив? Готовит себе путь отступления? Чего хочет это «доверенное лицо» Ахмет-паши и какие получил указания?
К вечеру они стали на ночлег, предприняв теперь совместные усилия по обеспечению безопасности. Боялись. Огня не зажигали, поели всухомятку и расположились попарно чуть в стороне. Пятый сидел в дозоре. К Искандеру напарником попал старший охранник, сам напросился.
«Это и к лучшему. От толмача можно ожидать сейчас любой пакости, пусть уж лучше будет этот недоумок», - решил Искандер.
- Господин офицер, - вдруг услышал Искандер шепот, - я смотрел днем... за нами следят. Упорно шли по следам, в отдалении, я наблюдал за ними. Помните, я несколько раз отставал в пути, вы еще сердились. Так вот, их двое, а одежда на них какая-то странная. Ума не приложу, что им надо от нас. Может, груз наш их беспокоит?
«А откуда они знают, что мы везем? - Искандер слушал вполуха рассказ старшего стражника и устало соображал. - Кто, интересно, такие? Скорее, не груз их заинтересовал, а каким-то образом их тревожит цель и итог нашей поездки, так? Ну-ну... Не понятно, ничего не понятно. Знаю только одно, что надо сворачивать к побережью, искать парусник, а там как бог пошлет и что получится. Скорей, скорей».
Утром, без потерь и ночных происшествий, продолжили путь. Дальнейшая дорога - до побережья, куда упрямо и настойчиво заворачивал и стремился Искандер, прошла благополучно, без стычек и перестрелок, нападений и драк.
Утром на бурной приморской улице городишка встали на постой в одном из домишек. Искандер, не торгуясь, отсчитал недрогнувшей рукой из поясного кошеля ровно столько, сколько потребовал, а точнее загнул, хозяин за комнату и место для коней в просторном каменном сарае-хлеву.
- А теперь пропадай, - скупо улыбнулся Искандер хозяину. - Если нам у тебя понравится и ты будешь стараться, то по нашему отъезду дополнительно вознаградим твое усердие.
Коней завели в сарая, который Искандер велел держать постоянно запертым.
- Кормить их будешь сам. Кони благородной породы - отвечаешь за их сохранность своей семьей и подворьем. Ключ храни только у себя, никому не давай, кроме меня. Смотри, худо будет - спалю под корень! - Искандер посмотрел на хозяина. - Ну-ну, не журись, только крепко помни.
Груз сняли с коней, внесли в отведенную комнату и аккуратно сложили у окна, откуда хорошо просматривались ворота сарая и подходы к нему. Искандер сам выбирал комнату, предполагая постоянное дежурство - охрану за грузом и конями.
- Вот так и будете: прямо на посту у окна смотреть, наблюдать, охранять - постоянно и бессменно. Это касается охранников.
Искандер зачем-то ногой тронул запакованные пакеты груза - тяжелые, подумал. «Ну и награбил Ахметка! Поди из своего кровного, от души поганой отрывал и плакал, что приходится прощаться со златом-серебром».
- Толмач и старший охранник. С вами так: один остается здесь за старшего - и за дом ни шагу, отвечает за груз до моего прибытия; второй идет со мной, охраняет меня и мой кошель, пока я ищу нужных людей и веду переговоры. Со мной идет...
Ответ на секунды повис в воздухе. Кого же взять с собой, кого оставить? Надо правильно оценить каждого из двоих, предопределить линию их поведения, их возможностей, долю надежности в каждом из двух действий - охрана дома или дела в порту... тогда и решать.
Старший охранник. Вроде стал своим человеком, слушается Искандера беспрекословно - из него прет скорее глупость и неосознанный страх - поэтому на открытый бунт вряд ли решится. «Если взять его с собой, то за свою безопасность можно не беспокоиться - отстоит любой ценой. Если оставить - в нем может взыграть жажда наживы, захвата груза, и тогда возможен побег».
Толмач. Предупреждение насчет «многоязычного человека» было. Скрытен, хитер, и, наверное, коварен. Облачен полномочиями Ахмет-паши, в чем они заключаются - неизвестно. В любой момент может выступить в открытую и пойти ва-банк - убрать его, Искандера, с дороги и тогда завладеть сразу всем - грузом, пакетом и полномочиями. Очень опасен. Весь вопрос в том, когда выступит. В настоящее время Искандеру с ним еще по пути или толмач уже готовится к перевороту? «Если толмач пойдет со мной - нет надежды ни на личную безопасность, ни на скрытость успеха по найму парусника; если оставить - то оставить волка сторожить овцу».
Напрашивался единственный выход: чтобы обеспечить маломальский успех, надо с собой брать старшего охранника (приковать к себе, но оторвать от груза), а оставить толмача (может, побоится кары Ахмет-паши, так как «пакет» ушел, а уж охранять груз будет бдительно). Только при такой раскладке можно надеяться на какой-то успех дела.
Но у Искандера был свой ход рассуждений и решений. И он повелительным голосом, не вдаваясь в объяснения, отрубил:
- Со мной идет толмач, старший охранник остается.
Круто повернулся и вышел, провожаемый недоуменным взглядом охранника и злым - толмача. Казалось, спина загорится у Искандера, не оправдавшего (или же перепутавшего карты?) надежду маленького отряда. Но сам Искандер знал, что делал, лично для себя и своего будущего дела, изолируя толмача от добычи и, наоборот, бросая старшего охранника один на один с грузом, то есть, проще говоря - на произвол судьбы, где искушение можно и не перебороть, сидя на куче золота и находясь без должного высочайшего надзора.
В маленькой припортовой корчме Искандер сидел за тяжелым грубым столом тихо, потягивал вино, вел себя скромно, стараясь не привлекать к своей персоне внимания подвыпивших бродяг и дельцов, матросов и рыбаков, бедных болгарских крестьян и редких турков. Толмач, получивший своевременно от Искандера наставления, сидел в отдалении за другим столом. «Тебе поручается охрана моей жизни в случае драки или скандала, а остальное - мое дело. Сиди в стороне и внимательно наблюдай за всеми», - таков был наказ Искандера. Вот толмач и сидел уныло за указанным ему столиком - он успел понять, что они никому не интересны здесь, и полностью переключился на Искандера, который подозвал к себе в этот момент хозяйчика корчмы. Разговор их звучал глухо, и толмач, сильно заинтригованный, слышал лишь только отдельные слова и фразы.
А послушать, наверное, было о чем. Увязав все слышанное в «кучу», толмач понял, что Искандер ищет «выходы к морю», то есть надежного человека, владеющего добротной морской посудиной. Толмач, человек истинно сухопутный, плохо разбирался в море и нравах моряков, ему сильно, до ненависти, претили эти своенравные и суровые люди, претили вместе с их кораблями и парусниками, вмещающиеся по понятию толмача в ехидное слово «посудины».
- Хозяин, - Искандер смотрел в упор, - мне нужен для проведения одной торговой сделки - не слишком, однако, честной - отважный человек, который рискнул бы на своем суденышке помочь мне. Где найти такого?
- Хм-м, вопрос, конечно, интересный. Однако болтливых и жадных у нас тут не любят. Да и турецкий офицер зачем ищет помощь у бедных болгарских моряков?
- Иначе нельзя.
- Можно и посоветовать тогда господину офицеру, коль тот не хочет иметь дело со своими. Хотя куда уж проще - одно ваше слово и кошелек в придачу - и вы бы нашли солидную оказию в виде турецких сторожевых судов, попутных военных кораблей или вольных турецких купцов-парусников.
- Иначе нельзя.
- Ну что ж... В портовой корчме, которая находится у ..., обратитесь к ее хозяину. Дельный человек! Он наведет на след. Но могу и сразу подсказать вам человека.
- Ну-ну, - поощрил Искандер.
- Его опять же найдете через хозяина корчмы. Если, конечно, тот не в плавании.
- Так кто же все-таки тот отважный мореплаватель?
- Я не могу полностью предполагать, подойдет ли он к вашим запросам и требованиям, но да тут дело ваше, разберетесь. Зовут его Стоян Ангелов.
- Хорошо, - сказал Искандер и двинул, прикрывая рукой, по столешнице навстречу болгарину кожаный пухлый кошель, - тут хватит за все: выпитое вино и полученный совет. Да, возможно тебя будут спрашивать неизвестные люди обо мне и твоих словах, так что помни - в этом кошеле хватит и на твое молчание.
- Да, господин, молчание и щедрость находятся по одну сторону весов, и я уважаю эти благодетели и их господина.
- Возможно, я еще вернусь, а пока прощай, - и Искандер быстро пошел к выходу.
За ним, задевая столы, поспешил припоздавший толмач, провожаемый прищуренными глазами хозяина.
В портовой корчме Искандер долго не мешкал и не выжидал. Потягивая красное вино прямо у стойки корчмаря, он приказал: «Мне надо видеть Стояна Ангелова. По делу. Обратиться к нему мне посоветовал ..., знаете такого? Стоян в море или на берегу?»
Они смотрели друг на друга, будто прицениваясь: корчмарь - насмешливо, Искандер - настороженно и выжидающе.
- Стоян? Он на берегу. Да, уж я-то знаю. Но без меня его трудно будет вам найти. И еще труднее договориться - он с трудом переваривает турецкие «заказы».
- Заставим.
- Вряд ли. Он знает, что и как надо делать, чтобы жить независимо и в то же время не нарываться на неприятности от власть имущих.
- Мне нужен Стоян. И, думаю, я ему тоже нужен.
- О, это уже интересно. Он знает вас?
- Нет. Вы его найдете? Пригласите сюда переговорить со мной.
- Вы настырный малый.
- Да. И при желании могу укоротить у вас язык за проявленную наглость.
- Это трудно сделать в моей же корчме.
- Мне нужен Стоян. И сейчас же. Посылайте за ним, расходы беру на себя.
Корчмарь с неохотой взял монеты из рук Искандера и подозвал какого-то мальчишку, что-то шепнул ему на ухо и подтолкнул. Мальчишка пулей вылетел из корчмы.
- А пока поговорим, - Искандер поудобнее пристроился к стойке. - Расскажите о Стояне Ангелове.
- Что вас о нем интересует?
- Молод, стар? Семейный, нет? Богач, бедняк? Чем занимается? Что за судно у него? Рыбачит? Или грузы доставляет? Чьи, какие?
- А не много ли ты хочешь знать, господин офицер, да еще за один раз? Меня твой Стоян мало занимает, найти его я для тебя найду, но не более, а далее ты с ним сам разберешься... или он с тобой. Вот он, кстати, и сам со своими двумя верными товарищами у тебя за спиной стоит. Тут желаете говорить или в отдельном месте?
По обе стороны Искандера высились два молодых крепких парня, а на него самого, белозубо скалясь, смотрел и третий - невысокий, крепко скроенный человек лет тридцати.
- Здесь? Или отойдем? - сказал этот третий. - Раз звал - встречай. Я и есть Стоян.
- Отойдем, - твердо ответил Искандер и спокойно зашагал, зажатый тройкой.
Наблюдавший эту сцену толмач заметался. Осторожно проследил, в каком номере пропал Искандер с неизвестными, подкрался и припал к двери, благо, что в коротком и запутанном коридоре никого не было. Корчмарь посчитал встречу у стойки для него законченной и далее не пошел - тройка, видно хорошо знавшая корчму и ее нравы, беззаботно, не ожидая погони, ушла в номер... вот и торчал толмач у двери, вне забот и поля зрения противников.
Дверь закрылась, около нее внутри стали телохранители Стояна. А сам он, остановившись среди комнаты, заговорил:
- Я Стоян Ангелов. Как видишь, еще молод. И не женат. Еще не богач, но уже не бедняк. Имею свой парусник, верный экипаж, немного денег и много свободы. Чтобы все это обеспечить, отдаю лишние деньги портовым туркам - и им хорошо, и мне покойно. Не рыбак. Но в мутной воде могу и кое-что половить - доставить контрабандой оружие повстанцам или сверхлюбимый товар для турков. Беру дорого, но не всегда и соглашаюсь. Это все обо мне. Теперь ты. Шпион? Беглый? Контрабандист? Дезертир? Секретный гонец? Куда, что и как? При чем здесь я?
- Стоян, в корчме находится мой человек. Он хоть и трус, но кинется что-то делать для меня, выручать. И может наделать большие глупости.
- Это тот подозрительный, у которого рожа камня просит? Знаем, недаром наблюдали за корчмой перед тем, как познакомиться с тобой. Он не выйдет из корчмы, все выходы стерегутся.
- Вы ошиблись.
- Мы? Не может быть.
- Он и сам не выйдет сейчас, он ждет меня. Это дрянной человечишко, но он мне навязан, пока что нужен и мне от него рано избавляться, чтобы пока не навлекать излишних подозрений, раньше времени-то. И я ему тоже очень нужен и, скорее всего, он сейчас у нашей двери. Так вот, зашибите его дверью, помните бока, несильно, и выбросите из корчмы. Обратно не пускайте, да он и сам не пойдет, неужто жизнь ему не дорога, пусть он меня ждет за порогом.
Что и было сделано. Дверь резко открыли, послышался удар и вскрик... и все остальное, как просил Искандер.
- Однако, - Стоян с любопытством смотрел на Искандера, - опасный ты человек. С тобой надо ухо востро держать. Так кто ты?
- Гонец турецкого паши. Секретный. Одежда - лишь маскировка. Везу ценный груз, в обход турецким дорогам.
- Понятно. Поэтому и вышел на нас.
- Груз - подарки и ценности, должны попасть, минуя прочих, прямо в руки одного человека. Плачу хорошо. Дело, однако, опасное, и хочется держаться подальше буквально от всех - турецких сторожевиков и болгарских доброхотов. Я - с охраной, ждут в одном из домов.
- Так и погореть можно, - Стоян задумался. - Но дело-то необычное - вроде турецкое, а делается мимо них, значит ни вашим и ни нашим - такое и делать интересно! По рукам. Грузись, остальное доскажешь на борту. Верный человек будет ждать тебя и твоих здесь вечером и проводит до парусника. Учти, руки твои коротки, а мои, чуть что не так, дотянутся... Уж я знаю, как обезопаситься...
- Будь спокоен, Стоян, тебе будет интересно!
Они обговорили детали встречи. Стоян еще раз уточнил, что его человек будет ждать Искандера с грузом недалеко от этой корчмы.
- При вашей щекотливой миссии, - поинтересовался Ангелов, - не предполагается ли за вами погони и слежки? Я по роду своей работы, - Стоян заразительно расхохотался, белозубо открыв рот, - не люблю иметь дело с доносчиками и вассалами. Так как?
«Погоня. Слежка, - забилось в мозгу Искандера. - в этом что-то есть. Жалко только, что не могу уловить до конца».
- Стоян, честно говоря, не знаю как и ответить на твой вопрос. Слежки вроде не должно быть, а погоня была.
- Честное слово у турецкого офицера? - Стоян криво улыбнулся. - Разве оно у него может быть?
Искандер вспыхнул. Несдержанным его сделала дорога в Стамбул.
- Но-но! Не будем ссориться, - Ангелов уже был серьезен. - Значит так: погоня была, а слежки нет?! Следующий этап у них: гнаться за вами дальше некуда, пора и проследить. А? Не спорь.
- И не спорю. Мог бы и сам я догадаться.
- Куда господину офицеру до серых низких мыслей? А вот нам, болгарам, с четырнадцатого столетия приходится раздумывать, как и почему наша страна попала в лапы к вам, туркам. Наши предки дрались смело и самоотверженно, но что толку - нам нечем похвалиться, как к примеру маленькой Сербии ее схваткой с турками на Косовом поле в 1389 году, где Милош Обилич поразил турецкого султана и сам пал смертью храбрых.
- Ну а вы? Вы сами что?
Стоян внимательно взглянул на Искандера, махнул отрешенно рукой.
- Турецкая империя основана князем Османом в XIII веке. Османа давно нет в живых, но до сих пор существует Османская империя. Но да ладно, пора тебе идти, да не забудь своего телохранителя - он на улице. А мы, может, что выясним о слежке.
Времени до вечера, то есть до назначенной встречи, оставалось не так уж и много. И Искандер поспешил, зашагав стремительно и широко. За ним, охая и бормоча ругательства, смешно ковылял страшно недовольный толмач, которому, как предполагал Искандер, можно было быть недовольным: толком ничего не узнал, побит, про пакет неясно и вообще... все остальное непонятно и неразумно. Однако тревожился и Искандер - что его ждало в домике, где «бдительно» охранялись ценности, предназначенные для турецкого султана?
Открыл дверь во двор сам хозяин. Искандер мгновенно окинул взглядом вокруг, чуть успокоился - следов сражений и кровопролитных схваток не видно, значит бунт отложен или не предполагался. Но вид самого хозяина, дрожащего и жалкого, насторожил. К тому же и странный вопрос:
- Господин офицер! Когда вы собираетесь съезжать?
- Что случилось? - Искандер сгреб хозяина к себе поближе, тот побледнел и залопотал по-своему.
- Хотите, я вам подыщу более приличное место для постоя? Там удобно, красиво и женщины есть. Мне немного в уплату оставьте, а все остальные деньги свои можете забрать. Так что же, господин офицер?
Искандер, не отвечая, сдвинул хозяина в сторону и шагнул в дом. За ним, сгорая от нетерпения, ринулся толмач, чуть даже опередив Искандера, но вовремя остановленный странно-насмешливым выражением лица и пронзительным взглядом офицера.
И Искандер, шагнув в их комнату, увидел... Увидел, наверное, то, что предполагал. Или то, что хотел бы видеть. На тюках и пакетах груза лежал лицом вниз стражник с расплывшимся на спине багровым пятном. По тому, как безвольно раскинулись его ноги и висели в воздухе пальцы, Искандер понял, что стражник мертв. И ошибки в том быть не могло.
По разным углам, настороженно следя за действиями друг друга, расположились другой стражник и их старший. В руках у каждого по пистолету и ножу.
Искандер ощутил вялость в ногах. Для кого предназначались эти поднятые дула пистолетов и холодная зажатая в пальцах сталь кинжалов? А если вся эта взбешенная лавина смерти, вспугнутая неосторожным движением или одним его резким словом, вдруг обратится в его сторону?
- Побаловались? Выясняли отношения? - растягивая слова, но без угрозы сказал Искандер.
Отношения ли? Может, что иное?
Искандер уточнять не стал.
Зачем? Для чего ему грязная истина в гнилом вопросе.
- Ну?! Что разлеглись? - он повысил голос. - Выводить коней. Хозяин, слышал? Укладываемся, увязываемся. Одним словом - уходим, нас ждут!
Стражники подскочили в своих углах, разом освобожденные от событий прошлого и втянутые в будущее уверенной командой офицера. И заспешили. Таскали, пеленали, седлали, грузили. Им помогал, а скорее мешал толмач, любовно ощупывающий каждый тюк и пакет.
- Почему ты морщишься? - спросил Искандер у старшего стражника. - Перекривил рожу. Да и на ногу припадаешь.
- Да ему тут немного попало. Ему... он... - начал было стражник, но остановился под гневным взглядом старшого.
- Все нормально, господин офицер. Ногу подвернул, а руку...
- Руку порезали ножом, сильно, - угодливо подтвердил стражник, вновь вмешавшись и не замечая отчаянных жестов старшего.
- Сам ходить можешь? Некогда возиться с тобой, - многозначительность прозвучала в голосе Искандера. Ответ он знал заранее.
- Постараюсь, господин офицер. Вы не беспокойтесь, все будет в порядке.
- Ну, то-то.
- А этого куда же? Мертвого-то, - хозяин был сильно растерян и от большого беспамятства бесцеремонно вцепился в Искандера. - Если его найдут у меня - обвинят и казнят. Заберите его, он ваш. Умоляю!
Куда мертвого? С тем, убитым в ночной перестрелке, было проще - тут же закопали. А что с этим делать, куда его «спрятать» среди живых людей? Придется запаковывать в кусок материи да забирать с собой, а там или бросать в порту, или топить с железом на ногах в море.
- Хозяин, - мягко откликнулся Искандер, - мы заберем его с собой, но к сожалению не имеем куска ткани на саван.
- О, я найду, я сейчас найду, - засуетился хозяин. - Такую мелочь! Чем смогу, тем помогу.
Маленький караван вытянулся на улицу и медленно тронулся. Цокот копыт гулко прокатился в вечернем воздухе, замер и вновь рассыпался усиленным эхом.
Их перехватили задолго до места встречи. Одинокий всадник бесстрашно подскакал прямо к Искандеру и объявил, что встречает от имени Стояна Ангелова и далее поведет чуть по измененному маршруту. «Не беспокойтесь, - пошутил всадник, - доставлю прямо к нашему Ангелу Стояну. Это мы его так любовно зовем. А сейчас не удивляйтесь, что встретил вас здесь - Ангелов любит заказчиков без «хвостов» и «довесков». За вами нет такого греха?»
«Да вроде нет», - мысленно ответил Искандер.
- Мне показалось, что за вами едет кто-то любопытный, - продолжал всадник.
И они тронулись в дальнейший путь, заплетаясь в улочках, пока наконец не вырвались куда-то на глухой простой и вскоре пошли вдоль побережья. Темнело.
«Зарежут как паршивого ягненка. Полторы калеки охраны, бестолковый алчный толмач и я - сила невелика», - Искандер страшился, хоть и верил Стояну.
- Вот там, на берегу, вас ждут люди Ангелова и лодки, они доставят вас на парусник, а Стоян уже на борту. Скажите, что я сейчас подъеду, только постараюсь кое-что выяснить... или догнать, как получится.
И проводник, развернувшись, взял с места в карьер.
Пока перегружались на лодки, рассаживались и выясняли что к чему, вернулся проводник на взмыленном коне.
- Да, - крикнул он, - мне не показалось: есть, оказывается, любопытный по ваши души. Только он не пожелал со мной познакомиться. Так и передайте Стояну.
- Куда же коней? Вплавь или на лодках переправим? - спросил Искандер.
- Нет, - ответили ему матросы Ангелова. - отдайте их вашему проводнику. И проститесь с ними. Парусник для ваших коней небезопасен, а вы, если надо и будете живы, купите себе других.
Лодки отвалили от берега и пошли в направлении виднеющегося вдали парусника.
Искандер со своей «свитой» ушел в море, а с берега, из укромной засады, вырвался конник и поскакал прочь. Раньше их было двое, ловких и стремительных, на выносливых конях, посланных налегке за «караваном» Искандера. Шли они след в след Искандеру по приказу того же Ахмет-паши, исполняя его волю проследить маршрут Искандера, поторопить караван любой ценой и средствами (в ночной перестрелке и убит один из них, убит случайной пулей), «довести» до Стамбула и в завершении - опережая (для чего?) Искандера, доложить Ахмет-паше об удаче или неудаче. Это были два проверенных, испытанных солдата Ахмет-паши, и не их вина, что так получилось: оставшийся в живых не сумел попасть на парусник Ангелова и поскакал с известием обратно. Его встретит сам Ахмет-паша, прослушает рассказ и будет долго и мучительно соображать о дальнейшей судьбе гонца, принесшего весть о начале морского перехода Искандера...
Парусник Стояна Ангелова с командой матросов на борту и необычными пассажирами взял курс вдоль побережья к югу, в сторону Стамбула.
Дул хороший попутный ветер. За штурвалом стоял сам Стоян, изредка отдавая команды зычным голосом. Рядом с ним находился рулевой. По палубе сновали вооруженные холодным и огнестрельным оружием матросы. Везде царил четко организованный порядок, каждый из команды знал свои действия и без пользы дела не суетился.
Искандер стоял недалеко от капитана и с интересом осматривался. «Другая жизнь и другие порядки в море! - думал он. - Под ногами зыбко, твердой опоры нет и тут поневоле забоишься, а они расхаживают себе по палубе как по плацу. Сильный народ!
Стоян, видно, не слишком избалован королевской жизнью. И делец, и капитан. Умеет и деньги считать и зарабатывать. Хваткий человек! Однако, команда вся вооружена не на шутку. Для чего? Чувствуется, что сплоченная и будет не на живот, а на смерть драться в случае неожиданной встречи».
Искандер подошел к Ангелову, позвал: «Стоян». Тот повернул голову, кивнул, затем подозвал к штурвалу рулевого и шагнул к Искандеру.
- Вижу я, что вы в море новичок.
- Не доводилось как-то. Видно?
- Заметно. Все больше по тверди, а? На коне держитесь отменно. Природный дар кавалериста?
- Когда же, Стоян, ты успел заметить?
- А когда ты направлялся со своими к месту нашей встречи. Ведь по соседним улицам шли, - Стоян рассмеялся.
- Значит, следил? Ну зачем так сразу - «следил»! Обижаешь, господин офицер. Нам просто иначе нельзя, дело-то ведь с незнакомыми больше имеем - оно, конечно, прибыльнее, но рискованнее, вот и остерегаемся. А то ведь не только я, но и мои ангелы пострадают. Какие ангелы? Да вон их сколько по палубе ходит. Они за меня горой, свои люди... все мы повязаны одной жизнью.
- Сильно вооружены они у тебя, Стоян. Уж не против ли меня? На мой груз посягаешь, а нас за борт? - напряженно пошутил Искандер, пытаясь нащупать нить истины. - Иль пираты в море буйствуют?
- Я уважаю крупные сделки. И зря подозреваешь меня в кровавой измене слову - Стояна Ангелова знают как честного морехода и купца. Вот приходится иной раз отбиваться от любопытных, турецких сторожевиков, прочей швали... а как же! Надо ведь охранять вверенные мне грузы и судьбы людей. Есть и пушки у меня, вон на корме и на носу - прикрыты на всякий случай, чтобы не пугать честной народ. Так что отбиться и пробиться есть чем, не горюй.
- Я не горюю. Хоть и везу груз, но могу его отдать тебе.
- О! И не боишься кары? Земной и господней.
- За одну услугу взамен.
- Что надо делать? Дальше плыть или менять курс? Но учти, беззащитных жизни без особой на то нужды не лишаю. Так что? - Стоян говорил вроде как шутливо, но...
- А вот что...
- Стоп, Искандер! Твои речи начинают пахнуть вольнодумством. Странен ты для меня. И еще одно - ведь про твой груз знают там, на берегу, как я понял, люди сильные. Ты где-то пропадешь, а они все равно будут искать его... выйдут на меня, и тогда я рискую все-е-ем! Так что пока отложим этот столь интересный разговор на чуть позднее, когда наши головы остынут.
- А скажи мне, Стоян, насколько возможна встреча с турецкой морской охраной? И что из этого может получиться? Видишь ли, мне бы очень не хотелось с ними встречаться. Для меня лучше остаться в тени, какой-то третьей стороной.
- Так разве бывает - «третьей стороной»? Возможность встречи зависит от погоды, от дисциплинированности и выучки обеих сторон - преследователей и преследуемых. Меня-то они вроде как знают, смотрят на мои проказы сквозь пальцы - «балую» я их, хотя и мне приходится иногда уходить от них подальше с глаз долой, других они могут ограбить, утопить, без жалости расправиться.
- С русскими они так же смело сражаются?
- С русскими? - Стоян усмехнулся, вгляделся в Искандера. - Про Чесму слыхал? Как адмирал Спиридов чествовал ва-а-ас в Чесменской бухте, что в Эгейском море близ острова Хиос. В семидесятом году.
- Ну-ну! Ты поосторожнее, Стоян, язык-то у человека один.
- А что ты мне сделаешь на моем корабле? Разве что потом... напакостишь.
- Ладно, пойду-ка я вниз спущусь, проведаю, как там мои себя чувствуют.
Искандер спустился вниз, где в маленькой и тесной каюте ютились остатки его воинства. Зрелище, которое он увидал, было жалким: толмач лежал пластом, и его время от времени дергало и выворачивало наружу. Стражник сидел в углу и голова его уныло перекатывалась от одного плеча к другому, глаза были полуприкрыты, лицо перекошено, и он мычал. Над кучей груза невозмутимо возвышался с аккуратно перевязанной рукой старший стражник, кидая перед собой неповрежденной рукой игральные кости.
- Что разлеглись, лентяи? И долго мы будем возить с собой труп вашего собрата?! Не чувствуете, что ли, запаха?! А ну, живо! К ногам груз и за борт. Ты. И ты. Исполняйте. Толмача оставьте в покое, ему сейчас все безразлично.
Искандер приткнулся в углу каюты и задремал. Сколько времени он находился в полудреме - трудно сказать, он лишь чувствовал, что море дыбилось, потом успокоилось ненадолго - и вновь закачало под ногами еще сильнее.
Очнулся Искандер от сильного толчка. Его швырнуло в сторону, сильно стукнуло, и дрема мгновенно слетела с него. Пол каюты ходил ходуном, перекашивался, сбивал с ног. Вперемежку катились пакеты, тюки, оружие, люди. Искандер на четвереньках начал пробираться к выходу, был сбит кем-то или чем-то, снова водрузился на четвереньки и все же пробрался к двери и вывалился за нее, успев заметить, что незадолго до него то же самое проделал еще какой-то счастливчик. «Кто ж это, интересно, был?» - мучительно пытался понять Искандер.
Это был толмач, именно его голос услышал Искандер через минуту, еще не успев принять вертикального положения.
- Зачем вы изменили курс кораблю? Куда вы плывете, о несчастные? Почему мы идем на восток?! Или на север?
- Господин толмач, - обрезал стоящий за штурвалом Стоян, - не паникуйте. Уже рассвет, а вам, чувствую, так плохо было в темноте внизу. Успокойтесь. Начинается шторм и...
- Измена! Измена!!! Вы плывете прямо в пасть русским.
- Даже если и предположить, что мы попадем в Крым - это еще не русские, а татарский хан. А на Кавказе нас не успеют зарезать, - хладнокровно отвечал Ангелов, не переставая бешено ворочать штурвал в брызгах соленой воды, - ибо наша посудина не рассчитана на такие переходы, и мы либо утопнем, либо сдохнем в море.
- Измена! - орал толмач.
Стоян недовольно отмахнулся рукой. Парусник вильнул в сторону, почувствовав секундную свободу, и волны тяжко обрушились на палубу.
- Взять рифы! - хрипло крикнул капитан, и матросы бросились убирать паруса.
Полуоглушенный толмач низвергнулся вниз, зашибся, но сразу же, подобно кошке, вскочил. И увидал впереди себя качающегося Искандера.
Все спрессовалось здесь, в узком коридорчике - все последующие крутые перемены и события, явь и измены.
Толмач выхватил из-за сапога кинжал и метнул его в Искандера. Но то ли промазал, то ли Искандер успел увернуться. Сталь с треском вошла в дерево. Парусник снова качнуло, дернуло, накренило, разбросав противников. Встретились они у двери каюты, сцепились, и вновь их швырнуло, но уже внутрь каюты, откуда первым, с ятаганом в руке, снова выскочил толмач. Серый утренний свет стоял в коридорчике, в задраенной каюте же было темновато.
Искандер шагнул из каюты, отразил своим ятаганом удар толмача. Изогнувшись в боевых позах, враги застыли друг перед другом.
- У нас на паруснике есть пленный русский офицер, - вдруг неожиданно зашипел толмач.
- Удивительно, как он сюда попал.
- Мы просто не ведали, Искандер, что кроме нас еще везут пленного русского.
- Ну и?
- Я тебе его сейчас покажу.
- Кто же этот несчастный и куда его везут?
- Это русский поручик Александр Самарин, и ты его скоро увидишь. Хочешь посмотреть?
- Доставь удовольствие.
- Доставлю. А везли его тоже в Стамбул, под охраной. Продать в рабство. Так что на корабле мы не одни.
- Горю желанием увидеть доблестного русского офицера, по несчастью попавшего в плен.
- Гори. Но сначала я сведу с тобой счеты, о несчастный!
Толмач - человек не военный, но владеть ятаганом умел, жизнь научила. Но и Искандер знал ятаган благодаря науке старого янычара.
И они схватились, скрестив со звоном ятаганы, запрыгав в узком смертельном пространстве коридорчика, куда сверху бил сумрак рассвета.
5. Кто вы, поручик Самарин?!
- Проходите, поручик, не стесняйтесь, - сидевший за столом полковник дружелюбно улыбнулся и сделал приглашающий жест в направлении стула. - Столько перенесли и испытали, а тут вдруг растерялись. Двигайтесь, двигайтесь ближе. Ну вот!
Полковник откинулся за столом, небрежно отодвинул от себя какие-то циркуляры, механически переложил на край стола папку, после чего с любопытством взглянул на сидевшего перед ним человека.
Полковник был немолод, но молодцеват и подтянут. Чувствовалось, прошел боевую школу, а теперь вот волею судьбы заброшен на это место - в следственную комиссию Военной Коллегии. Трудно сказать, повышение это для полковника или теплое место к старости, когда, наконец, оценен его опыт и воинские заслуги... или же та лазейка, куда спихнули его недоброжелатели, избавившись от «неудобного» офицера и вроде как предоставившие ему одно из уважаемых мест в российской армии. Лицо полковника, дубленое и обветренное в былых походах, однако, не потеряло живости и интереса - в серых глазах таилась ирония, полуседые бакенбарды аккуратно обрамляли лицо, золотом блестели эполеты на плечах, на чистом и свежем мундире небольшой, но приличный набор орденов и медалей.
- Приступим, поручик?
- Да, господин полковник, я готов. Сколько раз и сколько дней я отвечал на вопросы членов комиссии, что уж сейчас и не представляю, на что ж я еще не ответил. И когда закончится следствие по моему делу?
- Рад вам сообщить, что следствие закончено и комиссия пришла к определенным выводам, которые в общем благоприятны для вас. Однако не будем забегать вперед, но и не будем сильно обнадеживаться. Ваше многомесячное мучение кончилось и выше голову, поручик!
- Благодарю вас! - последовал кивок.
- Не стоит благодарностей. Комиссия, перед тем, как сделать окончательный вывод по вашей дальнейшей участи, поручила мне провести с вами беседу. Неофициальную. Если можно сказать - итоговую. Еще раз обговорить, в общем, уточнить кое-что, услышать ваши мнения и суждения. Вы все больше отвечали нам на вопросы, а сейчас попробуйте порассуждать.
- Как мне вас называть?
- Как и называли. Комиссия благосклонна к вам и вашей военной службе, но как и что - решит позднее.
- С чего начнем, господин полковник?
- Как вам удобнее господин поручик. Но, думаю, хоть вопрос и прозвучит риторически, начнем именно с него - кто вы, поручик Самарин?
- Кто я? Я - офицер российской армии. Драгунский поручик Александр Борисович Самарин. В сражении у реки Кагул летом семидесятого года попал в плен туркам.
- Да, да, сие нам уже известно и разбираемо. В плен вы попали раненым?
- Я уже говорил - тяжело раненым и без сознания. Просто так я бы не дался.
- Верим вам. Ваши показания подтверждаются вашими сослуживцами по полку.
- Из них кто жив?
- Не буду скрывать - мы разыскали кой-кого, сделали запросы. Ваша правота подтверждена офицерами Назаровым, Поляковым.
- Они живы? Где?
- Вам повезло - свидетели живые. А как же иначе? Поляков в отставке, проживает в своем имении, а Назаров продолжает служить. Я вижу ваше нетерпение, - хочется узнать о сослуживцах? - но, поверьте, всему свое время и не будем отвлекаться.
- И вы не хотите сообщить мне об их дальнейшей судьбе?
- Это не входит в мои обязанности. Найдете их сами, в противном случае ваша заинтересованность ими, поручик, становится назойливой и подозрительной. Итак, вы попали в плен. Как ваше самочувствие на первых порах?
- А его не было. Что может чувствовать безгласное и бессознательное бревно, не помнящее родства и своего леса?!
- Вас в тот момент заставили принять ислам?
- Нет, позднее, когда я кое-как пришел в сознание и уже начинал соображать и кое-что понимать.
- Насильно заставили принять ислам?
- Меня и не спрашивали. Побормотали надо мной, помахали книгой, спели - и объявили, что готов новый мусульманин. Я сначала и не понял, да и не придал значения.
- Значит, вы отказались от нашей православной веры?
- Был им, остался и остаюсь. Все прочее, что со мной произошло в турецком плену, считаю насилием, нелепостью и надругательством над собой.
- Что ж, ответ достойный. Какой же сейчас вы веры?
- Православный.
- Вы были в плену несколько лет.
- Три года, если точнее.
- Срок достаточный, чтобы правильно оценить военную мощь и возможности турецкой армии. Слаба?
- Не сказал бы. Сильна и напориста. Но менее организованна. Скорее заорганизована и толком не знает, что от нее требуется и кого ей слушаться. Но опасно, голыми руками и шапкозакидательством турецкую армию не возьмешь.
- Интересно, интересно. Чем же мы, русские, бьем ее?
- Правотой своего дела. Своим стойким солдатом. Тактикой. Ибо трудно победить русского солдата.
- Значит, одни победы?
- К тому и стремимся, господин полковник. Нас, русских, трудно сломать.
- Похвально, похвально, молодой человек. Сколько вам лет? Двадцать четыре. Еще не муж, но уже далеко не мальчик. Не сломал вас плен. А насчет ваших рассуждений о турецкой армии - есть зерно истины. А о русской армии - дай-то бог не знать нам поражений! Есть еще что сказать?
- Можно многое сказать о русских и турках, но основное я высказал. К чему излишества?
- Скажите, вам легко даются языки?
- С детства в успехах не замечен. Нужда заставила. Я понял ваш вопрос, господин полковник, и отвечаю. Вы согласитесь со мной, что вступая на новые земли и участвуя в продолжительных военных кампаниях, волей-неволей начинаешь запоминать и понимать отдельные слова, целые фразы на незнакомом языке и даже понимать речь пленных и разговор противника в бою. Мне запомнились отдельные молдавские слова и фразы, я понимаю, хоть и плохо говорю, болгар, несчастных подданных Османской империи. Мне вдолбили турецкий язык, твердя, что я урожденный турок - это в том состоянии, когда я был еще нем после рождения и был в потере памяти... уже потом вернулось ко мне мое «я», мои память и сознание себя.
- Да, показания пленного турецкого толмача и болгарина Ангелова говорят в вашу пользу. Шторм вынес ваш парусник к берегу, где находились русские войска, удалось спасти часть ценностей, которые пойдут в казну.
- Что бы еще вы хотели услышать от меня, господин полковник?
Полковник глядел на подследственного. И не видел на его лице ни тени смущения. Видел лишь уверенность в словах поручика, вроде как даже и не доказывающего, а скорее повествующего о своей правоте поведения в плену, плена вынужденного, и тем не менее не бездеятельного, а с активным и невидимым участием в дальнейшем сражении поручика против турков. Да, полковник не раз присутствовал на опросах и допросах бывшего российского поручика в ходе следствия, слышал, знал и помнил многие его ответы... И тем не менее сейчас, в ходе простой откровенной беседы был еще раз поражен мужеством поручика, которого вновь попросил поведать спокойно и обстоятельно, однако не вдаваясь в подробности, о своей одиссее, объяснить причины и следствия плена, рассказать о своем поведении и действиях во время вынужденного плена.
И Самарин рассказывал. Глядя на него, одетого в поношенный офицерский мундир с чужого плеча без знаков различия, вид которого, казалось, не смущал поручика, полковник, сам прошедший, огни, воды и медные трубы, начал замечать, что начинает где-то в тайных уголках своей души завидовать и сочувствовать Самарину.
... У реки Кагул в завязавшемся сражении я был при весьма странных обстоятельствах ранен. Помнится, все происходило на узкой длинной полянке с закрывающими обзор кустарниками и чахлыми деревцами, где мы тихо ехали с капитаном Назаровым параллельно колонне. Вот тут и подвернулись турки. Получив два смертельных ранения и не получи я быстрой лекарской помощи, у меня бы оставалась одна дорога - прямиком в рай. Или в ад. Но турецкий «коновал», в чьи заботливые и умелые лапы я попал, был знатоком своего дела. Да и организм мой оказался цепким, не хотел идти червям на корм. Мудрый турок-лекарь долго колдовал надо мной, вначале спасая мой организм от боли какими-то пользующимися у них известностью порошками. Потом я долго не мог отвыкнуть от них, приохотившись, но лекарь отучил все же меня. Это - опиум и прочая дрянь. Потом меня, безгласного и тупого, стали отуречивать. Кому и для чего я понадобился - я не интересовался, ибо даже не было сил и духа понять происходящее. Не было у меня в тот момент ни памяти, ни голоса. Конечно, сейчас надо бы благодарить судьбу, бога, провидение и своих ангелов-хранителей за сохранение жизни! А тогда? Что за судьба меня ждала - служить турку?! Что касаемо нашего бога - так сделали меня мусульманином. А в качестве ангелов-хранителей приставили ко мне лекаря, толмача и старого янычара - святую троицу, как прозвали их. А в чем же выразилось провидение? Уж не в образе ли Ахмет-паши с его дьявольскими мечтами сотворить из меня безродного турка и своего слугу...
Лекарь, похоже, испытывал ко мне симпатию и не раз предохранял меня от ударов судьбы и гнева Ахмет-паши. Сам того не замечая, а может и наоборот, своим поведением и рассказами он растравливал мое воображение и мое не проснувшееся «я». В общем, лекарю я должен сказать спасибо.
По прихоти Ахмет-паши я стал турком, мусульманином и Искандером. Обличье мое подделали под турка, но что-то, еще непонятное внутри меня, сломать не смогли. Своими подозрениями и тупостью приемов в обучении турецкому языку толмач меня подталкивал к пробуждению. Да, мои предыдущие знания турецкого были малы, но когда немому говорят только по-турецки, а вокруг тебя по-другому и не говорят, то волей-неволей начнешь понимать и познавать незнакомый язык.
Я был до своей трагедии кавалеристом - я понял и вновь открыл это для себя. Старый янычар, обучающий меня, восторгала моими успехами. А что тут особенного? Я и был неплохим стрелком и рубакой... стал вообще неотразимым...
ЭПИЗОД из прошлого, забытый и не рассказанный Самариным:
- Покорим турка, обязательно покорим, - с ликованием восклицал Самарин, с высоты обозревая расстилающиеся перед ним просторы.
- Да не турка... славян, - усмехнулся Назаров. - То земля молдаван и славян. Ее, что ли, их земли, отберем у турка и покорим себе, ее высочеству России?
- Мы несем им освобождение, господин капитан. Да и люди мы военные, приказ есть приказ.
- Ну-ну, - Назаров снисходительно улыбнулся. - А скажите, поручик: зачем вам чужая земля? Своей не хватает, нет своей у вас? Что вы с ней будете делать, для чего она вам?
- Не мне, не мне, господин капитан - России, ее могуществу. Объединим славян под одну сень, будем сильны.
- А хотят ли они того? Им, может, все равно...
- Нас не спрашивали, хотим мы сюда идти или нет - нас двинули. Ну и мы спрашивать у них - всех! - не будем, - загорячился Самарин.
Назаров в ответ промолчал. Подумал: «Своих проблем хватает на родине, а несет же нелегкая нас почему-то сюда. Иль так хорошо уже стало в России? Твердят, что эти места в чисто историческом отношении сложились как славянские - как проверишь, ибо все можно вывернуть так, как надо отдельному человеку, трону, государству, союзу».
И все же я не мог избавиться от косых взглядов толмача и старого янычара. В чем дело? Делаю успехи, а они не рады и подозрительны. Значит, дело нечисто, и причина того именно во мне, так? Какая? Кто же я?
Меня включили в состав особого отряда Ахмет-паши. Я стал карателем. Забегая вперед, отмечу: когда я уже узнал кто есть кто, я рубил при любой возможности турков, «своих невольных земляков». Другого за излишние такие действия по головке бы не погладили, мне же проходило, хоть и со скрипом. Я порубил, находясь в особом отряде, более двадцати турецких солдат, пользуясь любым случаем, мстя им и всему миру за мое поруганное достоинство и невозможность побега, так как следили за мной и оберегали меня крепко и плотно.
Сражаясь с русскими, я никогда не лез вперед и отсиживался сзади, но само собой слышал русские слова и фразы. И понял, что я знаю и знал русский язык. Откуда такая уверенность? Сражаясь с противником - только тогда познаешь его язык. А у меня? Участвуя в составе турецких сил против русских, я, оказывается, уже знаю русский язык. Как так? Может, поэтому я и не лезу вперед, не хочу рубиться и стреляться с русскими? Я им брат и их человек?!
И вот я, вырвавшись однажды вперед, показывая чудеса владения ятаганом против группы русских кавалеристов, прогнал их с поля боя. Что я делал? Искал смерти или спасал русских... был ранен, упал с коня и ударился головой, получив контузию. Угрюмо раздумывая потом, я нашел ответ на свое поведение - нет, я не хотел смерти, я искал свою утерянную истину. Я понял, что меня тянет в побег, к русским, ибо я - русский, поручик Александр Самарин, как ответила мне моя восстановленная память. Как говорится, знать бы где упасть... Не было печали, да несчастье помогло.
После контузии я стал русским и... турецким офицером.
Лекарь, видно, начал догадываться о моем состоянии. Бедный старик не знал как удержать меня и подстроил мне свидания с одной из невольниц. Любил я ее. Кто знает, что с ней сейчас. Сына обещала.
Мысль о побеге крепко застряла в моем мозгу. Но как его осуществить? Самое лучшее и простое - перейти к своим в ходе боя.
Мне жалко старого янычара, моего учителя, которого я зарубил. Двоих других спагов, сопровождающих его, я не жалею - туда им и дорога. Любил меня старый янычар и восхищался, а я... Как я его ненавидел и просил в душе, чтобы он не лез в тот момент ко мне на помощь. Но не услышал мой глас и поплатился. Впрочем, по-другому и быть не могло, ибо тот русский, которого я спасал, был не кто иной, как мой бывший однополчанин Углов. Я - русский, и долг мой - спасать русского. В круговерти сражения, как я понял, никто не заметил моей кровавой вакханалии. Занесенный надо мной клинок Углова то ли промахнулся, то ли еще что, но только я остался жив, а конь был ранен. Углов, скорее все го, в турецком офицере меня не узнал, а то, может, и забрал бы меня с собой, вытащив из-под завалившегося коня. Получилось, что капитан и двое с ним ускакали, а меня извлекли подоспевшие турки. Или углов узнал меня и пожалел как изменника? Тогда страшно.
Самарин замолчал. Надолго. Давила гнетущая тишина. Но полковник не торопил ни жестом, ни словом.
- Расскажите вашу родословную, - наконец нарушил долгое молчание полковник.
- Родословную? Она у меня короткая и ясная как божий день: дворянин в третьем поколении...
- Петровский, что ли? - полковник поморщился, как от тупой зубной боли.
- Да, мы, Самарины, дворяне со времен Петра! - с вызовом ответил поручик. - И здесь нет ничего зазорного, скорее наоборот - кровью и потом нам досталось дворянство, а не родовитостью и шаркунством.
- Не нам с вами об этом судить. Да и молоды вы еще, так что пожалейте себя, - сухо обрезал полковник. - Давайте ближе к делу.
- Из семьи военных. Офицеры. Дед - петровских времен. Про отца моего можно сказать, что он елизаветинских времен. Ну а я - екатерининской эпохи.
- Что ж, похвально, поручик. Отец еще служит?
- Подполковник в отставке. Участвовал в прусской войне.
- О, прекрасное было время! Чувствую, я постарше вашего батюшки, и уж я-то, поверьте, знаю, что почем было тогда. Вместе, значит, с ним воевали. Помню, в Берлин входили...
Полковник вдруг спохватился, крякнул.
- Н-да, не в ту степь беседа наша повернула. Увидитесь - передавайте ему от меня привет, может, слышал он обо мне.
- Если увижусь, то передам обязательно. Но есть ли надежды?
- Но-но, поручик, не отчаивайтесь. Бывает хуже, но реже, ха-ха! Все же «облегчили» - перевели под домашний арест, это ли не лучшее доказательство?! Писали родителям, что вы живы и здоровы?
- Известил только, что жив. В объяснения не вдавался, считаю рано и не все еще ясно. Написал, чтобы скоро не ждали, о приезде извещу дополнительно.
- Разумно, разумно, поручик, но, согласитесь, все же суховато.
- Другого ничего не придумал.
- Батюшка ваш - человек военный, ему надо было объяснить. Он бы понял.
- Да, он бы понял и, возможно, остался бы доволен сыном, немного попеняв. Но есть еще матушка, пред натиском которой, как и любой мужчина перед женщиной, он бы сдал и был вынужден рассказать правду обо мне без утайки. Матушка не выдержит.
- Все в руках божьих! Решайте это сами. Однако вынужден заметить насчет вашего высказывания о дворянстве, которое вы обвинили в родовитости и шарканиях по паркету. Я, к слову, тоже дворянин, род веду издревле, сим и горжусь. А кто же еще, как не дворянство, состоящее на военной и штатской службе, послужит Российской империи и делам ее? Вы готовы обвинить всех и вся, а ведь и вы тоже получили уже готовое дворянство и еще не отработали его своими деяниями, не доказали еще большую полезность своей службы. Если вы и далее будете так рассуждать, то это может для вас плохо кончиться. Прикусите язык, молодой человек, одумайтесь, прежде чем ляпать о «дворянских выскочках и шаркунах». Так можно смешать с грязью и великих Потемкина, Орловых, многих других.
«Дед, где ты?» - возопило внутри Самарина.
- Но давайте ближе к делу, - продолжал полковник, - меня интересует, как вы отнеслись к сообщению толмача, которое он вам выдал во время вашей схватки на паруснике. Помните, он сказал вам, что везут пленного русского офицера Самарина. Поясните сей момент.
- Как отнесся? Очень просто. Вначале даже не принял к сведению, так как уверовал в то, что для других я турецкий офицер Искандер. А Искандер и есть Искандер, свою двоякость турка-русского я вроде не успел нигде показать, глубоко веря в непогрешимость созданного мною же самим образа бесстрашного и жестокого офицера Искандера.
- Но все же вы поняли угрозу, надвигающееся разоблачение?
- Не успел, хоть и начало смутно доходить. Спас шторм и сильная качка, расшвырявшая и после продолжающая швырять нас по сторонам, катать и бить обо все подряд. Обоим нам стало не до выяснения счетов.
- И все же откуда толмач узнал, кто вы такой, что вы были русским и остаетесь в душе им? А как быть с остальными двумя из вашей «святой троицы»?
- С полной достоверностью мне дать ответ нет возможности.
- Тогда попробую я. Со стороны оно вроде виднее. Как говорится: каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны. Итак, их трое - лекарь, старый янычар и толмач; остальные нас не интересуют, хотя и они тоже полны в отношении себя догадок, кой-каких сведений, сплетен, считая и предполагая, что израненный человек в русском мундире - это пленный, или турецкий шпион, или изменник, или, наконец, черт знает кто или всё сразу вместе. Окружение это, конечно, не молчит, шепчет, обменивается мнениями насчет тебя - хоть и боится оно Искандера, но продолжает злословить в его адрес во многие уши любопытных. Но да оставим толпу в покое, возьмемся за интересующую нас тройку. Используя данные допросов толмача, поручика Самарина, плененных ранее турков и еще кой-какие просочившиеся до нас известия, можно сказать следующее: лекарь не знал, кто есть на самом деле Искандер, и мог только догадываться, ибо никаких документов, бумаг и личных вещей поручика Самарина не видел и в глаза. Старый янычар также не знал правды Искандера и не мог даже строить какие-либо греховные догадки, лишь изредка замечая и недоумевая по поводу отдельных поступков своего подопечного. Совсем другое - хитрый и изворотливый толмач, строивший свою жизнь и успехи на интригах и дворцовой возне. Лекарь видел что-то такое, что потом было уничтожено, но явно говорило, что перед ним русский поручик Александр Самарин. Другое дело - кто он, Самарин, в какой роли? Отгадку он получил во время одной из схваток с русскими, наблюдая за ней из «засады»...
- Он видел, как я зарубил старого янычара? - вздрогнул поручик, холодея запоздалым диким страхом.
- Да. И подтверждает это сам точными и совпадающими подробностями.
- Подлец!
- Поручик, не смешите. Надо понять толмача, ведь он боролся за свою шкуру, вел игру на выживание, а это, как вы знаете на собственном опыте, не так просто в турецком стане. Теперь окончательно убедившись в вашей двуличности, Самарин, толмач имеет и бережет сей козырь. И вот когда осуществилась идея Ахмет-паши по «караван-экспедиции в Стамбул», он, возможно, хотел идти ва-банк: срубить изменника, свалив все беды на него, и завладеть драгоценностями. Но что с пакетом? Пакет нужен был толмачу как воздух - зная, что в нем, он бы точно выбрал время удара. Доступно я объясняю?
- Вполне, господин полковник.
- И все же то, что я сейчас рассказал о «святой троице», возможно, является лишь догадкой. Чистой правды из них троих нам никто не расскажет: один убит, другой далеко, третий юлит. Но углубляться пока не будем, а перейдем к следующему.
- Как я понимаю - к заключительному этапу, когда я был втянут в «мудрый ход» Ахмет-паши и стал гонцом турецкого паши!
- Да, но прежде чем переговорить и уточнить ваше, поручик, триумфальное шествие в Стамбул, а также рассказать вам о нынешнем состоянии толмача и Стояна Ангелова и касающихся всего этого деталей и событий, проведем... проведем вот что...
И резко скомандовал. Так, что возражений не принималось. Громко и жестко сказал:
- Сидите молча. Не вскакивать. Эмоций не проявлять.
И в сторону дверей кабинета:
- Заводите!
Самарин тяжело влип в стул. В кабинет вошел офицер с рукой на перевязи.
Секунда гробового молчания. И два скрещенных взгляда - в двух парах глаз мучительное воспоминание и огромное напряжение.
Самарин, видя расплывшимся вдруг взором только лицо вошедшего, медленно поднимался, а на него, широко растопырив руки, с расширенными глазами надвигался раненый офицер, забывший сразу про рану руки и связанные с ней неудобства и видевший сейчас только того, кто спас ему жизнь в той схватке с янычарами.
- Господ-д-дин капитан!
- Майор. Уже майор, голубчик! Майор я, Саша. Самарин, дорогой, жив? А я-то думаю, зачем меня вызвали из госпиталя... ведь в отпуск уже собирался, долечиваться и отдохнуть. Так это ты был? Там? Ты?! Спасибо, спасибо. Век не забуду, в долгу перед тобой. Дела тут с турком заканчиваются, на службу вновь скорее попаду в другой полк - повышение обязывает, но, дай бог, свидимся... вот где меня искать... у своих в поместье... Ты запоминай, хочу увидеть тебя!
Прозвучал ровный ироничный голос полковника:
- Господин майор, вы не позаботились даже узнать, с кем имеете честь говорить. Может, сей офицер обвиняется в измене? Не боитесь замарать свой мундир изъявлениями благодарности в его адрес?
- А мне плевать на условности: Самарин спас меня, и я благодарен ему. Да и не верю я в измену поручика. От показаний своих, данных вашему следствию, я не отказываюсь: Самарин был ранен, мы его искали и не нашли, значит, он пропал без вести или был увезен в плен. Потом весьма необычно нам пришлось свидеться - «там» были именно я и он.
- Продолжайте... свидание. Опознание закончено, - полковник, не меняя выражения лица, отвернулся в сторону.
- Как там наши, Углов?
Вопрос Самарина смутил майора, и он поник головой.
- Плохо. Плохо, Саша. Остался только Воронов.
- Только Воронов???
- Поляков у Кагула был ранен и сразу ушел в отставку. Писал нам и часто вспоминал тебя, спрашивал, что известно, нет ли про тебя обнадеживающих вестей. Женился, хорошо живут. Приглашал часто в гости, да вот все некогда. Ты заедь, заедь к нему, вы ведь друзья были. Почему «были», что я говорю! Вы ж друзья, помнишь, где он обитает?
- Помню, помню.
- А меня вот под занавес подранило. Но ничего, были бы кости - мясо нарастет.
- А что-о же-е с-с На-а-за-а-ро-о-вы-ы-ым?
- О, Назаров как заговоренный. Всех побило и поранило, а его и пуля не берет. Командует по-прежнему, майором стал. Дома дочка у него растет, ей уже 14 лет исполнилось, пишет отцу. Да ты ее должен помнить по рассказам самого Назарова. Вспомнил?
- А, - рассеянно кивнул Самарин, - вроде как помню. Значит, не берет На-за-ро-ва пуля? Ну-ну.
- Куда ты сейчас, Александр?
- Трудный вопрос. Судьба предполагает, а свинья располагает. Куда прикажут!
- Господин майор, - сухо проскрипел голос полковника, - вы свободны. И потрудитесь отбыть, не задерживаясь. Счастливой дороги и удач вам, майор!
Углов потемнел лицом, вытянулся, щелкнул каблуками - жалобно звякнули шпоры, взглянул последний раз непонимающими глазами на Самарина и стремительно вышел.
- А теперь, поручик, о вашем рейде в Стамбул. Шли в столицу Османии-Оттомании, вышли на занятое русскими болгарское побережье моря. Я слушаю вас.
- ... Всю дорогу я тщательно берег пакет, который вручил мне Ахмет-паша для султана.
- Поручик, можно я перебью вас и пошучу с вами: вы здорово переживаете, что не попали в Стамбул и не повидали столицу Османской империи, не встретились с самим султаном? Ведь это поистине драматично - больше не будет такой возможности, резкого стечения обстоятельств!
- Я бы с большим удовольствием еще раз повидал Петра Александровича Румянцева, под командованием которого мы сражались у Ларги и Кагула. Кстати, одно время у Румянцева был и мой отец Борис Иванович, воевал под его командой.
- Да-да, - почему-то перекосился при новом упоминании о прусской войне и Румянцеве полковник. - У меня там были в сей момент кой-какие неприятности. Не все в нашем мире гладко, как бы нам того хотелось. Но для вас это обстоятельство только к лучшему, как видите. Украшает, с хорошей стороны говорит. Как видите, дороги и судьбы человеческие пересекаются... мир тесен. Так, я вас перебил, мы говорили о пакете.
- Вскрывать пакет я не то чтобы боялся, скорее не рисковал. Мой «путь» в Стамбул мог в итоге сложиться для меня не так благополучно, как сложился к настоящему времени - что, если бы я все же попал перед светлые очи турецкого султана, попал со вскрытым пакетом? А в верхнем эшелоне турецкого государства слишком уважают и чтут тайну переписки, чтобы простить нарушителя.
Я не знал содержимого пакета. Что там - говорится просто о дарах? Упоминается и каким образом обо мне? Или я должен был сдать груз, как кающийся грешник-разбойник и после этого посажен на кол, чем спасти и возвысить звезду Ахмет-паши, так?
- Не знал о содержании пакета и приставленный к вам толмач. Так что смело можно говорить о смелом и коварном ходе Ахмет-паши, - задумчиво сказал полковник. - Нераскрытый пакет гарантировал вам зыбкое неустойчивое равновесие в вашем отряде: на одном фланге - вы, в противовес вам - толмач, в центре, как болото или как стержень - охрана из четырех человек.
- Кто же преследовал нас и шел за нами по пятам, господин полковник?
- О, вы уже начали задавать мне вопросы! Но я отвечу вам. Вынужден, чтобы склеить общую картину. Комиссия сделала такие предположения: вас хотели ограбить с целью наживы те, кто узнал о ценностях вашего каравана, или же за вами шли шпионы Ахмет-паши. Но мне здесь не все ясно: зачем Ахмет-паша пошел на риск, рекомендовав вам выбор пути - одного сухопутного или же комбинированного сушей и по воде? Не с целью ли убаюкать ваши подозрения... неужто он не знал, кто вы есть на самом деле и что вы можете сделать что-то из ряда вон выходящее? Но толмач и пакет склоняли чашу весов в его пользу, в пользу расчета Ахмет-паши. Да еще не забудьте про охрану, целых четверых, против которых вам было бы трудно противостоять, кабы не перестарались ваши преследователи (убив одного стражника), если бы вы не стравили охрану (оставив стражу наедине с драгоценностями, где был убит еще один стражник), да не попадись вам такой прожженный, но честный делец как Стоян Ангелов, с которым, как я понял, вы бы все равно договорились об изменении направления плавания (шторм вам помог, а потом Стоян согласился с вами идти к северу, в русскую зону побережья). Но пакет, когда уже спасение близилось, выпал за борт из вашего разорванного мундира, извиняюсь, одежды и пропал, утонул. На том и точка. Многие видели этот момент и подтверждают правдоподобность сцены. Большего мы, к сожалению, не имеем и сей пакет остается для нас за семью печатями. Как видите, господин поручик, я рассказал все вместо вас. Есть дополнения, пояснения у вас?
- Нет. Так и было, со всем я согласен. А выводы и следствие по пакету и другим обстоятельствам - дело ваше, я был занят лишь одной мыслью - пробиться любым путем, любыми средствами к своим.
- Что вам и удалось, так и не повидав турецкого султана, властителя обширной Османской империи.
- Я вам говорил, господин полковник, что хотел бы с большим удовольствием и благочестием повидать тех, кто более мне по душе, кто вершит нашими делами и судьбами.
- Кого же именно? Я вас начинаю не понимать, господин поручик.
- На этот вопрос мне ответить куда уж проще. Ваше внимание, господин полковник, направлено сейчас только на суть моего «дела» и не вырывается далее, скованное служебными рамками. А мне хочется более, я хочу летать...
- Что??? Летать? Ну-ну.
- Душой парить. Узнать и поучиться у Суворова его науке и победам... столько про него говорят в армии. Восходящая звезда воинского искусства?
- Если не больше, - буркнул полковник. - Сей человек не от мира сего, будто он создан не для жития и бытия, отвергнув его начисто, а для войны и солдатских артикулов. Много про него сплетен ходит, но надо отдать должное Александру Васильевичу...
- Увидеть и преклонить колени пред нашей императрицей Екатериной, дарящей столько благ дворянству.
«Которая разбаловала вот таких дворянчиков? Или этот другого замеса?» - полковник смотрел на Самарина.
- А с Пугачевым вам бы не хотелось встретиться?
- М-м?..
- Интересный тип, бунтарь. Возомнил из себя императора Петра III. Да вы слушаете меня, поручик? Ваши мысли и думы, я вижу, далеко... А зря!
- Почему меня должен больше интересовать какой-то Пугачев, а не моя собственная судьба?!
- Да вы знаете ли, господин поручик, кто такой Емелька Пугачев?
- Слыхал-с краем уха. Великий смутьян и душегуб.
- Во-во! Правильно говорите - великий смутьян. Давно Россия не порождала таких ужасных людей, к коим можно причислить Пугачева. Что стоит ваша судьба, если решается судьба нашей России! Грош цена вам и дальнейшему вашему благополучию, коль на поверхность мутной воды выплыл такой смутьян, как Пугачев. Поэтому и не отделяйтесь от судьбы дворянства и России в сие тяжкое время, ибо вы и есть песчинка этого мира. А вы про какие-то мелочные переживания свои толкуете.
- Все дерутся за Россию... только за свою Россию, Россию своего образа и бытия, - глухо сказал Самарин, сказал, не возражая и не доказывая что-то, адресовав высказанное даже ни себе, ни полковнику.
- Глубокомысленно. Едко сказано. Горькая пилюля, заставляющая задумываться? Сейчас придумали, кто подсказал или чем навеянная мысль?
- Моя шкура в плену и в ходе следствия родила такую мысль.
- Н-да, ну и дела, поручик. Не так ты уж и прост, поручик. Чует мое сердце, далеко пойдешь... глубоко копаешь. Смотри, могут остановить, иль сам споткнешься. Или помочь... споткнуться?
- Не надо, господин полковник! Просто мысли дурные лезут. Может, пройдет. Куда я из своих саней денусь...
- Верно. Так вот, немного об Емельке Пугачеве. Не так уж он, Емелька, прост, эта российская зараза, порождение мужицкой вольницы. И хоть широк его размах, но найдется на него управа... двор напуган размахом и предпринимает все возможное, тем более турецкая война завершается.
- Так ли уж грозен Пугачев?
- Грозен - не грозен, а вояка опытный. В юности, да и потом повоевал казаком за Россию... за нашу Россию с тобой, поручик. Теперь-то Пугачев бешеный. А ведь он участвовал в войне с Пруссией, Турцией. А, каково?
- Вот это да!
- Да, получается, что он чуть ли не наш с вами военный коллега.
- Почему «чуть»?
- А потому, что пути его и наш разошлись. Вы согласны со мной, господин поручик?
- Трудно что к этому добавить. И нечего возразить.
- И все же, господин поручик, я не услышал в вашем ответе завершающей ноты.
- Так ли уж она важна? Как прикажут мне Россия и императрица, так и буду делать.
- Удовлетворен вашим ответом. Что-то вас интересует еще? Не стесняйтесь, спрашивайте.
- Меня интересует судьба парусника и его людей. В момент снятия с него я потерял сознание от сильных ударов.
- Опять о том же. Зачем вам знать про серых людишек? Но отвечу. Стражники, оказавшие сопротивление, убиты. Парусник требует небольшого ремонта, после чего Стояну Ангелову и его экипажу позволено уйти на нем к родным берегам, как того они пожелали сами после выдачи им небольшого вознаграждения. Ваш ценный груз, предназначенный для турецкого султана, сдан в российскую казну. А толмач... Как лицо невоенного сословия, но вроде как плененное и составляющее военную добычу... Как с ним поступить? Он, кстати, часто спрашивает о вас... мне даже иной раз кажется, уж не ревнует ли он вас к России? Смешно? Но, может, недалеко и до истины? Мы оставили его у себя в качестве военного переводчика.
- О!
- А знаете, мне кажется, что он здорово вас уважает. Ведь от ненависти до любви один шаг. Такими бывают натуры страстные и увлекающиеся.
- Вы неплохой психолог, господин полковник.
- Жизнь обязала. Да и пост обязывает, поручик, - ехидца, как и когда-то ранее, прозвучала в голосе старшего офицера, ведущего последний момент-разговор и беседу-следствие по «делу Самарина».
... Приговор (постановление) по делу (следствию) драгунского поручика Александра Борисовича Самарина, дворянина, проведшего три года в турецком плену, силой окрещенного в мусульманство, произведенного в звание турецкого офицера (стечение обстоятельств).
На основании: заключения врачей по поводу ранений вышеназванного поручика, серьезности ранений и последствий их в сознании и действиях вышеозначенного поручика; показаний офицеров Назарова, Полякова, Углова - сослуживцев по полку; показаний плененного турецкого толмача, имеющего опеку над Самариным во время пребывания последнего в турецком плену; данных Стояна Ангелова, кормчего и владельца парусника, обязавшегося доставить Самарина, имеющего образ турецкого офицера и гонца турка Ахмет-паши; умозаключений военных специалистов; заключения вышестоящих инстанций; учитывая военную деятельность в нанесении урона турецкой мощи (силам) и активному подрыву, выраженному в уничтожении турецких солдат; принимая во внимание вклад турецких ценностей в российскую казну, стечением воли обстоятельств принесенный бывшим поручиком Самариным, бывшим турецким офицером; учитывая раскаяние и дальнейшее пожелание самого Самарина...
... следственная комиссия Военной коллегии Российской империи вынесла следующее постановление (предписание):
Александру Борисовичу Самарину, оставленному поручиком державы (империи) Российской, выдать за счет казны мундир, подобающий званию офицера империи великой; выдать предписание (сопровождение) отбыть, не мешкая, в армейские части, участвующие в подавлении восстания Пугачева; в гусарский полк; получить прогонные и право скорого беспрепятственного движения и скорости, с правом краткосрочного посещения родового поместья и родителей; от военной службы, если Самарин позволит себе ссылаться на указ 1762 года о вольности выбора в службе военной, не освобождать, как человека военного пригодного для России, а в противном случае разжаловать до рядового и сослать туда же... сроком до 5 лет.
Как видите, Самарину выбора не оставалось, гражданского пути для него судьба не предвещала. Но турецкая эпопея закончилась для него.
Конечно, поручику Самарину могло мниться, что его благодарят за мужественное сопротивление в плену, за его двадцать с лишним погубленных турков, за его драгоценности в казну российскую... Но ничего такого не было, не было фанфар и славословия ему... его... как бы это сказать поточнее... Не было ничего.
Он воспринял это как должное и заслуженное. Подумал: слава богу, пронесло, не было ярых подозрений и преследований. Но справедливо ли сие для офицера российского?
* * *
Странным и довольно оригинальным было знакомство Самарина с офицерами своего полка, когда он наконец нагнал полк, представился начальству, которое сухо и деловито просмотрело его документы, что-то там пометило себе и порекомендовало побыстрей входить в обстановку. В конце последовал дружеский совет:
- Поручик, вон в том большом доме стоит на постое большинство офицеров. Много среди них и боевых офицеров, есть и с турецкой кампании. Сходитесь с ними, начинайте понимать друг друга, там и пристраивайтесь пока. Узнайте, кто из офицеров с третьего эскадрона. Это - ваши, вы их командиром будете. Вид у вас зверский (почему такое угрюмое лицо, поручик?), опыт есть в боевых делах - приступайте к делу. Вы, я вижу, и простите за сравнение, как боевой конь топчетесь с места на место - значит, соскучились без настоящей военной работы. Тут, правда, нерегулярные войска противостоят, но дай-то бог нам помощи растоптать толпу бунтующую и добраться до их вождя-самозванца. И готовьтесь, готовьтесь, поручик - похоже, что дело начинает предпринимать стремительный оборот.
Самарин нашел указанный дом, постучался, обождал для приличия, но так как приглашения не последовало, то открыл дверь и вошел.
На него не обратили ни малейшего внимания, каждый из присутствующих продолжал заниматься своим делом и видно не имел ни малейшего желания отвлекаться по мелочам - славное офицерство, как понял Самарин, отдыхало от трудов праведных или, быть может, наоборот, набирало сил, духовных и физических, перед предстоящими испытаниями.
Самарин стоял у порога огромной комнаты и с любопытством осматривался. Зрелище было впечатляющим: по углам комнаты, сгруппировавшись в тесные кружки, сидя, лежа и стоя пили вино, сопровождая попойки тостами, шутками, выкриками и мерным рокотом бесед взаимных. Чуть в стороне от всех, полулежа на походном топчане, перебирал струны гитары капитан и что-то тихо и задушевно пел - благодарные слушатели, потные, в расстегнутых и растрепанных мундирах, благоговейно внимали певцу. Кто-то спал или лежал, бездумно уставившись в потолок; прямо напротив Самарина, у стены, под небольшим, прекрасным в бронзовой оправе зеркалом четверо игроков сосредоточенно метали карты.
Самарин закончил обзор, негромко, но отчетливо сказал:
- Здравствуйте, господа офицеры!
Чернявый молоденький офицерик на миг оторвался от карт, удивленно протянул:
- Ба, господа, кто к нам явился! Обличьем темен, будто бывший турок, но которого перед показом пытались немного обелить.
Самарин в ответ не повел и бровью.
- Я получил назначение в гусарский полк, к вам и назначен командиром третьего эскадрона. Прошу выслушать. Господа, я - поручик Александр Борисович Самарин. Теперь прошу представиться вас и офицеров третьего эскадрона.
- И откуда ж вас взяли, что прислали к нам, сирым и слабым, на помощь? Аль своего командира эскадрона не нашли бы... вроде есть достойные люди у нас, - подал голос чернявенький, с раздражением бросив карты и завопив: - Опять проиграл! Не везет.
- С турецкой войны прибыл, - спокойно ответил Самарин.
- Здесь есть и такие, - равнодушно сказали из какого-то полупьяного угла.
- И тем не менее, долг и вежливость повелевают вам ответить мне.
- К чему церемонии, поручик! Айда к нам, хвати бокал винца и на душе полегчает.
- Я не вижу проявления ко мне уважения и дисциплинированности, а также не слышу офицеров своего эскадрона.
- Ого! - изломал гневно бровь чернявый картежник. - Не успел за порог шагнуть, а командует и диктует свои условия!
- Вы не из третьего эскадрона? - безмятежно спросил Самарин.
- А хотя бы! - закипел чернявый.
Самарин аккуратно положил дорожную сумку на ближайший свободный стул, вынул пистолет и, не торопясь, навел его на меняющегося в лице скандалиста, потом чуть отвел в сторону и выстрелил. Завороженное общество не успело ему помешать. Осколки некогда великолепного зеркала со звоном посыпались на пол, мелким серебром брызнули по сторонам.
- Дуэль! - просипел едва живой и оскорбленный до глубины души картежник. - Немедленно!
- За вашей спиной висит, точнее, висело зеркало, где так хорошо видны ваши карты. И я решил вам помочь, слишком уж вы неосторожны.
- А новичок осторожен! Ой как осторожен, - захохотал кто-то из офицеров.
- Значит, они жульничали? - побелел чернявый.
- Но-но! - запротестовали ему в ответ соперники.
Самарин убрал пистолет в дорожную сумку и вытащил оттуда пачку денег.
- Сим компенсирую разбитое зеркало, умиротворяю игроков и вношу угощение для полного и красивого знакомства.
- Полноте, полноте, - утешали несколько человек чернявого, все еще порывавшегося к Самарину, - всё мелочи, не обращай внимания. Да тем более на своего командира, разве можно?!
К Самарину шагнуло несколько офицеров. Знакомиться. Но всех опередил капитан, так с гитарой и шагнувший к Самарину. Кивнув головой, назвал себя и представился:
- ... Являюсь командиром первого эскадрона. Вы меня потрясли, поручик. Удивили и порадовали. Скучно-с тут у нас... вино и карты.
Капитан отошел на шаг назад, оглядел Самарина, сказал с восхищением:
- Вот э-то го-лос у вас! Прошу ко мне.
Самарина тянули в разные стороны, приглашали в свои компании: послушать их, о себе рассказать. Перезнакомившись со многими, Самарин выбрал общество капитана. Разговорились.
- Перейдем на «ты»?
- С удовольствием, господин капитан. Соскучился в дороге без хорошего собеседника.
- Вы, надеюсь, знаете, для чего мы здесь?
- Да, известили.
- Ну и как вы относитесь?
- Трудно сказать. Не успел еще разобраться.
- В себе? Или в обстановке? Песню вам спеть, такую... «А вдоль дороги столбы, столбы...» Чуете, к чему клоню я? Вы с древним Римом, надеюсь, знакомы, так там Красс и Помпей что сделали с воинами Спартака? Во-во: «а вдоль дороги столбы, столбы...»
- Так к чему, капитан, тогда эти бессмысленные волнения и страсти?
- Откуда ты свалился, поручик? Как младенец. Все в мире просто и одновременно сложно и запутанно. К чему и зачем, ты спрашиваешь, эти постоянные волнения, недовольства и восстания? Человек в количественном отношении не один, и к тому же не един. Пояснить? Особей человеческих много, отсюда и множество разных мнений и учений. Да если еще к этому добавить, что каждый человечек в себе самом многолик... Представляешь, что получается? И люди, толпы, государства пробуют свои пути жизни... нет, нет, не пути развития, не какие-то там учения и теории, потому что из всего этого в итоге получается пшик и совсем не то, о чем мечталось, думалось и предполагалось. Много на человеческом пути препон, и путь человеческий поэтому не то что даже трудногадаем, а просто-напросто непредсказуем. Жить хочет каждый, жить хочет по-своему - и отдельный человек, и каждый род, и толпа, и город, и нация, и государство, и империя. Поэтому так и бесстрашно все они ворочают телегу истории, ибо нет в мире боязни, страха и трепета перед Ее Величеством Историей, Будущей Историей и другими вурдалаками человечества, в избытке потребляющими и пожирающими кровь человеческую, жертвы, города, нации и государства.
- Значит, все бессмысленно и нет цели?
- Да, цели нет: мы рубим и стреляем их, они убивают нас. Все бессмысленно, ибо сегодня побеждаем мы, завтра победят они, потом наоборот, и так до бесконечности. А где же полнейший абсурд, как не в бесконечность, бесконечности бессмысленной и бесцельной... бесконечности необъятной и непостижимой...
- Тебе не жалко несчастный народ?
- Мне, поручик, трудно их жалеть, ибо мне приказывают, а я убиваю их.
- И если не мы их, так они нас?
- Профессия военного должна быть аполитична. Зачем она, политика, для нас? И неужто за нас там некому подумать?!
- Значит, офицеру надо думать только о войне, и не думать о том, зачем она и почему?
- Не мели глупости, поручик.
- Может и на самом деле не надо. К чему усложнять жизнь. Но интересно бы понять...
- Пока ты в малых чинах - не ломай голову, так жить спокойнее. Иль враг себе?
- Чуть не нажил горя.
- Ну, вот видишь. Где произошло?
- Та-а-ам.
- Понятно. Эх, души наши - родимые калеки. Спеть тебе? Песню с турецкой войны привез. Ну, слушай. Жалобная она, что ли, но да вроде не похоже, аж за душу берет, бередит. В общем, про нас она, песня.
И запел капитан:
Кто вы, офицеры российские,
Как нам про вас рассказать?
Я знаю, что вы не мифические,
Но какими вас тогда показать?
... Элита армии - офицерство всегда играло и играет огромную роль в государстве. Против этого очень трудно возразить. Доказательств тому хватает. Офицерство было и есть оплот государства Российского, с его участием от дворцовых переворотов до участи в грандиозных сражениях и реализации жизненно важных вопросов России.
- Что, не согласен? - спрашивал капитан у Самарина на следующий день, когда закончилась мирная пауза у гусар и им предстояло вновь заняться своим прямым делом.
Возражал ли Самарин?
Кто, как не гвардия, помогла взойти на престол Екатерине II? Засияли новые «звезды» на российском горизонте - братья Орловы, Потемкин Григорий Александрович.
А скандальное дело, когда в 1764 году подпоручик Смоленского полка Василий Мирович пытался освободить из Шлиссельбургской крепости царственного узника - принца Иоанна, и последний был при этом убит...
Но главным теперь, в опасное для России время, был вклад офицерства и его великих людей в дело скорейшего завершения и подавления Пугачевщины.
По-разному складывалась обстановка для пугачевцев и дворянства. У каждой противоборствующей стороны были неуспехи и удачи, взлеты и падения.
Пугачевщина - в дворянском понятии - расползлась кровавым пятном: в Башкирии действовал Салават Юлаев, под Уфой - Чика-Зарубин, под Екатеринбургом - отряды И. Белобородова, под Челябинском - повстанцы И. Грязнова, под Самарой - И. Арапов, и сам Пугачев с войском - то в Оренбуржье, то в других местах.
В декабре 1773 года генерал А.И. Бибиков во главе карательного корпуса численностью в шесть с половиной тысяч человек и при 30 пушках выдвинулся к районам восстания и нанес поражения пугачевцам под Самарой, Кунгуром и Бузулуком. 9 апреля 1774 года А.И. Бибиков умер.
Только победы и разгром пугачевцев спасали дворянскую Россию. И не ударило в грязь лицом войско российское, занеся на свой счет новые победы:
24 марта 1774 года корпус подполковника И.И. Михельсона нанес поражение повстанцам под Уфой;
20 мая 1774 года Пугачев, соединившийся с отрядами Белобородова и Овчинникова, вновь разгромлен под Троицкой крепостью (на Южном Урале).
Противники спешили. Их схватка входила в решающий и критический момент. Действовали силой и решали вопросы организационные.
Емельян Иванович Пугачев, 1742 года рождения. Участник русско-прусской войны. В 1768-70 гг. был на русско-турецкой войне. Произведен в хорунжие в 1770 году. Уклоняясь от службы, в конце 1771 года бежал на Терек. В дальнейшем скитался и бродяжничал, арестовывался и подбивал народ на бунты. В августе 1773 года вновь появился среди яицких казаков... Чуть ли не на полгода застрял со своим отрядом в Оренбуржье, где пробыл до марта 1774 года.
Пугачевым от имени Петра III дан указ 31 июля 1774 года: «Божиею милостию, мы, Петр Третий, император и самодержец российский... жалуем сим имянным указом с монаршим и отеческим нашим милосердием все, находившихся прежде в крестьянстве и подданстве помещиков... вольностью и свободою... владением землями... Повелеваем сим нашим имянным указом: кои прежде были дворяне в своих поместиях и вотчинах, оных противников нашей власти... ловить, казнить и вешать и поступать равным образом так, как они, не имея в себе христианства, чинили с вами, крестьянами...»
Многие видели потом эти грамотки - крестьяне и рудокопы, помещики и офицеры. У одних они вызвали ликование и радость, у других - гнев, страх и лютую ненависть.
Потемкин Григорий Александрович, 1739 года рождения. Участник дворцового переворота 1762 года, за что получил чин подпоручика гвардии (!). За отличие в русско-турецкой войне 1768-74 гг. (воевал у П.А. Румянцева) получил чин генерала. После сближения с Екатериной в 1770 году назначен вице-президентом Военной коллегии, фактически возглавив ее. Стал графом. В марте 1774 года стал генерал-адъютантом императрицы, то есть по сути дела вторым лицом Российской империи.
Графом Потемкиным организованы карательные меры против бродяги и разбойника, вешателя Емельки Пугачева.
Преемником генерала А.И. Бибикова на его посту стал Панин. Задействовал регулярные войска, дворянское ополчение, верные императрице казачьи части. Все это было направлено против восставшего крестьянства, горнозаводских рабочих и многих тех солдат, капралов и сержантов, уже отслуживших или дезертировавших, имеющих военный опыт, в общем - против черного бунтующего люда. Вешал, карал и наказывал Панин отменно, скорее придавая этой стороне войны с бунтарями больше своего личного времени и участия, чем занимаясь военными операциями против повстанцев.
Петр Иванович Панин. Родился в 1721 году. В сорок один год стал генерал-аншефом. На военной службе с четырнадцати лет. Участник русско-прусской войны, с 1762 года генерал-губернатор Восточной Пруссии. В турецкой войне командовал Второй армией, взял штурмом крепость Бендеры, но имел в ходе ведения кампании стратегические просчеты, в связи с чем в 1770 году уволен в отставку. В июле 1774 года приступил к командованию войсками, ведущими боевые действия против отрядов Пугачева.
Самарин попал в полк в июне и оказался, сам того не ожидая, в гуще событий. 12 июля 1774 года Пугачев предпринял штурм Казани, но подоспевший Михельсон разбил повстанцев. Через три дня произошло еще одно, более крупное сражение - с подоспевшей для обеих сторон помощью, которое плохо закончилось для Пугачева.
И Пугачев двинулся на юг.
- Что, мы разбили Пугачева? - недоумевал Самарин, вопрошая своего знакомого капитана. - Или гоним его как зайца? А он уходит от нас, обрастая все новыми силами???
- Как гидра! - захохотал капитан. - Мы ему - голову, а он нам в ответ - две, так? Чудовище сие зело, борзо и страшно. Так, так, поручик, ничего не дается в мире добровольно, все берется силой. Ась?
В июле этого же года в селении Кючук-Кайнарджи заключается мир между Россией и Турцией. Многолетняя война завершена... Завершена выгодным для России миром. Россия получила часть побережья Черного моря между Днепром и Бугом, право свободного плавания в Черном море, крымское ханство притихло - вот и освободилось воинство, есть теперь силы и возможность окончательно придавить взбунтовавшуюся чернь. В августе 1774 года А.В. Суворов получает приказ Екатерины II направляться с войсками для подавления Пугачевщины.
(для сведения: в 1775 году по случаю победы России над Оттоманской империей был пожалован шпагой с алмазами будущий великий полководец А.В. Суворов)
Его не спрашивали, боевого генерала, хочет он того или нет. Просто дали приказ ему, Суворову: в 1770 году произведенному в генерал-майоры; в 1772 году командовавшему Санкт-Петербургской дивизией и подавшему рапорт направить его на театр русско-турецкой войны, куда он попал в 1-ю армию генерал-фельдмаршала П.А. Румянцева-Задунайского; летом 1773 года разбившему турок у Туртукая; успешно оборонявшему в сентябре 1773 года Гирсово; а в июне 1774 года вместе с генералом М.Ф. Каменским разгромившему 40-тысячный турецкий корпус при Козлудже. Это-то ему... но ведь надо, нужен еще и в других местах военный талант Александра Васильевича Суворова. И вот он спешит: сначала с войсками, потом бросив их - один, чувствуя, что не успевает, ибо для Пугачева наступают критические дни и за ним по пятам идет Воинство Российское, скрежеща зубами и трепеща в ожидании долгожданной минуты...
Для Самарина это было что-то жестокое и отвратительное - накатывающие и разбегающиеся толпы, град стрел, пальба и море крови. Это был убой, настоящее избиение восставших, пытающихся противостоять мерному тяжелому напору регулярных сил и злых ополченцев-дворян. Не было жалости у Самарина, видевшего только омерзение и смерти: «Да будь проклят этот неблагодарный мир!» Душа его устала от грязной жизни.
В эти жестокие для России месяцы - июль и август 1774 года - крестьянская война достигла наибольшего размаха, но для самого Пугачева настал крах, окончательно разгромленного преследовавшим его контингентом сил императрицы Екатерины II.
Бросив Казань, Пугачев двинулся на юг, встречаемый со своим войском как освободитель. Были взяты Саранск, Пенза, 6 августа пугачевцы вошли в Саратов на Волге.
- Где мы его догоним?
- Будь спокоен. Уже скоро, - капитан, злой и рассерженный, посмотрел на Самарина.
- А мне кажется, что и догнав Пугачева, мы не решим все проблемы.
- Кажется - так помолись. Поручик, наши люди валятся в седлах от усталости, а эти олухи наверху что думают?
- Не мы одни. Силы большие идут, уже недолго осталось Пугачеву морочить нам голову.
- Дай-то бог, пусть истина глаголет твоими устами.
Пугачев взял Камышин.
Недалеко от Царицына, славного города на Волге, против войск Пугачева встали до 20 пехотных и кавалерийских полков, казачьи части, дворянские корпуса. Отвага не спасла пугачевцев...
Пугачев бежал вдоль Волги к Черному Яру. Уже не догонял Пугачева, а гнал его, как затравленного волка, отважный Михельсон, который был скор и спор на расправу.
... До лета 1775 года гусарский полк, в котором служил поручик Самарин, время от времени, поэскадронно или иной раз в целом составе использовали в Нижнем Поволжье против восставших, отдельных бунтов крестьян, для наведения должного порядка. После гусар бывало входили карательные команды, добивая и вешая непокорных, щедро начиная пороть всех остальных жителей непокорных деревень и городков.
Тоскливая это была служба для боевого офицера. Но все мучения и угрызения глушились просто и обыденным путем - напивались и веселились, вспоминая, как лихо рубились с мятежниками под Царицыным или еще где. Сильно напившись или проигравшись в карты, кляли Емельку за пожоги и сотни повешенных помещиков, за его беспощадность к дворянству. Сверху не замедлили посыпаться награды, поощрения и повышения в чинах, прощали бывшие грехи офицеров, пели хвалебные оды победителям и прославляли, и прославляли, и прославляли доблестное российское воинство, давали отпуска и заслуженный отдых офицерам и дворянству. А в ушах многих стояло: «Вкусно жрете, господа, чего уж вам... а нам мякина и пухнуть от голода и дохнуть от непосильной работы, чего уж нам...»
«Что это? - думал Самарин. - Как назвать - бунт, восстание, войной крестьянства? Войны, войны! Но мне-то зачем о них задумываться - так ли уж долог век человеческий и так ли уж прекрасна жизнь человечья, чтобы ломать голову и думать о войнах. Войны крестьянские, освободительные, межгосударственные... еще там какие, наверное, должны быть и...»
И Отечественные войны, гражданские войны. И страшные в будущем мировые войны. Сколько их и для чего? Что и кому они доказывают? А ведь за каждой из них стоит определенный смысл, некая целесообразность. Иль сила силу ломит, доказывая силу?
А вот чуть поменьше размахом и значением - революции, восстания, мятежи, бунты, нападения.
И в связи с этим - полководцы, генералы, офицеры... атаманы, вожаки.
И воинские силы, атрибуты давления и значимости силы: армии и легионы, отряды и шайки.
«Ах, эти войны, - думает офицер (кто и какой?), - упоительные и прославляющие. Войны кровопролитные, но такие привлекательные - кладезь лавров и эполет. И если уж ты офицер, то ты обязательно должен быть создан для войны. А то, что ж за офицер, не понюхавший пороха. Так что, эй, кто там, «подать Ее Величество Госпожу Войну».
К осени их отвели на отдых, а вскоре Самарин вместе с уведомлением о предстоящем (и таком долгожданном) отпуске получил и неожиданное письмо, посланное ему майором Угловым с попутной оказией.
Александр вскрыл письмо и начал читать его.
«... Трудно сказать, догонит ли вас мое письмо. Уж очень мало надежд для такого в сегодняшней неразберихе. Но да пугачевщина кончается и предвидится близкий отдых и надлежащий порядок.
Александр Борисович! Писал вашим родителям, от коих и узнал про ваше освобождение и новое назначение. Весьма рад за вас и позвольте выразить мою преданную искренность, ибо никогда не верил в измену такого боевого и храброго офицера, каким, считаю и считал, вы являетесь, что я и показал на следствии. От вашего батюшки узнал, что вы на «пугачевщине», так же как и я, сражаетесь против врага внутреннего. Впрочем, это коснулось многих участников турецкой войны, ранее или позднее оказавшихся здесь.
Сколько мы с вами не виделись, господин поручик? Заранее извиняюсь, если ошибся в чине. Думается мне, что сие событие не минует многих участников. Хотел бы услышать о ваших новых подвигах и уверен в вашей прежней неукротимости... но почему-то не слышно ни о вас, ни обо мне, ни в том числе о многих других - нет громких дел иль смертных схваток? Или это не та война, про которую можно говорить вслух, потрясая Европу славной громкой победой? Крови пущено много, но нет удовлетворения. Впрочем, чернь наказана.
Время идет, Александр Борисович, уже более года, а точнее чуть ли полтора прошло с последней нашей встречи. Хотел бы вас видеть, посидеть за бокалом вина, но уж слишком трудно предугадать место и время нашей следующей встречи.
Немного о главном виновнике той заварухи, в которую оказались втянутыми мы с вами и тысячи нам подобных - о Пугачеве. Бежал он в заволжские степи, где и был пленен 8 сентября прошлого, 1774 года, пленен не без помощи богатеньких казачков. Опоздавшему Суворову выпала честь сопровождать Пугачева в Симбирск. А в январе нынешнего года Пугачева казнили в Москве.
Я, наверное, зря рассказываю такие подробности, ведь вы, Александр Борисович, были ближе там, участвуя в действиях на Волге. Мне же пришлось довольствоваться башкирами и гоняться за Салаватом Юлаевым, их предводителем, до самой осени прошлого года. Бедные башкиры чуть ли не молились на Юлаева, а верхушка всячески поносит его как разбойника, дорвавшегося до веселой жизни, рассказывает о нем, как о большом развратнике и мучителе. Вообще-то их трудно понять, башкир. Тебя бы сюда, бывшего мусульманина, умеющего сидеть скрестив ноги и бубнить молитвы Корана, может и разобрался бы в этом темном, диком и забитом народишке, так уважающем свободу и вольность.
Вспомни - в 1764 году последний гетман Украины Разумовский подал в отставку. А в этом году благодаря стараниям многоуважаемого Григория Александровича Потемкина прикрыта Запорожская сеча. К чему это я? Уж очень беспокойно казачество.
Имею сведения о Полякове, но только уж очень горькие. Мало нас остается, Александр Борисович - я, вы, Назаров, да еще Воронов, про которого известий не имею. Назаров как-то писал мне, что получал от Полякова (вскоре после того, как ты виделся с ним) некое странное письмо (в смутные времена пугачевщины), проливающее свет на один из случаев - какой и что, к сожалению, не знаю, а точнее - не понял из короткого и путаного письма Назарова, - который, прохожее, касается тебя. Так вот, я получил известие, что Поляков и его семья - молодая жена, малолетний сын - в общем, они...»
Самарин споткнулся на следующем слове, буквы на бумаге начали расплываться. Против воли всплыло воспоминание о кратковременной встрече с родителями и сестрами, когда он отправлялся на пугачевщину. От своих, по дороге в полк сделав небольшой крюк, заехал в имение Полякова. Встреча была горячей и очень радушной, но какой-то бестолковой и быстрой - вечером Самарин заехал, а утром уже заторопился в дальнейший путь, так и не выяснив для себя окончательно значения личности Полякова в странном деле с Самариным у реки Кагул.
Из этих двух свиданий Самарин вынес и понял следующее: сестра, старшая из двух его сестер, собирается выходить замуж за военного, полковника, служащего где-то чуть ли не в самом Петербурге. Поляков что-то знает про тот случай, когда Самарин был ранен у реки Кагул и потом попал в плен.
Отец здорово сдал, но держался молодцом. При виде сына засиял, выправился резко и сразу стал как некогда блестящим и знающим себе цену человеком. С достоинством дождался, пока наобнимаются с сыном матушка и визжащие от восторга сестренки Саши, потом шагнул сам.
Запомнился Александру один из разговоров, в котором участвовали все его родственники.
- Саша, ты рад за меня, что я выхожу замуж? - защебетала стройная и красивая, чуточку смущавшаяся сестра. - Он, конечно, не такой, как ты, ты у нас высокий и красивый, но он так любит меня, обеспечен и обаятелен, что я не в силах отказать ему.
- Воля твоя, - ответил Александр, - тебе жить с ним, не мне. И если тебя не смущает разность в возрасте, то с богом. А матушка не возражает? Она ведь не особо жалует военных.
- Куда от них денешься! - с горечью сказала мать Александра. - Вокруг меня только они, военные, и можно подумать, что кроме них в мире никого не существует. Александр, может, ты бросишь службу?
- Поздно уже, я так думаю.
- Правильно, - вмешался Борис Иванович.
- И ты туда же! Молчал бы, старый!
- Это я-то? - Борис Иванович счастливо засмеялся. - В сорок четыре года? Дай-то бог, если придет сюда этот черномазый смутьян Емелька, то я уж сумею отстоять вас!
- Окстись, не накликай беду. От нас скоро, сынок? - спросила дрогнувшим голосом.
- Хоть сейчас. Предписано быстро и не задерживаясь. Закончим дела - думаю подольше у вас побыть.
- Дай то бог! - и мелко закрестилась.
- Мой тебе поможет, - вмешалась в разговор сестренка, - Саша, замолвит за тебя словечко и...
- Не трещи, сорока, - обрезал Борис Иванович. - Не гневи брата и не торопи его.
- Поможет, поможет. Трудно без покровительства, - ласково и упрямо твердила сестра.
«Дорогая моя!» - подумал Самарин.
Это дома. А у Полякова, которого он все порывался попытать про его интересующее, все вышло бестолково. Перезнакомив со своими, Поляков завладел вниманием и все нахваливал и нахваливал свою молоденькую и прелестную жену, крепенького сынка, свое имение, восторгался жизнью штатского, пил много сам и усиленно угощал Самарина. А об остальном - «... потом. Расскажу, расскажу. Дело твое, там, у Кагула, и выеденного яйца не стоит. Все видел сам, как происходило - по кустарнику в этот момент ехал, параллельно вам с Назаровым, и видел, как выскочили турки на вас. А потом? Что потом... да ничего, пей. Да, расскажу потом».
А утром насказать не успел или не сумел - тяжко болел Поляков с похмелья и было стыдно ему за свой вид перед женой и гостем.
Углов писал: «... в общем, все они повешены пугачевцами».
6. Выбор.
Плен подрубил карьеру Самарина.
Оставаться на военной службе в малых чинах и тянуть, проклиная, армейскую лямку?
А как же Назаров? Ведь его надо найти и разобраться... после чего вообще один только черт может предсказать жизнь его, Самарина!
Так что же? И не женат до сих пор, некуда приткнуться и никто не ждет в пустом углу. Служба и глупые развлечения приелись, скучно. Что же дальше, Самарин, где и каков ваш выбор???
... Вызову к командиру полка Самарин не очень удивился. Внутренней какой-то боязни к предстоящему разговору Александр не испытывал, о грехах и просчетах своих если точно и не знал, так догадывался, что, как и когда сделал не так, как полагалось бы. Так что, шагая к командиру, был относительно спокоен, однако тщательно одет и подобран, готовый и ко всяким неожиданностям. Своего командира полка Самарин, как полагал, знал хорошо, да и тот знал Александра неплохо, относился к нему ровно и покровительственно, уважал за нестерпимую отвагу и дерзость.
Командир полка, где-то и когда-то воевавший по молодости, был тоже в молодые годы горяч и порывист, но потом все это съели годы, монотонная служба и отсутствие война «на его территории» (как говорил он сам в минуты откровения). «Воевал теперь против буйных нравов своих молодых офицеров, против потерявшей былую привлекательность и ставшей воинственной собственной жены». Мирная военная служба постепенно развращала его, превращая в некрасивую развалину, но пугачевский бунт заставил встряхнуться, подтянуться, почувствовать некогда утерянный вкус к жизни, стать вновь человеком «сословия воинского». И по окончанию смуты в нем стало трудно узнать того, предыдущего... Невысокий коренастый полковник был подтянут и внушителен, обрамленное прекрасными бакенбардами лицо стало по-командирски строго и недоступно, лысоватая голова франтовато прикрыта остатками тщательно расчесанных волос, а небольшой шрам на виске явно говорил в пользу его обладателя. Теперь полковник проводил на службе почти все свое время, будто почувствовав заново вкус армейской службы, тщательно и ревниво следил за успехами офицеров и эскадронов, многих знал в лицо, здоровался накоротко с юными офицерами и старослужащими, но при этом держась всегда холодновато и отчужденно.
Самарин поприветствовал командира полка, вытянулся перед ним. Оглядев его, полковник удовлетворенно хмыкнул и пригласил присаживаться.
- Удивлены? А пригласил я вас по поводу вашего дальнейшего... э-э-э, повышения, что ли. Нет, немного не так. В общем, разговор у нас состоится не в стиле приказного и как командира с подчиненным, а скорее как дипломатический разговор, от результатов которого мы оба будем зависеть. Я долго думал, как довести до вашего сведения сложившуюся ныне обстановку и какое принять решение относительно вас, и решил, что пусть это будет скорее обоюдная, прямая и офицерская беседа без обиняков. Мне кажется, с вами иначе нельзя, так до вас лучше дойдет.
- В таком случае я готов выслушать вас, господин полковник.
- Не сомневался в этом. Но не только выслушать вы должны быть готовы, но и кое-что решить на основании сказанного мною.
- Что-то неприятное для меня?
- Оставим, Александр Борисович, на время звания и подумаем.
- Воля ваша, господин полковник, но мне разрешите обращаться к вам как положено. По-другому не привык, да и неудобно, не слишком уютно почему-то сейчас чувствую.
- Да-да, не предполагая - так оно и есть. Но да пусть будет так. Дело вот в чем: появилась вакансия командира первого эскадрона, и вы по всем статьям можете претендовать на нее.
- И в чем же вопрос, господин полковник? В моем согласии или моем отказе? Или не подхожу?
- Вы проницательный человек, но прямой и поэтому опасный. Но сейчас меня вы устраиваете именно в таком плане.
- Получается, что я сам и напросился?
- Вы отлично представляете, что такое быть командиром первого эскадрона - это чуть ли не правая рука командира полка и отсюда уже проще простого шагнуть вверх по служебной лестнице в высшее офицерство. Вы - первая кандидатура на освободившееся место, как перспективный офицер. Но давайте трезво взвесим все ваши «за».
- А стоит ли?
- Стоит. Для вашего блага.
- Давайте займемся, господин полковник, моим «я». И все же, немного зная вас, я имею право сказать, что причина, наверное, кроется не только во мне, но и в вас, в Набросном и еще кое в ком.
Полковник побагровел.
... Все военные знают простые истины: плох тот солдат, что не мечтает быть генералом; каждый солдат носит в своем ранце маршальский жезл. Офицер - солдат, слуга своего Отечества, и каждый ведает вышеозначенные прописи, умом и отвагой (иль чем другим) доходя до них и настигая то, о чем мечтается и лежит в пресловутом ранце...
- Офицер Набросный, бывший командир первого эскадрона, был для вас, Самарин, другом и наставником во времена пугачевщины. Да, да, не возражайте - я видел и знал цену вашей дружбы, она была безупречная безукоризненна, он вас опекал, и вы его обожали. Что же произошло потом, почему Набросный попросил перевода в другой полк?
- Он стал циником по отношению ко мне, грубым с солдатами и все больше проводил время в загулах, сторонясь меня. Словами всё трудно передать, господин полковник.
- Может и трудно, Александр Борисович, но я постараюсь. Ваша нетерпимость и показная аскетичность довела вас до того, что вы презираете офицеров за их недостатки и некоторые слабости - вино, карты, женщины.
- Разве? Бывает, перекинусь и в картишки для удовольствия.
- Во-во, для удовольствия. Редко играете, но постоянно в выигрыше. А если и проиграете, то так, будто для вас это мелочь и малоогорчительное происшествие.
- Я не слишком богат, чтобы всадить свое состояние и офицерское жалование в карты. Имеется выдержка и хладнокровие, чему обязан своим жизненным переплетам, не более.
- Вы высокомерно относитесь к проигрышам, что и бесит других думающих, что Самарин не ценит ни деньги, ни карточных противников. Ваше презрение...
- Показное, господин полковник, чисто условное.
- Ваше презрение выливается в ответную ненависть. Вы не умеете пить в компании...
- Вроде не напиваюсь, почти всегда трезв, но никогда не отказываюсь от одного двух предложенных бокалов и с удовольствием угощаю других.
- И тут вы, сами того не хотев, ставите себя на голову выше других, вычеркивая свою гордыню из участия в обычной дружественной офицерской вечеринке.
- Может, у некоторых плохо с юмором и воздержанностью к спиртному?
- Зато у вас в избытке. Вам напомнить? Один офицер предложил вам как-то вечерком выпить с ним, захотелось ему поделиться очередной радостью. Вы ответили согласием, но предупредили, чтобы запасов было подготовлено много. Зачем? Вечером, в собравшемся кружке, один из офицеров в шутку спросил, хватит ли вам, Самарин, шесть бутылок прекрасного вина, которого они приготовили для сегодняшней попойки.
- Дальнейшее я помню, господин полковник.
- Помните? Завидно, завидно. Ведь они от радости готовы были плясать, что вы изволили удостоить их своей честью.
- Я ответил им тоже шуткой. Сказал, что шесть - мало. Ответил, что семь бутылок - да, меня устроит.
- Но им уже негде было пополнить запасы, на ночь глядя, чтобы угодить вам.
- Я не люблю черный юмор в виде шести бутылок, пусть даже предложенный любя и в виде шутки. Тогда я вытащил из кармана бутылку, поставил ее на стол, сказал, что без своей в гости не хожу, за полчаса выпил в гробовом молчании все семь штук и ушел, оставив их одних и трезвых. Предупреждаю ваши вопросы: наутро я почувствовал себя скверно, но в хорошем состоянии духа. Утром мой эскадрон показал себя на смотре с хорошей стороны, помните?
- Да, Александр Борисович. Единственное, чем недоволен остался проверяющий, так это вашей помятой физиономией.
- Издержки службы. Это та мелкая придирка, благодаря которой я остался в тот раз без поощрения?
- Перестаньте, Самарин.
- Вино и карты разобрали. Остались женщины. Как насчет них, тем более беседа приватная.
- И тем не менее... Вы у нас в полку сколько? Три года. С лета семьдесят четвертого. Странный у вас характер... или вы - странный офицер? Отпуск не просите, хотя последний раз ходили вскоре после пугачевщины. От солдат и офицеров требуете многого и многое, но мало видел я вас раздраженным и рукоприкладствующим. Вместе с тем вы резки, порой жестки и задиристы до невозможности. Вроде такой боевой и отважный офицер, имеющий за плечами турецкую и внутреннюю войны, должен привлекать окружающих, притягивать к себе... ан нет, вас шарахаются и вздрагивают при виде вас. Спасибо вам, что в полку почти не стало дуэлей, меньше приключается скандалов и драк... так кому охота связываться с Самариным?
- С Самариным, - ровным глухим голосом подхватил сам Самарин, - которого обвиняют в турецком плене, где он почему-то научился и для чего-то отменно владеть оружием и вынес оттуда жестокосердие, так нехарактерное для православной веры... так? В таком случае, где же я набрался высокомерия и заносчивости... не в России ли?
- С вами боятся связываться. Есть немало офицеров, неплохо владеющих шпагой и пистолетом, но никто, заметьте - никто не перешагнул эту грань. «Зеркальную» историю помните? Когда вы, при вступлении в полк, расстреляли ни в чем неповинное зеркало?! Отсюда и отчуждение пошло к вам, боязнь и страх перед вами. Вам пытается еще противостоять Набросный... Сначала - приручить, а когда это не удается, то...
- Я не зверек, чтобы приручаться.
- То вызывает вас на дуэль, которая и произошла не так давно.
- Вы знаете о ней?
- А как же. Ваши «доброжелатели» не преминули шепнуть мне на ушко. И ваше счастье, что дуэль закончилась бескровно, а то бы я не поставил за ваши эполеты и гроша.
- Я не любитель дуэлей, господин полковник, вы это знаете, причем о том же говорит и мой послужной список.
- Знаю, но тем не менее не удивился.
- Набросный добивался оскорблений и намеренно шел на них. Я не мог более терпеть.
- Печально, но факт. Факт свершившийся, так как вам двоим все равно бы не ужиться в одном полку, слишком вы оба сильные и неординарные личности, и к тому же явно противоположные. Двоих вожаков стая не держит, как известно. Непозволительная роскошь в борьбе за существование.
- Набросный добивался дуэли. В глазах других он не хотел быть оскорбленным, хотя и проигрывал в другом - ведь право на выбор оружия остается за оскорбленным противником. Надо отдать должное Набросному - он не хотел моей смерти, но хотел жизни вожака. Мне трудно предсказать, убил бы он меня или нет...
- Поясните, Александр Борисович.
- Право выбора оружия делал я. И выбрал пистолеты, стреляться - с дальней дистанции. Я заметил, что Набросный тогда вздохнул с облегчением, за дальнейшее он не боялся. Ну а с такой закалкой как у него нет и места переживаниям любому исходу дуэли. Однако стрельба из пистолета на приличное расстояние требует постоянных упражнений - оба мы сие знали и вроде были готовы.
... Набросный навел пистолет, долго целился. По жребию он стрелял первым. Потом вдруг опустил пистолет, вновь проверяя его. Самарин не торопил противника, своего бывшего друга, лишь волна бледности охватила его лицо. Набросный вновь поднял оружие, тщательно наводя в голову соперника; плавно и аккуратно спустил курок.
Он промазал и у него страшно затряслись руки. Зачем-то он начал поправлять свой головной убор, сидевший на нем так тщательно и аристократично. И в тот же миг пуля, выпущенная из пистолета Самарина, сбила, вырвала из некрепких рук Набросного его головной убор.
Оцепеневший Набросный медленно-медленно начал наклоняться к земле, чтобы поднять и водрузить на свою голову пробитый головной убор, но вдруг увидел у своих рук чужие сапоги, затем пистолет Самарина мягко шлепнулся на испорченный головной убор Набросного. И бесстрастный голос Самарина заключил: «Господа, считаю инцидент исчерпанным. Не правда ли?»
И вот теперь Набросный просил перевод, а Самарин имел право заступить на его должность.
- Александр Борисович, - говорил полковник, - я считаю, что вам следовало бы примириться с тем фактом, что офицерская полковая среда плохо переваривает вас и, боюсь, не воспринимает вас в качестве моей правой руки. Но и хоронить себя рано в ваши двадцать семь лет - не теряйте уверенности, учитесь воинскому делу, познавайте его премудрости, постигайте полководческий талант и применяйте себя там, где наиболее трудно для России и где можно без страха и упрека проявить себя. Как вы смотрите на то, чтобы приложить свои силы, свое старание где-нибудь в беспокойных в военном отношении районах?.. Где растеряется ваша сухость и педантизм. Что вы скажете?
- Господин полковник, разрешите сделать небольшую паузу. Выпить у вас не найдется? Я вам поведаю историю из детства, э-э-э, в общем, она про волков, их привычки.
- Извините, Александр Борисович, обойдемся без тостов. Есть желание - рассказывайте, постараюсь понять. Так что же?
Самарин выдержал короткую паузу, внимательно посмотрел на своего командира полка и начал рассказывать:
- Как вам известно, господин полковник, волка ноги кормят. Точнее - даже не только вам, а всем нам известен сей факт. Умное же иль глупое это животное под названием «волк» - вот тут мы уже затрудняемся. Судим волка за его напористость и злость, наглость и хватку, однако до конца не определяя истинное положение волка в природе. Впрочем, какие могут быть рассуждения и какой должна быть философия одинокого всадника, за которым в буранный февраль гонится волчья стая, а? Но это уже другая точка зрения, так называемая вторая чаша весов, или оборотная сторона медали, и далее в том же духе.
В общем, волк есть волк - одни его «воспринимают» в кабинете, другие - на свежем воздухе. Я слабоват в естественных науках, честно-то говоря, не приучен был по молодости. Это уж потом - где слышал, что видел и узнал, бывало и почитаю... интересно, очень интересно сравнивать прочитанное, продуманное самим и действительное. Человек я военный, больше нажимал на географию и историю, да еще на счетные науки и интересные книги... вот и получился однобоким. Не я такой один, поуродованный недостатком знаний, недосмотром, узостью мировоззрения, убогостью понимания. Я отвлекся?
Человек напоминает волка? В его привычках, имеется в виду. Будьте спокойны - я не автор волчьей истории и никак не хочу обобщать наше прекрасное российское общество и вообще род человеческий с нравами волчьей стаи. Но ведь и тот и другой есть частицы Богом созданной природы, вплетены в последнюю, пути-дороги их пересекаются, повторяются и повторяют друг друга...
Если волк сытый (приходилось мне видеть таких), он не трогает людей, не боится их; сытый волк не бегает от человека и за человеком, а также и за другими тварями... наоборот, даже бывает, что лениво сопровождает их движением, взглядом. А если он голоден, или ему чего-то не хватает, или ему помешали?
А если че-ло-век голоден? Если человека затаптывают, не дают ему очередного звания, власти, денег, славы, развлечений, то что?
Как себя ведет голодный волк в нападении? Много ли ему надо, чтобы прокормиться в определенный момент - наверное, должно хватать одной жертвы... он же, попадая в стадо овец, режет их с дюжину, а уносит же одну. За что такая немилость? Ну, я понимаю, задрал бы одну несчастную овцу и уволок, так нет же... Может, его бесит ополоумевшее от страха стадо и их бестолковое блеяние? Или что другое? Сильный мира сего имеет право на жертву, право на выбор, но слабый почему-то на закуску - и вот один делает выбор, а другой?..
Волк-одиночка против коровы - этого ленивого, бестолкового создания, не имеющего клыков и когтей, а только пару рогов - не устоит, здесь ему не улыбнется удача. Здесь может победить только стая, в худшем случае - пара волков.
А вот против лошади волк применяет своеобразную тактику: вцепляется в хвост и тянет на себя, подвергаясь постоянной угрозе быть убитым грозным ударом задних копыт лошади - но ведь тянет и парализует волю животного, нагнетая на него страх ожидания и расправы. И лошадь, вначале взбрыкивающая, начинает потом удерживаться только ответным натягиванием в противоположную сторону. А далее у волка все гениально до простоты: он резко бросает хвост лошади и та падает на передние ноги от своего же рывка, затем волк стремительно кидается на загривок жертвы, и начинается смертельная скачка, где, однако, волк уже «на коне». Доступно я рассказываю?
В детстве со мной произошел случай. Вспоминая его, меня до сих пор берет оторопь. Я был дружен с дворовой ребятней, был у них на хорошем счету и чуть ли не предводителем за счет силы, знаний своих и, конечно, здесь не последнюю роль играло мое благородное происхождение и «военная кость» нашего рода. Было мне тогда лет двенадцать-тринадцать, и я не так уж часто оказывал почтение своей ватаге личным присутствием. Помню, в тот раз кто-то из них подогрел мой азарт упоминанием об открытой им в лесу волчьей норе, где «такие маленькие волчёнки и пищат». Я загорелся и возглавил поход.
В нору под поваленным деревом я полез сам. Лаз узкий, в норе темно и тесно, волчата царапаются и поскуливают. Наконец я изловчился и захватил за шиворот одного волчонка и уже приготовился подать его на выход, где, согласно утвержденной диспозиции, должны были принимать добычу мои ватажники. Но в этот момент серый просвет лаза потемнел - ко мне кто-то лез. Рассердился я страшно - вот же бестолковщина деревенская, ведь рассказал им все - что и как, расставил, объяснил, а они - кто-то - лезут ко мне, в нору, где и одному с трудом развернуться. «Куда ты прешь!» - заорал я, изловчился и с силой пнул в надвигавшееся на меня «чудо бестолковое». Видение враз пропало, пространство лаза посерело - значит, стало свободно, и я, кое-как сграбастав волчат, выбрался на свет божий.
У норы я никого не увидал. Пусто. Я не то чтобы удивился, а скорее разозлился, до меня еще не дошел смысл происшедшего - все мои храбрые ватажники сидели по деревьям и клацали зубами. Я их не видел, ибо и не смотрел туда, грешно рассуждая, что место человека на земле, но ни в коем случае не висеть подобно гроздям винограда. И вот до меня наконец дошел чей-то заикающийся глас с небес.
То была волчица, возвращающаяся с добычей. Ее вовремя заметили. Она же... что она, шла с наветренной стороны, забыв о волчьей осторожности? Торопилась к малым деткам своим? Не знаю... мой удар, который она получила, залазя в свою нору задом и затаскивая в узкую нору логова добычу, был роковым для волчицы - отбежав с сотню сажень в сторону, она упала замертво... мы же бежали (неплохо бежали) в другую сторону.
Долго висела-стояла тишина. Самарин закончил, а полковник не торопился начинать говорить.
Но вот заговорил, чеканно и внушительно:
- Я вас внимательно слушал.
Вы ищете сравнений?
Вы думаете, что открыли что-то новое?
Вы запутались, молодой человек.
ВЫ позволяете себе непозволительную роскошь, так рассуждая. И в конце концов заплатите за это сполна. Я в свое время был предупрежден об этой вашей слабости уведомлением полковника следственной комиссии Военной коллегии, который вел ваше дело по поводу вашего пребывания в турецком плену.
- Александр Борисович, вам надо встряхнуться, обрести себя. Найти смысл жизни, дальнейшего вашего существования. Ищите себя в службе, в семье, в дружбе. Ищите. Но не копайтесь и не копайте.
Самарин смотрел на полковника и думал: «Командиром четвертого эскадрона является молодой князь Б., тот самый чернявый офицерик, которого оно три года назад «спас» от картежных шулеров блестящим «зеркальным» выстрелом, эхо которого и сейчас ходит в полку; тот самый чернявый и молоденький, поначалу ходивший под его, Самарина, подчинением. Да, а молодым ведь и нужна дорога, карьера, тем более князь Б. имеет за плечами своего батюшку - генерала.
- Ваша дуэль с Набросным могла для вас печально закончиться, кабы не заступничество известного нам обоим генерала, по странным для вас стечениям обстоятельств являющегося мужем вашей сестры. А? Все хотят жить и служить, Александр Борисович - и вы, и Набросный, и я, и, к примеру, князь Б., да и многие другие славные офицеры нашего полка.
- Господин полковник, у вас нет боязни в скором будущем потерять ваше место?
- Возможно. Но пенсион мне будет обеспечен, на старость хватит, - сухо ответил полковник и спокойным, ровным голосом задал вопрос, так беспокоящий их обоих: - Так что скажете о вашем переводе куда-нибудь в новые южные земли России?
Самарин потрогал мундир, где в кармане лежало письмо Углова двухмесячной давности. Долго молчавший Углов вновь нашел Самарина и писал ему: «...жизнь налаживается, доволен. Служить продолжаю. Сын-недоросль растет, мечтает быть военным и целыми днями воюет с матерью, крапивой, дворней. Дури в нем много, но, дай бог, обломается. Да, Назаров служит комендантом гарнизона в небольшом городке на юге. По-прежнему, как я понял, ретив и требователен по службе, дочкой восторгается своей, умной и обаятельной, ей вроде уже лет семнадцать. Назаров овдовел, так что души в дочери не чает. Узнал его точное местонахождение, сообщаю тебе... может, пригодится. Или в отпуск соберешься, тем более слышал, что ты не слишком охотно и часто посещаешь своих... так, может, к Назаровым соберешься?..»
Самарин и собирался. В отпуск и к Назарову. Рассчитаться. Не перегорел Самарин за прошедшие семь лет, грызло его внутри, может, поэтому такой и нетерпимый был... или стал. Собирался вот сейчас просить об отпуске, а дело повернулось так, что можно теперь и на казенном удовольствии попасть туда, куда собрался.
И Самарин подтвердил согласие изящным наклоном-кивком головы.
- Даю перевод вам, Самарин. Он, кстати, уже согласован с верхами, - и полковник поставил витиеватую роспись в бумаге (испещренной печатями и росписями вышестоящих отцов-командиров), означающую, что он не возражает против перевода офицера его полка, капитана Самарина Александра Борисовича.
* * *
Группа пехотных офицеров стояла в углу небольшой залы и весело пересмеивалась, с интересом наблюдая за множеством толпящегося народа - танцующего, ведущего умные разговоры и беседы, фланирующего, скучающего и развлекающегося по мере своих сил и представленных возможностей.
Шел бал. Бал уходящей осени 1777 года, как сам назвал его тот, кто его давал и для чего предоставил свой большой дом-особняк для сегодняшнего увеселения местного светского общества дворянин и бывший военный Р., пожалованный не так уж давно новыми, еще малообжитыми близлежащими землями и закрепленными за ними крепостными душами.
Все здесь было так, как на балу в Петербурге или в Москве. Самарину приходилось бывать в Москве по делам, гостить у друзей и родственников, посещать званые обеды и ужины, получать приглашения на балы. Разве что здесь, в южной глуши России, масштабы увеселений и балов были чуть поменее, а само общество - более смешанное по составу и раскованное. Нравы, наверное, оставались те же, что и в блистательных обществах Петербурга и Москвы, только этикет и манеры поведения были чуть проще, свободнее, веселыми и бесшабашными.
Самарин по прибытию получил направление в полк. «Пойдете в пехотный, - объяснили ему в канцелярии. - У нас здесь больше армейская и гарнизонная служба, гвардией и высокопочтимой кавалерией мало пахнет, да и незачем они пока здесь - мы же строимся, осваиваемся, несем караульную службу, держим охрану, посты, разъезды. Все люди на счету, бездельников не держим. Но, тем не менее, капитан, не падайте духом - военные здесь в почете, их уважают и ценят. Да и как не ценить армию-трудягу в новом обживаемом краю. Привыкнете, капитан. Иль ожидали от своего назначения что другое? Так вы, может, за провинность какую сюда попали... или по доброй воле, что не было у вас протектората? За остальное не отчаивайтесь и не переживайте - дисциплина в батальонах и полках есть, работы по горло, офицеры доброжелательны и наверняка не так задаются, как в благословенной гвардии и кавалерии».
Приняли Самарина и на самом деле хорошо и благожелательно. Щедрость Самарина при вступлении была принята с благодарностью и почтительно, боевая его биография оценена по достоинству, требования по службе со стороны Самарина так же приняты были с пониманием, потому что так оно и было здесь, значит и будет дальше. Он быстро сошелся с однополчанами и был принят в офицерский круг без обиняков и глупых расспросов. Скука здесь не царствовала, ибо после трудного дня так ценятся прекрасные часы разнообразного отдыха, будь то вечеринка, беседы в приличном обществе или как этот «осенний бал», на который многие офицеры получили приглашение вместе с их командиром полка от устроителя бала, по-прежнему питавшего приязнь к людям военным.
- Так едем, капитан? Не пожалеете: время с пользой проведете. Есть желание - вина прекрасного южного испробуете, балуетесь в картишки - составите компанию тамошним любителям азартных игр, да и не грех поразмяться - потанцевать, приволочиться за хорошенькими девицами... они и здесь есть, завлекательные, на выбор с вашей внешностью кому-то да по душе придетесь. Если уж невесту не приглядите, так какую вдовушку или чью женушку покорите, а-а? Орел, на вас глянуть - стать, осанка, взгляд!
- Бал, конечно, не такой грандиозный, как в столице - у нас поменьше, но зато разнообразнее. Чем не Вавилон - чиновники, дворянчики и помещики, купцы и перекупщики, военные, разный залетный люд, есть и солидные господа; заметьте, для многих сей бал не только развлечения, но и место решения жизненных и деловых вопросов - там и шулера, и женихи, дельцы и политиканы, девицы на выданье и флирт... кто во что горазд: продают и скупают, загоняют и сдают, угодничают и договариваются о свиданиях, а в остальном так же, как и должно быть: солгут - и не моргнут глазом, полезешь разнимать - ты и виноват, сильному дорогу не переходи - сгноит. Все как и должно быть, капитан, дерзай. Ты - штучка солидная, тебе проще, не оплошаешь...
Куда уж проще! Самарин смотрел на косяком подъезжавший к парадному подъезду разнообразный транспорт и диву давался: беспрерывно подходили пролетки и повозки (благо было не весьма холодно), тарантасы и возки, иногда возникали на горизонте кареты - долгожданные и памятные, к которым, как казалось Самарину, ему самому путь закрыт (а так бы, чем черт не шутит, отхватить невесту богатенькую, пусть даже и не весьма красивую, но дочь влиятельных и сиятельных особ... не отказался бы).
- Самарин, идем! Застыл как столб. Можно подумать, что столь блистательное светское общество ты видишь впервой.
- А что с оказией? Расплатились?
- Александр Борисович, да очнись же! С ним рассчитались, а на обратный путь - что бог подаст. Счастливчики - те, кому повезет на балу - доедут с будущими попутчиками, а остальные - как получится, сами по себе или собьются в товарищество. Ведь гуляем, капитан, и брось ты думать об отступлении. Впрочем, у нас и не принято бросить товарища в беде и на перепутье.
Впереди прямо и независимо шел командир полка - полковник - моложавый, подтянутый, заступивший на командование полком считанные месяцы и тем не менее снискавший уже уважение своим добропорядочным отношением к офицерскому обществу полка, снисходительностью к невинному времяпрепровождению господ офицеров, своим юмором и легендарной (о, бестрепетный язык офицеров!) любовью к своей юной жене. Короче, офицерство полка преклонило голову перед новым командиром, за что и было прекрасно понято и оценено последним.
Офицеры гурьбой повалили за командиром. Смех и беззлобные шутки в адрес штатских, то тут, то там приветствия со старыми знакомыми и недругами и громкие возгласы восхищения. Плащи реяли на офицерах, треуголки гордо покрывали головы столь беззаботных сейчас военных. Бал! Осенний бал!
Особняк блистал и светился огнями, так зазывно, весело и интригующе, что Самарин отбросил последние сомнения. Да, он грешен был последнее время - аскет в жизни, недоступен на плацу, требователен к своим товарищам... но да стоит ли так, резко и необдуманно рвать с прелестями жизни человеческой?!
«Поистине Вавилон, - думал Самарин, ступая следом за другими. - Кто за чем: вот этот думает найти выгодного покупателя зерна, а тот - обновить свой гардероб изящными манерами пред любвеобильной пожилой госпожой или же за счет передергивания карт и фактов». А этот истасканный канцелярщиной чиновник на что надеется, такой молодой, но уже забитый и робкий до страшной несамостоятельности?
«А сам я? Не затаскан и не добит ли?» - Самарин гордо выправился и смело зашагал. Парадный подъезд, лестница, широкая и многообещающая в отражении десятков зеркал, зазывно манила и обещала долгожданный рай.
Был поздний вечер, и тем не менее особняк и близлежащие территории были сильно оживлены. Приглашенные подъезжали один за другим - с самого города, с близлежащих поместий, с армейских вокруг городка расположенных частей... дамы и господа, штатские и офицеры, дворяне и среднее сословие - все, все спешили показать и проявить себя, блеснуть на этом известном в округе балу. Встречал гостей сам хозяин - в военной форме полковника, при регалиях и эполетах, самолично приветствуя именитых, кивком здороваясь с почтенными знакомыми, улыбаясь всем остальным, и всем - радушный жест приглашения артистичным движением руки. С их командиром полка хозяин церемонно поздоровался, перекинулся парой фраз, благосклонно окинул взглядом плотную группу офицеров и приглашающее махнул - мол, не робейте, господа, знаю я вас, и сам таким был.
Офицеры повалили в зал и через несколько минут их общество растворилось в комнатах и кабинетах особняка - покурить, немного выпить и закусить, перекинуться в карты, переговорить со знакомыми, прицениться к женщинам, да и мало ли еще каких забот найдется у всех, для всех и на всех.
Гул нарастал. Переходили от одной группы к другой. Все перемешались, нетерпеливо выискивая свои интересы и круг их заинтересованных, замелькали разноцветные женские платья, мундиры военные и штатские.
И потекло веселье. Танцы, разговоры, умные беседы на политические темы и военные.
Самарин не скучал: успел потанцевать, выпить пару бокалов вина, поспорить со штатскими о роли военных в жизни и политике. Разговор об американской революции сильно заинтересовал его - Самарин пристроился к кружку, горячо обсуждающему данную тему, и уже приготовился высказать свою точку зрения жестикулирующему оратору, как внимание его отвлек подошедший их командир полка.
- Александр Борисович, собираетесь ввязаться в сей никчемный спор?
- Имел желание, господин полковник.
- Мечтаете высказать свое мнение, что американцы хотят решать свои дела самостоятельно и без английской опеки? Иль другое? Ну-ну. Мой совет - не тратьте слов здесь и сейчас, это - пустая трата времени. Что и кому вы докажете... этим, которых более интересует свой карман и личное благополучие?
Полковник благодушно усмехнулся.
- Все хотел спросить вас, капитан. Не трудно у нас? Вы ведь, как говорится, из гвардии да в гарнизон...
- Привыкаю. Солдат есть солдат, где ему прикажут - там он и должен служить.
- Возможно, возможно. Вот и мне приказали. Служу, приняв повышение, да спасибо, что супруга моя при мне. В противном случае блаженствовал бы где в ином, прекрасном и обжитом месте. Трудностей нет у вас? Ведь пехота - не кавалерия.
- Постигнем и эту науку. Какие наши годы, - Самарин широко улыбнулся, настроение у него было хорошее.
- Рад за вас. Если что, трудно будет - обращайтесь в любое время, чем смогу - тем и помогу, вижу, что вы офицер настойчивый. Да и наслышан про вашу одиссею.
Неслышно к ним подошел офицер из их полка, уже сильно подвыпивший, но на ногах державшийся крепко и уверенно.
- Господа, анекдот интересный слышал. Не-не, не из разряда сплетен и не из светской жизни. О нас, военных. Вроде того: стоит ли что приличного возня военных - все их битвы и сражения, потери и жертвы. Да вы поймете и посмеетесь. Вот, послушайте: называется анекдот «дом лесника».
... На энный день боевых действий противники сошлись в местности, где находился дом лесника. Начались затяжные и кровопролитные схватки, о чем наглядно говорили сводки, поступавшие с района, обозначенного на картах как ранее безызвестный «дом лесника».
Донесение. День первый. Остановлен на подступах к «дому лесника». Потери составили до двух рот и одна батарея.
Боевая сводка. День второй. После трех отчаянных атак и пятичасового боя, нами, в результате героических усилий, захвачен «дом лесника». Полегло несколько эскадронов кавалерии, до полка пехоты, разбито две наших батареи, погиб один генерал. Местность изрыта воронками и укреплениями, горит в отдельных местах лес, животные в панике бегут, внося расстройство в ряды нашего славного воинства.
Донесение. День третий. «Дом лесника» трижды переходил из рук в руки. Решительной контратакой и фланговым ударом мы вновь овладели стратегически важным «домом лесника». Просим подкрепления, ибо в противном случае...
Боевая сводка. День четвертый. Упорные и постоянные стычки и перестрелки. Дом лесника переходил в руки противника дважды. В сражении завязаны до... Наступившая ночь, несвоевременная подвозка провизии и фуража, огневых средств не дали нам возможности вернуть «дом лесника».
Реляция командования: ... общее наступление, имеющее цель захвата «дома лесника» и укрепления в оном, начать всеми имеющимися силами пехоты, кавалерии и артиллерии и выделенным резервом... в пять часов утра.
Утро, день пятый. «Сверим часы, господа офицеры. Все подготовлено?! О боже, что это? Кто это?.. Лесник, что ли, вернулся? Какой лесник, что ему здесь надо? Ага, хозяин дома, пришел с обхода... ну и что? Что ему здесь надо...
... Довожу до вашего сведения, что пришел лесник и разогнал всех, пушки посбрасывал в овраг, лес потушил, кавалерию отстегал и обратил в бегство, а пехоту сам обругал, облаял ее своей собакой и под конец натравил ее... генералам набил лицо. В итоге вынуждены подчиниться силе, ибо лесник обвинил нас в форменном безобразии...
Смеялись и хохотали долго. Рассказчик победоносно, будто человек вернувшийся с поля сражения, оглядывался вокруг. Более сдержанные хихикали, улыбались. Трудно, конечно, сдержать было смех. Самарин осмотрелся и понял, что слушателей набралось предостаточно. Послышались замечания, догадки и предложения по услышанному анекдоту.
- Может, «дом лесника» - чьи территория или государство, а к ним влезли воевать, а?
- Или сам лесник - дипломат умный и всесильный? Либо чей царь и император, что прекратил войну...
- А каков умысел анекдота? Да оно ж кидает подозрение и клевету на военных!
«Каковы домыслы, - подумал Самарин. - Им анекдот, а они - домыслы. Однако ж, домыслы сии неплохие. Может и повторяют их помыслы?! Какая игра слов получается: домыслы, помыслы, мысли».
Самарину захотелось отойти подальше от собравшихся и просто развлечься. Вместе со своим командиром полка они отошли в сторону, и полковник предложил:
- Не хотите ли познакомиться с молодыми девицами? Мужчине трудновато приходится без женского общества. Вы согласитесь со мной, что без него не обойтись? Вот и славно - взгляните вон туда, видите даму? А около нее с кем-то увлеченно говорит ее дочь. Вам нравится? Идемте, познакомлю, имею честь знать эту даму, она жена одного известного в местных кругах человека, куда я неоднократно был приглашаем.
Они церемонно подошли. Полковник отрекомендовал капитана даме, и Самарин был удостоен ее милостиво протянутой руки. Дама представила в свою очередь дочь, мгновенно оценив мимолетным взглядом заинтересованность молодого офицера в таком же молодом женском обществе. Была представлена Самарину и вторая девица - Анна. «В дружественных отношениях с моей дочерью, - пояснила дама. - Я присматриваю за обеими на этом балу, опекаю их от слишком назойливых кавалеров, которых здесь хватает».
- Я неплохо знала мать Анны, состояла с ней в хорошем знакомстве и почитаю своим долгом... - донеслось до Самарина.
Но далее он не слышал. Заиграла музыка, и в вальсе поплыли пары.
Дочь знатной дамы щебетала, что она так рада познакомиться с молодым блестящим офицером. «А то мои кавалеры так скучны и глупы, что до сих пор сердце мое свободно. А у Аннушки есть жених, счастливая. Она из семьи военных и тоже обожает офицеров, а вот жених у нее почему-то штатский», - слышал Самарин, а сам смотрел на Анну, не возражающую и не дополнявшую болтовню своей подруги и по-прежнему молчавшую.
Самарин не спускал взгляда с Анны. Гремела музыка. «Почему она молчит? Не нравлюсь? Сколько ей? Лет семнадцать... Мила и обаятельна. Даже кого-то напоминает. Покраснела. Пригласить?»
И они закружились с Анной в вальсе, оставив в недоумении ее подругу.
Давно так не танцевал Александр, вдохновенно и красиво, будто крылья обрел. «Смысл жизни нашел? - усмехнулся сам себе и своим воспоминаниям он. - Как соловей скоро запою. Впрочем, не удастся, не умею подпевать. Я не соловей, скорее - воробей, а тот и другой, как известно, плохо переносят неволю. И не выживают в ней.
Обыкновенной внешности. Не высокая и не низкая, не худая и не полная. Вроде ничего необычного, но глаза... какие глаза - большие, широко распахнутые и бездонные, взирающие на этот бестолковый мир удивленно и в то же время понимающе, с некоторой долей смешинки и лукавства, - подумал Самарин. - Так и утонуть в них недолго».
Они смело и бестрепетно кружились в вальсе. Со стороны посмотреть - каждое движение отработано, будто танцует эта пара совместно не в первый раз - и до того все было красиво и плавно, что на них начали засматриваться.
- Но нас обращают внимание, - тихо обронила Анна.
- Так и должно быть, - улыбнулся Самарин. - Ваш жених тоже на балу?
- Нет. А почему вас, собственно, заинтересовало?
- Все очень просто и объяснимо. Следующий танец - мой, вы обещаете?
- Да, Александр Борисович.
- Я не слишком стар для вас, Анна?
- Что вы! Вы так прекрасно смотритесь, подтянут, - она смутилась и как-то странно, из-под опущенных ресниц взглянула на Самарина. - Мне нравятся военные, хотя и среди них есть разные.
- И поэтому вы предпочли штатского? Он что, молод, красив? Или несметно богат, что вы остановили на нем свой выбор?
- Я не избалована. Просто пока не оказалось более достойного...
Гремела вокруг музыка, менялись танцы, продолжались беседы, не иссякали столпотворения у столиков и в курительной комнате. Знакомые подшучивали над Самариным: «Что, дорогой, нашел мечту свою? Однако, вдвоем вы смотритесь намного лучше, чем капитан Самарин в одиночку. Дерзаешь, Александр Борисович?»
- Вам приходилось воевать, Александр Борисович?
- Анна, можете меня звать просто по имени. Нам же так лучше?
Она соглашалась. Как впрочем и со многим другим - со словами Самарина, его жестами и уверенными объятиями в танце. И в то же время прочно стояла на своих жизненных позициях - удивительной смеси твердости духа и романтизма, упрямства и невольной женской обаятельности, но напрочь была лишена кокетства и бестолковых унизительных капризов. Самарину было с ней весело и хорошо, просто и радостно, и так не хотелось расставаться.
- Где же мы и когда увидимся?
- А разве это возможно? Вы, Александр, человек военный, то есть занятый службой и сильно загруженный заботами. Да и сколько женщин вокруг, которым ничего не надо обещать и которые мало что требуют, лишь бы с ними как-нибудь и случайно встретились, а, Саша?
- Анна, не шутите так со мной.
- Если хотите, можно видеться у моей подруги, я там бываю раза два-три в неделю. У ней интересно, собирается маленькое и нескучное общество.
- Очень хочу, - и Самарин уточнил дни и время. - Подруга ваша не обидится на нас за сегодняшнее?
- За что? А-а-а... думаю, что нет, у нее нрав легкий и любвеобильный, любит вокруг себя сразу присутствия нескольких кавалеров. Вот и сейчас она не скучает, посмотрите на нее!
- А еще где мы с вами встретимся, Анна?
- Вы сразу многого хотите, Саша! - она засмеялась - и словно зазвенел маленький серебряный колокольчик.
Бал завершался. Еще гремела музыка и шли танцы, но уже самые нетерпеливые оставляли общество. Впереди у кого дела, служба, заботы... подходили, прощались со знакомыми, свидетельствовали свое почтение хозяину - господину Р. - и покидали бал.
- Погулять с вам хочу. Покататься в экипаже. Подышать воздухом, пройтись не спеша с вами, главное - с вами, рядом. Хочу чаще говорить и видеть вас.
- И не боитесь моего жениха?
- Он страшен? Грозен и силен? А разве по мне не видно, что я бесстрашен и обаятелен?
Анна улыбнулась. Не сводила глаз со своего, в который уже раз, партнера по танцу. Самарин был неотразим - говорил и говорил, и все чаще они смотрели в глаза друг другу - смущенно, зазывающее, с ожиданием.
- Можно и видеться, - она согласилась. - Встречайте и провожайте, когда я...
Устав, они сидели и отдыхали, но разговор не прерывали.
- Саша, вы воевали? Вы мне не ответили.
- Приходилось. Так ли интересно об этом рассказывать? Анна, ваш отец - человек военный, и я не сомневаюсь, что вы знаете много о войне. Почему вы спросили?
- Я иногда вижу калек. В старых потрепанных, но аккуратно вычищенных мундирах они идут - так им, видно, представляется - по улицам, чеканя шаг. А на самом деле - тащатся люди, искалеченные войной: на костылях, с пустым рукавом, в черной повязке через лицо. Страшно, Саша. Батюшка иногда шутливо рассказывал, как они под звуки труб, с развевающимися штандартами и знаменами, на нетерпеливых и горячих конях, в красивых мундирах шли лавиной в атаку... А что потом - не говорит, угрюмо молчит.
- Все, что на виду и красиво в начале - об этом можно говорить и показывать, а то, что остается потом - достается военному поодиночке и оседает у него в душе, становится тайной, лишь доступной тому, кто сам испытал настоящий бой. Уважающий себя военный никогда не раскрывается перед изящным обществом до конца - изнанка войны отвратительна и черна.
- Вы тоже не будете рассказывать?
- Да, Анна.
- Вы чем-то схожи с моим батюшкой. Он очень печется и беспокоится за солдат и офицеров. Таким, как я поняла, он был и раньше. Помнится, когда еще матушка была жива, он писал нам после битвы у реки Ларги, где Румянцев сражался с турками.
- Ваш отец сражался у реки Ларги?
- Да, Александр. Но почему вы так изменились в лице? Вы слышите, объявляют последний танец. Уже поздно. Простимся? Я еду со своей подругой. Провожать меня, думаю, будет сегодня не слишком прилично.
- Анна, и все же что мешает нам сейчас потанцевать? Без вас они никуда не уедут.
Танцевали молча, погруженные каждый в свои размышления. Как не был встревожен Самарин последним известием Анны (отодвинься, то страшное мгновение, куда так медленно, но упорно толкало его после сражения у реки Кагул!), все ж он, чувствовалось, не мог перебороть в себе неожиданно зародившейся в нем тяги к Анне, ее обаянию, ее необычности, ее пониманию, ее... В общем, лишила Анна холостяцкой уравновешенности Самарина, взорвала его покой и показную безмятежность - и шансов «не утонуть» не осталось.
- Ждем вас, капитан, в нашем обществе, - милостиво высказала при расставании опекунша двух девиц. - Тем более, как мне показалось, вы не остались равнодушными к прелестной Анне.
И взаимно откланявшись, они простились.
Самарин провожал взглядом Анну, и она, почувствовав пылкий и тревожный взгляд своего кавалера, мигом обернулась и помахала ручкой.
- Понравилась девица? - отрезвил Самарина голос полковника, остановившегося рядом. - С чем и поздравляю. Пора, брат, пора.
-А кто ж она? Как-то не дошло: вначале прослушал, потом - не удосужился узнать.
- Анна Назарова, дочь коменданта гарнизона городка - премьер-майора Назарова.
* * *
Прошло несколько месяцев. Самарин попытался избегать Анну, что было вроде и не так трудно - всепоглощающая служба, да и Анна не была любительницей без дела появляться на улицах или тем более кого-то искать. Но так было недолго. Служба обрыдла Александру, и он ругал ее за монотонность и однообразие, осознавая при этом, что ухудшение его самочувствия и богатырского здоровья кроется однако же вовсе не в службе... службу военную он любил и, казалось, был рожден для нее и только для нее. Ан нет, грызет его, Самарина, что-то, и служба вроде в тягость, точнее тягостно идет. Значит, в другом дело? Он нашел Анну, в один из указанных дней встретил ее в доме-особняке ее подруги в небольшом обществе молодежи, где выделялся и блистал штатским умом и неплохими ораторскими способностями присутствующий здесь жених Анны. Взыграло в душе Самарина, когда он увидел их вместе, но был встречен такой ее улыбкой, - вроде скромной, но долгожданной - что вновь почувствовал себя как на балу. И сразил всех - обаятельностью и манерами, анекдотами и беседой. Ловил Самарин на себе косые взгляды жениха и думал: «Нет, не отдам тебе я Анну. Взяла она меня за живое. И что я буду перед собой кривить душой, если знаю, что полюбил Анну! А биться за свое я приучен».
Поняла это и Анна. Дни складывались в недели, и их свидания перешагнули уже из салонов на прогулки, долгие и долгожданные, когда гуляешь или едешь в экипаже, много и в то же время конкретно ни о чем не говоришь, когда постоянно ощущаешь рядом любимого человека. Остался где-то позади забытый и позаброшенный жених, и первые недомолвки, и прошлые намеки - теперь они многое знали друг про друга, знали про свои отношения, знали свою, только им известную любовь. Но Самарин в ответ на приглашение Анны познакомить его с отцом отвечал неизменным отказом, чем обижал ее.
- Не могу, пойми. Тебя люблю, ты знаешь - и доказал это тебе. И ты мне все отдала. Но не могу туда - на глаза ему. Такое предчувствие, что увижу его - и конец нашему счастью наступит.
- Но почему? Он знает, что ты есть у меня.
- И знает, кто я?
- Знает.
- И не возражает?
- А почему он должен быть против? Ты офицер, дворянин, я тебя люблю - что еще?
- Он не возражает, Анна?
- Что-то я вас не пойму. Обоих. И тебя, Саша, и отца. Когда я говорю с каждым из вас о своем счастье... с каждым из вас, кого так люблю и кто меня так любит и желает счастья... то вы, двое моих мужчин в мире, удивляете меня вот этим «Он не возражает, согласен?» Александр, мне надоело! Говори, да или нет?
- Анна, давай прямо сейчас в церковь. Согласен!
- Нет, я не могу без родительского благословения. Ты трус?
- Нет. И не был им. Идем, - и Самарин шагнул, потянул за руку Анну. Он знал куда идти, не раз провожая Анну к тому дому. - Только прошу, Анна, зайдем на минуту к моему одному приятелю. Тут рядом. Заберу у него кое-что... сумку.
Анна замешкалась сзади. Александр, не дожидаясь ее, прошел по коридору и уверенно постучал в дверь. Шел и стучал так, будто был здесь неоднократно. Не дожидаясь ответа, приоткрыл дверь, увидел сидевшего к нему спиной человека в военном мундире за столом. Затем привычным движением достал из своей сумки пистолет и шагнул в кабинет.
- Назаров?! - На этот обращенный к нему вопрос-утверждение военный за столом повернул голову, удивленно скосил глаза на лицо вошедшего и медленно начал подниматься.
- Господин Самарин? Поручик Самарин! - с заиканием сказал Назаров под обращенным на него дулом пистолета.
Сзади набегала на них Анна, с побелевшим лицом и расширенными глазами. Взор ее был обращен на пистолет в руке Самарина.
- Саша, Саша, не смей! Я тебе все сейчас объясню! Стой!
- Капитан, уже капитан я, Назаров, - побелевшими губами прошептал Самарин. Но тут его хлестнул крик Анны. Твердая рука Александра содрогнулась, и он спустил курок пистолета.
Прогремел выстрел. В тесном кабинете запахло порохом.
Назаров с окровавленной головой начал валиться вбок, мягко упал на пол.
Оглушенная выстрелом Анна еще стояла несколько секунд - ее вытянутые вперед руки - не жениху и отцу - закаменели в позе верующей, потом обмякли, как обмякло и тихо расползлось по ковровой дорожке ее прекрасное тело.
Самарин невидящим взглядом окинул побоище, выронил пистолет из руки и... пошел сдаваться в гарнизон, где и был взят под стражу и засажен в арестантскую. О происшедшем немедленно было извещено в полк Самарина. Бросив все дела, на место выехал «сам» - командир полка.
Полковник ворвался в камеру Самарина грозный и взбешенный.
- Как ты смел решиться на такое? Стрелять в заслуженного офицера, коменданта гарнизона! Ты знаешь, чем это пахнет? Это даже не дуэль, это... это... это черт знает что! Даже в голове не укладывается! И это в моем полку?! За что ж мне такая напасть и честь? Чем я провинился и в какую теперь глушь попаду? Нет, в боях было проще и лучше, там знаешь, где враг и что тебя подстерегает...
Полковник, озверевший, мягко и по-кошачьи подступил к Самарину.
И сорвал эполеты.
- Нет, ты не достоин их. И никто тебе не поможет. Разжаловать! В рядовые! Или пристрелить как... как...
- Господин полковник! Скажите - я убил его?
Полковник опустошенно посмотрел на него и вдруг сказал:
- Самарин, что ты наделал! Что ты наделал... Ты даже не представляешь. За что ты его?
Капитан так же опустошенно повторил свой вопрос:
- Скажите, я убил его? Я убил его???
7. КТО ВЫ?
Сзади настигала отступающих по улице города обезумевших и все же яростно защищающихся янычаров волна гренадеров. Хищно ощетинились выброшенные наперевес штыки, лица русских солдат оскалены и закопчены. Бегут дружно и напористо, возглавляемые далеко оторвавшимся вперед полковником, иногда взмахивающим над головой шпагой.
Город горел. Горели дома. По улицам метались в дыму и пожарище сорвавшиеся с коновязей кони турецкой кавалерии. Сражение - не на жизнь, а насмерть - продолжалось на улицах города, ибо турки сопротивлялись ожесточенно и сдаваться не собирались. Выстрелы, лязг оружия и крики оглашали каменные лабиринты улиц, рвались бомбы, картечь разила насмерть, не выбирая, кто здесь защитник города или нападающий.
Отставший янычар скрестил свой ятаган со шпагой набежавшего полковника. Силен и молод был турецкий солдат, но и крепка была еще рука сорокалетнего полковника, мастерски владевшего своей шпагой. И лежать бы янычару через минуту проколотым у каменной стены, кабы не увернулся он и не услышал глухой хряст сломавшейся шпаги русского офицера.
Мгновенно прикинув, - приближающиеся гренадеры чуть запоздают, быстрее будет спешащая ему на помощь группа - янычар яростно набросился на русского, пытающегося теперь защититься обломком шпаги. Полковник отразил два удара, ловко увернулся назад, вновь и вновь уходя от свистевшего ятагана.
Огромными прыжками к ним приближался рослый усатый гренадер. Как на плацу, заученно и точно, он выбросил вперед штык своего ружья, вонзив его глубоко в турка. Закончив выпад, сделал движение назад - и заспешил дальше за своими товарищами. Полковник выкрикнул ему в лицо: «Стой! Куда ты? Скажи себя!» - но солдат уже бежал дальше усталой напруженной походкой.
Полковник вытер рукавом мундира пот со лба, поднял свою треуголку. Подумав, поднял ятаган и бросился вдогонку за своими солдатами. Его догнал молодой поручик, с волнением выкрикивающий: «Господин полковник! Ваше превосходительство! Разве ж можно так, Александр Борисович».
Полковник чуть приостановился.
- Можно, поручик. Нужно! И не отставай, Углов! Кто, как не мы, должны быть впереди наших орлов!
Они побежали вперед.
И когда перед полковником, в гуще солдат разорвалась бомба, он вроде бы даже не удивился. «Должно же быть когда-нибудь... в такой страшной битве и чтобы не прихватило?» - и спокойно рухнул, теряя сознание. Над ним, посеченный осколками, нагнулся его верный адъютант, поручик Углов, словно не веря в происшедшее... Не веря, что его славный и любимый командир полка сражен под занавес битвы, когда до падения крепости Измаил остались считанные мгновения...
В 1787 году Турция, не примирившаяся с растущим российским влиянием в северном Причерноморье, вновь объявила войну. Спустя три года военных действий неприступная крепость Измаил, что возвышалась в устье Дуная, должна была стать одной из последних и завершающих точек происходящей русско-турецкой войны. Но не так-то проста и победима оказалась крепость Измаил - после нескольких месяцев осады русские войска из-за осенней непогоды, болезней, острой нехватки продовольствия и снарядов начали отступать от крепости. Осада Измаила не дала победного результата, а внесла лишь ропот и недовольство в среде солдат, где непогода и болезни довершали разложение русской армии. Прискакавший Суворов настиг отступающих и вновь завернул их к Измаилу.
Две недели готовилась русская тридцатитысячная осадная армия к штурму крепости, постигая ночами на специально отрытом полигоне науку забрасывать ров фашинами, ставить штурмовые лестницы, идти на приступ вала слитно и яростно. «Тяжело в учении - легко в бою!» Неустанно работала и разведка.
Суворов - ультиматум коменданту крепости Измаил: «Я с войсками сюда прибыл. 24 часа на размышления - воля. Первый мой выстрел - неволя. Штурм - смерть».
Отважный Айдозли-Магомет, трехбунчужный паша, возглавляющий турецкий гарнизон - ответ (так же лаконичен и достойный ультиматуму):
«Скорее Дунай остановится в своем течении и небо упадет на землю, чем сдастся Измаил» (или вариант: «Скорее небо упадет на землю и Дунай потечет вспять, чем сдастся Измаил»).
Итак, все ясно - акценты расставлены, противники поняли обоюдную неуступчивость и остается только одно: одному - нападать, второму - защищаться. Иначе, другими словами - штурм!
Рано утром 11 декабря 1790 года русская осадная армия, ожидая сигнала, приготовилась идти на штурм. Граф Суворов-Рымникский сквозь густой туман пытался еще раз рассмотреть Измаил.
Крепость в форме треугольника, по длине сторон составляет десять верст - одной стороной в виде каменной стены граничила с Дунаем, две остальные сухопутные стороны защищены земляным валом до пяти саженей в высоту, рвом шириной в шесть саженей и глубиной в пять саженей. Тридцатипятитысячный гарнизон крепости имеет двести-двести пятьдесят пушек.
Сейчас, сейчас скоро загремят пушки, польется смола и полетят камни на атакующих крепость егерей и гренадеров, спешенных казаков, а со стороны реки с судов гребной флотилии будет высаживаться десант и громить турецкий флот, и русская артиллерия будет бить по крепости и по улицам города.
Колонны штурмующих готовы и только ждут сигнала, долгожданной команды. А Суворов продолжал заворожено смотреть на седеющий Измаил и думал. Уж ему ли не знать турка?
... В 1778 году Суворов предотвратил высадку турецкого десанта в Ахтиарской бухте. Не сделай он этого - и Россия была бы ввязана в новую войну в невыгодной для нее международной обстановке!
До 1786 года Суворов занимается усилением обороны Крыма. В 1786 году произведен в генерал-аншефы.
Новыми битвами и походами, принесшими ему неувядаемую славу, Александр Васильевич Суворов знаменует свое участие в новой русско-турецкой войне, начавшейся в 1787 году:
побережье в районе Кинбурн - уничтожил турецкий десант в октябре 1787 года;
осада Очакова - 1788 год;
в Молдавии - разгром турок при Фокшанах (июль 1789 года) и Рымнике (сентябрь 1789 г.).
За победу на реке Рымник Александр Васильевич стал графом Суворовым-Рымникским. Имея 7 тысяч солдат и 18 тысяч союзников-австрийцев, Суворов атаковал и разгромил превышающую сто тысяч человек турецкую армию.
Помнит, помнит это сражение Самарин, где и он участвовал с небольшим отрядом. Рымник - приток Дуная... ох, эти притоки Дуная в его жизни военного - Ларга, Кагул. Помнит Самарин и необычный прием Суворова, когда последний, зайдя в тыл туркам, бросил в атаку на их окопы свою конницу, а вслед повалила на турка русская пехота (и Самарин со своим отрядом). Да, такого еще не существовало в военной науке - конницей на окопы!
А теперь вот - Измаил.
Штурм.
Сражение ожесточенное. В плен турки не сдаются, сражаются до конца - приказ им такой дан? Ожесточение заставляет? Или неповоротливая военная турецкая машина нагнетает на своих солдат тупой страх и боязнь перед пленом, что они предпочитают скорее смерть?
Чья будет победа? Известно-то одному Аллаху... или Богу. Суворов против Айдозли-Магомета.
Двадцать шесть тысяч турок остались убитыми на улицах города и стенах крепости, во рвах и на валах.
В полдень, после десятичасовой битвы, Суворов извещал Потемкина, что Измаил взят. Граф Суворов-Рымникский писал князю Потемкину-Таврическому еще об одной победе русского оружия.
... Полковой лекарь разогнулся.
- Что? Что с ним? - торопливо спрашивал Углов. Его юное лицо перекосилось, будто он испытывал острейшую зубную боль или сильный приступ застарелой подагры.
- Пусть передохнет, немного придет в себя. И побредем дальше. Что ты торопишься? Не видишь, что ли, требуются остановки, отдых человеку - не может он быстро и долго сейчас идти. Вечно торопитесь, молодежь! А куда, спрашивается?! Навстречу смерти? Почему, спрашиваю, не уберег командира? Почему? Адъютант называется... Тоже мне, адъютант - вам бы, господин поручик, свиней пасти, а не нашего полковника оберегать. Эх, балбес!
Не возражал Углов, не мог. В былые времена схватился ба за шпагу иль пистолет за такое оскорбление - но да миновало для Углова то буйное и младое времечко, да и трудно обижаться на своего всеми уважаемого полкового лекаря, а сейчас тем более - на его слова. Заслужил! Да, не уберег командира, не смог, не успел... поди угонись за полковником, что бегает как молодой, не боится пуль и чаще всего его можно видеть впереди, а не в обозе.
«Я - балбес? Балбес! Узнай мой батюшка про случившуюся беду с Самариным - будет гром и молния. Крут он до сих пор - заключение свое выдаст без промедления, и оно готово у него для меня в любой момент и всегда постоянно в течение последних лет: «Что, сын мой, допрыгался?! Все хочешь балбесом остаться по жизни?! Когда ж ты повесой и недорослем перестанешь быть?!» - в сей реляции менялись местами только вопросительный и восклицательный знаки да интонация.
Любил ли Углов-старший сына? Да, очень. И очень хотел посему, чтобы из сына вышел толк. А где, как не на военной службе получается стоящий человек?! Вот и попал молодой Углов в конце концов в полк к Самарину. «... Я, конечно, понимаю, что моему отроку хотелось бы в гвардию иль, на худой конец, хотя бы в кавалерию - сие тоже престижно, да и шансы устроить были. Но да это не уйдет, пусть для начала понюхает порох, потопает в охотку, станет приличным офицером и заимеет награды... а где ж такое ему понять, как не у вас, Александр Борисович! Знаю вас давно и наслышан про вас - кто ж науку молодым преподаст, как не мы! Мне нельзя, я - отец. Значит, только друзья мои. Потому и вручаю своего сына вам, не жалейте его, гоняйте до седьмого пота...»
Знал ли об этом письме своего отца Углов-младший? Вряд ли. Хотя мог догадываться, что имелось некое рекомендательное письмо его батюшки к некоему Самарину Александру Борисовичу. Было это... было это, наверное, году в 1785, когда младший Углов неожиданно получил новое назначение и попал на юг, в пехотный полк.
Молодой он был тогда, дури и самоуверенности хватало. Попадал несколько раз в нехорошие истории, но где сам выход находил, а дважды помогал Самарин.
«Эх, - думал в те времена Александр Борисович, - молодо-зелено поручики! И чертовы мудрые отцы-командиры-полковники! Что бы вы делали друг без друга!» Первый раз Углова-младшего он распекал чуть ли не час и... вроде даже грозился дать по морде. Во второй раз он продержал молодого минут десять «во фрунт», не обронив ни фразы, а под занавес выгнал вон - мол, думайте, молодой человек - что может позволить себе штатский человек, того не разрешается военному! А то где ж тогда порядок?
В том году, помнится, вышла «Жалованная грамота дворянству» - пеклась императрица о своих подданных, вновь подтвердив благородность дворянства, их права, привилегии и наследство, добровольность выбора службы. «... Подумываю уходить в отставку, - так заканчивал свое послание Углов-старший. - А за сына порадей за ради нашей дружбы и военной молодости».
Немного познал своего командира Углов-младший. Кое-что из рассказов своего батюшки: «... Как мы рубили турка в Молдавии... давно это было». Отдельные отрывки - из уст самого Самарина, рассказывающего про себя редко, мало и скупо. Много говорили о Самарине однополчане, но трудно было понять там, где правда, а где вымысел, где явь, а где легенда... рассказывали, что Самарин год просидел в турецком плену в глубоком и сыром зиндане, что был пленником у греческих пиратов... что был подстрелен на какой-то страшной дуэли, за что года три ходил разжалованным в рядовые... что женился на дочери известного генерала... и что его, Самарина, знает сам Александр Васильевич Суворов... что он, Самарин, заговорен от пуль и осколков, а в давние времена они вместе брали в плен великого смутьяна и бунтовщика Емельку Пугачева. Да мало ли чего наговорят, всему верить, да тем более известно всем неверие молодежи... и однако - так хочется побыть около ореола своего командира, у которого он, Углов-младший, вскоре и стал адъютантом, души не чая в Самарине. Последний лишь посмеивался над такой влюбчивостью и старался не запекать своего преданного адъютанта в слишком уж горячие баталии. Жалел и берег, помня наказ-письмо.
... Самарин застонал, открыл мутные глаза, в которых плескалась боль.
- Очнулся, командир! - подскочил полковой лекарь. - Берем, поручик! Поднимаем.
Они осторожно помогли полковнику, подхватили его за руки. И так пошли, задымленные пороховой гарью, в сером налете пепла, грязные и усталые - полковник, поддерживаемый офицерами с обеих сторон.
- Стой, кто такие?! - на них наскочил небольшого роста, в неброском мундире военный. - Откуда, служивые? Оттуда?! Горячо было?
Ветерок развевал редкий хохолок седых волос на его голове. Треуголка зажата в одной руке, в другой - легкая шпага. Сзади - группа офицеров, почтительно топтавшаяся чуть в стороне.
- Командир пехотного полка Самарин Александр Борисович! - мгновенно вытянулся и четко доложил полковой лекарь, представляя Самарина. - Он ранет. Выводим из боя - его полковой лекарь и адъютант.
- Бежите?
- Никак нет. Бой идет на закат. Полковник ранен в самой крепости, в уличном сражении, недавно, когда...
- Стой! Все! Хватит! Вижу и знаю. Оправдывается только побежденный. А Измаил пал, и вы - герои!
- Рады стараться, ваше превосходительство! - гаркнули офицеры.
- Вижу, вижу, - он подозвал кого-то из свиты и пошептался с ним, затем еще раз внимательно и цепко оглядел Самарина. - Наслышаны про вас, полковник! Докладывают о вас только хорошее. Мог я вас где ранее видеть? Вроде как лицо знакомое.
- Александр Васильевич, - пытались ему подсказать из свиты, - это - Самарин, он...
- Сам, сам вспомню... Подожди! - и перескочил на лекаря. - Что с полковником? Тяжело ранен?
- Ваше превосходительство! Сама по себе рана, может, и не так была бы опасна - в голову. Но вся беда в том, что полковник по молодости был ранен туда же, в голову... еще в первую турецкую войну, у Румянцева. Сейчас повторное ранение вызвало шок, контузию, и очень трудно сказать про исход. Так что не могу знать!
- Как это не можешь знать! - Командующий подпрыгнул, сморщился (ведь и он не раз был ранен, знаменитый русский «Топал-паша», как звали его турки). - Почему «не могу знать»?! Надо знать, надо! Мы знаем, как воевать, вы знаете - как лечить! Для того вы и здесь! Надо лечить - лечите, вылечивайте, ставьте на ноги! Таких людей терять не позволю!
Он взмахнул треуголкой.
- В лазарет полковника! И все, что для лечения надо, обеспечить. Головой отвечаете. Таких людей терять?! Вспомнил, вспомнил! Полковник, очнитесь, посмотрите на меня. Вспомнил, где вас видел. Фокшаны? Рымник? Правильно?
Самарин открыл глаза и увидел перед собой того, кого и хотел увидеть. Перед ним стоял Суворов (для сведения: за Рымник А.В. Суворов награжден второй шпагой с алмазами).
Сил для того, чтобы ответить по-гвардейски, хватило.
- Всю жизнь с вами, мой повелитель!
- Верю, мой полковник! Верю вам - надеждам России, офицерам российским. И узнаю вас, Александр Борисович!
Суворов полуобернулся к своей свите и поманил офицеров, тихо и отчетливо произнес:
- Вот такими бы я хотел видеть российских генералов!
И суворовская свита во главе с «самим» стремительно удалилась, оставив троицу в остолбенении. Самарин начал грузно валиться на поддерживающие его руки, когда возглас «полковник, что вы качаетесь как пьяный, подите сюда» заставил его вынырнуть из надвигающейся мглы. К ним приближался брюхатый и самодовольный генерал-интендант из их дивизии.
- А, что с вас сейчас толку! Никуда уже не годитесь. Ступайте своей дорогой.
Забледнел Углов, было рванулся к генералу, но Самарин успел прошептать ему: «Оставь, что ты ему докажешь, тылу...»
Александр Борисович облизнул засохшие губы, застонал, зачем-то зашарил рукой по мундиру. Во внутреннем кармане лежало письмо от отца: «... Сын мой! Плох я стал, хочу видеть тебя. Дождусь ли? Поспешай. Хотя, чувствует мое сердце, что дел у тебя много предстоит...»
- Поспешай, поручик! - полковой лекарь с трудом удержал враз отяжелевшего Самарина. - Давай ищи санитаров, донести его до лазарета. Дело дрянь! Успеем ли?!
А что Россия все эти прошедшие годы? С 1778 года.
В 1783 году крымский хан отрекся от власти. Крым и другие владения хана отошли к России. Так был реализован проект Григория Александровича Потемкина, который в 1784 году становится президентом Военной коллегии.
Начинает осваиваться Северное Причерноземье» - строятся Херсон, Николаев, Севастополь и другие города.
В 1785 году обнародуется «Жалованная грамота дворянству».
В 1787 году начинается война с Турцией. Кинбурн (1787 г.), Очаков (1788 г.), Фокшаны и Рымник (1789 г.), Измаил (1790 г.). Командует русской армией светлейший князь Потемкин-Таврический. Однако больше мешает Суворову.
... Где-то и как-то, наверняка, оставил в этих событиях, битвах и сражениях свой малый след и Александр Борисович Самарин. Не мог не оставить, как человек военный, на судьбу которого выпало немало испытаний и много интересного, не так ли?
... Не любит вспоминать свое прошлое полковник Самарин. Он не стыдится его - чего стыдиться романтики и службы военной, битв и сражений, развлечений молодости и атак, идущих в блеске парадном, столь волнующих и годы спустя. Но видно есть что-то, пробивающееся через мишуру воинской службы и поток воспоминаний, что долго и нудно травит порой сомневающегося в истинности того или иного полученного тобой ордена... Да, судьба не баловала его - скорее, он был избалован, возмечтав о поприще военном, где решил в конце концов почить на лаврах полководца... ан нет, в сорок лет - полковник, а не генерал, но вроде все равно неплохо, и грызет его, однако, в сем почтенном возрасте даже не чин, а нечто большее. Что? Боль за солдат русских, за которых он так пекся и нарывался на гнев начальства? Иль, может, та глупость, что сотворил он много-много лет назад, когда спустил курок пистолета, наведенного на вновь им найденного «злодея» Назарова?
Он помнит, до мельчайших деталей помнит тот день, когда тупо и упрямо спрашивал своего командира полка: «Он жив? Он жив... Назаров жив?
С него сорвали эполеты. Разжаловали в рядовые. И сослали в чертову глушь, где жизнь не ставилась и в грош - не далеко, не очень далеко, но на грань жизни и смерти.
Самарин! Полковник Самарин, очнитесь. На вас клочьями седого измаиловского тумана наваливается небытие, сознание ускользает от вас. Но вспомните! Припомните сквозь преграду лет - кто вы? И что вы? Офицер Самарин!
Есть ли вам чем гордиться?
Есть ли что вспомнить?
Что вы будете рассказывать детям своим и внукам, сыновьям своих друзей?
Но да будете ли... или все же???
Мы знаем о вас и слышали от других, что вы честно отслужили рядовым, солдатом. Год? Три? Начав офицером службу - тянуть лямку рядового гренадера? Вы сделали это, прошли сей путь, познав в деле науку пехотинца и его тяжбы, как... как Суворов?! Суворов, однако, шел по порядку - от рядового и далее. Вам, Самарин, было отмерено чуть иначе.
Вы молча и стойко перенесли тяготы и невзгоды. «Стойте, стойте! Далее я сам, - Самарин тяжело заворочался, и тяжелая пелена перед глазами вроде начала отступать. - Потом меня простили, отметили, а узнав, что я и дальше намерен служить - вернули все и заслали туда, поближе к смертельному рубежу.
Что дальше со мной было - до начала турецкой войны? Прозябал, служил, пробивался. Это уж война с турком мне позволила развернуться, встряхнуться, забыть себя и заново вспомнить о моем долге перед матушкой Россией. А до того трудно было. И здесь спасибо надо сказать Анне, моей Анне, жене моей...
Да, да, Анне - дочери Назарова, ставшей моей женой. Ставшей матерью нашего сына, вскоре появившегося на свет. Брак наш был благословлен моими родителями и самим Назаровым, которого моя пуля лишь только вскользь зацепила по голове.
Где-то я был, где-то я сражался, нес службу и караул - и всегда меня поддерживала своим присутствием и своей близостью моя незабвенная Анна, моя Анна, моя жена!
А выпало на мою долю, и выпадало много... горького и славного, кровавого и трудного, только везло мне, не был я ранен легко иль до смерти.
Где я был и что видел? Потом, потом когда-нибудь расскажу. Если успею. Как мой убиенный друг Поляков, не успевший поведать мне «про Кагул» - потому что не придавал он сей истории того кровавого и страшного интереса, как другие, как я, бывший тогда поручиком Самариным.
Сейчас, когда я все знаю и уверен в достоверности событий, мне кажется, что «дело» тогдашнего молодого поручика Самарина (то есть меня, меня в молодости) на реке Кагул, оказывается, и яйца выеденного не стоит. А я семь лет нянчил обиду, семь лет стерегся рокового выстрела! Надо ли было так, узнай я правду ранее? Но не винить же в этом Полякова, Углова, Назарова, самого себя, события последующие и годы! Нет виновных и нет смысла теперь копаться в той истории. Но... расскажу о ней еще раз... чтобы и у вас пропало подозрение. Все это было рассказано в письме Полякова, ставшего тогда, в 1770 году, невольным свидетелем моей драмы. Письмо адресовано Назарову (и упоминалось о нем в письме Углова, когда он писал мне в дни внутренней войны с Емелькой Пугачевым. Ох, эти мятежи и революции!..) буквально незадолго до страшной смерти семейства Поляковых, написанное и вскоре после визита к нему меня, Самарина.
Вспомнили?
И грех кого-то винить. Пусть все останется тайной и на совести живых и мертвых. Потом Назаров - вскоре после своего ранения от моей пули - представил сей пожелтевший лист письма в комиссию, простил меня и благословил наш брак с Анной.
Вы поймете их? Назарова? Анну?»
Назаров первым увидел турков. С одной стороны - пропадавшая время от времени походная колонна драгун, параллельно которой ехали он и Самарин, с другой стороны - мелькнувшие турки. Назаров, офицер в годах и в чинах, старался никогда не терять, а особенно при военных действиях, чувство осторожности и постоянного контроля за обстановкой вокруг - и в этом ему пока здорово проигрывал молодой и азартный Самарин.
И все же, за те несколько секунд, пока Назаров препирался с ничего не предчувствующим Самариным, двое конных турков охватили их с разных сторон. В стороне мелькнуло еще несколько турков.
«А, черт! Связался с младенцем, утерял то драгоценное время, которое так дорого было нам для отрыва от этих невесть откуда взявшихся турков - в засаде они, что ли, сидели, караулив кого? Пост их? Иль заблудшие и отбившиеся от своих, эти чурки! Или, в крайнем случае, мы успели бы занять хоть более выгодную позицию. Зря, зря мы ушли в сторону от своих. И зря я ввязался в столь щекотливый разговор - не время ведь и не по пути, да и стоило ли так резко с Самариным, офицером, вроде, неплохим и подающим надежды?» - Назаров дернулся, дал шпоры коню и вырвался чуть вперед, надеясь, что Самарин поймет его маневр и последует за ним.
Самарин понял. Только не успел ничего сделать - выстрелом одного из турков под ним был убит конь. Александр успел выдернуть ноги из стремян, сильно ударился и покатился по земле.
Пистолетные дула смотрели на них с обеих сторон, каждому предполагая пулю: в Назарова метил спешившийся турок, находящийся за спиной лежавшего на земле Самарина, успевшего чуть приподняться и вскинуть глаза на своего капитана. Чуть в стороне от Назарова вскинул пистолет другой турок, увидевший напротив себя попытавшегося встать Самарина - увидевший в Самарине угрозу для себя и поэтому, оставив цель в виде недалеко находившегося от себя Назарова, прицелившегося в поручика.
Фигуры расставлены. Поле битвы, Действия всех и загремевшие выстрелы разделяются мгновениями. И очень трудно сообразить - кто в кого и кто кого. И непонятно - что и когда... судьей здесь может быть только боковой зритель! И настигающий своих офицеров Поляков четко и хорошо видел разыгравшуюся трагедию и действия каждого - недаром говорится, что со стороны виднее.
Самарин ранен турком - «соседом» Назарова. Выстрел Назарова сразил неприятеля за спиной Самарина. Прав или не прав был капитан, подумавший, что турок спешился с коня для того, чтобы добить Самарина - и поэтому выстрелил именно в того турка, который вскидывал на него пистолет, стоя за Самариным... - в того, а не в другого (который, находясь в стороне от Назарова, и который мог бы спокойно, как по мишени, стрелять в капитана, все же выстрелил в Самарина, вроде как спасая от последнего своего собрата по оружию, находящегося в опасной близости от поднимающегося с земли русского офицера).
Итак, первые выстрелы прогремели.
Небольшая перестановка боевых лиц, смещение в пространстве - «сосед» Назарова вновь оказался чуть ли не за спиной завалившегося куда-то в сторону Самарина. Чуть сместившийся капитан Назаров. Раненный поручик, отрывающий голову от земли в последний для него трагический момент.
Зачем хотел турок обязательно добить Самарина? По инерции?! Или разозлил его русский, упорно встающий с земли? «Но ясно одно, что злость застлала разум турецкого солдата, - так подумал Назаров, - и он «бросил» меня!»
На этот раз капитан с ужасом понял, что опаздывает. Если в первой «дуэли» он выиграл - выиграл сою жизнь, то сейчас... Первым выстрелом турок в Самарина - с близкого расстояния, сверху с коня, куда-то в голову Самарину. Назаров, наконец поднявший пистолет, уложил убийцу Самарина.
«Эх, Саша, Саша! Не уберег я тебя!» А на Назарова уже надвигались наскочившие вслед за своими двумя убитыми предводителями турки. Капитан пришпорил коня.
... Таков один из эпизодов на реке Кагул - для Полякова, Самарина, Назарова. После кагула у каждого свое - отставка... плен... служба.
Полковник Самарин очнулся от того, что около его носилок тихо разговаривали. Он вслушался в знакомые голоса, признал. Кто же еще, как не его адъютант и полковой лекарь. Ишь, ждут. А чего ждут?
«А что ждать? Чего? Я тоже ждал. И дождался новой войны с турками. Новой не новой, а второй для России войны с турками. Второй - с турками - она оказалась и для него, Самарина. Когда узнали, что он неплохо знает турецкий язык, тем более вцепились. Давай, говорят, твое место там: неприятеля сего знаешь, тактику его и повадки изведал, опыт огромный - начинай, а точнее - добивай. Вот и добивает... три года. Вроде как смешно, но что-то не очень. Два года назад неожиданно для себя встретил здесь старого своего знакомого - турецкого толмача - да, того, из «святой троицы», опекуна от Ахмет-паши при Искандере, гонце турецкого паши. Вспомнили? Так что неожиданность была не только для меня, но и для него. Постарел мой бывший знакомый, сильно сдал, но держится хорошо и жизнерадостен. Состоит толмачом на русской службе, только жаловался, что приустал, место бы под старость найти полегче, а так доволен. О русских отзывается очень хорошо».
- Что толку, - говорил лекарь, - если бы ты связался с этим сытым и довольным собою генералом-интендантом?
- Я бы доказал ему! - горячо порывался Углов. - Мы кровь проливаем, а он... «Что с вас сейчас толку!» А с него?
- Ну-ну. Успокойся. Такие люди любят потом говорить: «Мы вас туда не посылали». Вот и думай - есть ли тогда цена нашей крови, ранам и смертям, чинам и наградам?
- Есть и будет, - Углов горько усмехнулся. - Вот и посылали. Не ты, толстый генерал, посылал, так другие, кто-то ведь все равно посылал! И хоть дешева кровь солдатская, но и она ответа требует... Россия ее помнит, ответит за нее.
- Думаешь, не забудет Россия наши дела?
- Не должна. Обязана не забыть.
«О чем это они? - Самарин захрипел в полузабытьи. - Ах, Углов, Углов, младенчик ты мой! Тебя бы беречь, тебе бы любить и быть любимым, а ты суешь свою голову под пули. Она, голова-то, ведь единственная у человека. И кто знает, что она может натворить - голова солдата и голова тех, кто наверху. Только вот ответ у них разный, расплата неодинакова.
Кто придет нам на смену?»
- Что же с Александром Борисовичем будет?
- Трудно сказать, - лекарь помотал головой.
- Ты разве забыл, что Суворов сказал?
- Помню, отчего ж. Только еще раз говорю: человек предполагает, а Бог располагает. Полковник может выжить, а может и нет. Возможен и инвалидный исход - паралич. Не могу-с точно сказать...
- Вы, господин лекарь, бревно. Да-да, не удивляйтесь. Вы - бесчувственное бревно.
- Ишь, заговорил, белая кость! В другое время за такие слова дал бы тебе по зубам, но ноне - нельзя, не простят нам сего живые и мертвые. Так что, дорогой поручик, не мешайтесь и не путайтесь здесь под ногами - ваша миссия закончена, а на остальное - воля божья.
- Ишь ты, богобоязненный какой нашелся! Да я...
Захрипел очнувшийся полковник, сказал надтреснутым голосом: «То ли мнится мне, то ли явь, но все равно - перестаньте, господа!»
К нему, удивленно переглянувшись, потянулись поручик и лекарь. Это им сказано? Или бредит?
- Если доведется не выжить, захороните меня дома, рядом с дедом, - услышали они ужасные слова. Полураскрытые глаза Самарина, мутные и невидящие, не выражали ни страха, ни боли, ни боязни.
- Лихорадка начинается, горячка и бред, - прошептал лекарь.
Полковник беспокойно заворочался.
А где-то там, вдали, в России ждали его возвращения, ждали с надеждой и любовью, с радостью и трепетом состарившиеся родители, семья, друзья и родственники.
Ждала родимая матушка, до сих пор не оставившая волнения за уже теперь взрослого сына. Что ей медали и ордена, чины и войны! Ей сына подайте, живого! Как нелепо в этом мире, если дети умирают раньше тех, кто дал им жизнь.
Ждал батюшка, облаченный доверием уездного дворянства и ставший их предводителем. Он и сейчас смотрелся грозно и внушительно, седой и статный человек, страстно, однако, любивший сына Александра... И все же: «Сын мой! Плох я стал, хочу видеть тебя, дождусь ли?»
Ждал Назаров. Своего зятя - мужа своей единственной дочери, в которой души не чаял и счастья которой не представлял без того бывшего поручика, которого взрастил под Ларгой и Кагулом.
Ждала Анна. Ждала, ждала, ждала, ждала!
Ждала Россия.
Ждал мир.
Чего и что они ждали?
Подрастающий сын Александра Борисовича бредил сражениями. Он с увлечением рубил кривым зазубренным турецким ятаганом крапиву, репейник, забор, уток... и чего еще только не рубил, бросаясь в лихие атаки на живность и растительность усадьбы Самариных. Любимым учителем и наставником подрастающего Самарина стал старый турок-толмач, неведомо откуда раздобытый отцом и присланный в имение с рекомендацией, что «сей человек - мой старый боевой друг, вместе несли тяготы службы в первой турецкой войне...» Старый турок, в свою очередь, души не чаял в отчаянном мальчишке, дневал и ночевал с ним, воспитывал этикету, воинскому благородству, передавал знания, много рассказывал о своих странствиях, Турции, восхищался Россией, часто вспоминал Александра Борисовича (почему-то чаще называя последнего Искандер-пашой) и их совместные «битвы» и походы. Так что маленький Самарин обожал «своего турка». Изъяснялись между собой они то на русском языке, то по-турецки. Мальчонка бредил о войне, мечтал стать военным, чем приводил в ужас своих неуступчивую матушку и ласковую бабушку.
Знал и ведал о сих подвигах своего сына Александр Борисович Самарин. Усмехался в усы. Даже наказывая, все равно срывался: «Сын, такое у военных не положено. Дисциплина, Иван, где, спрашиваю, дисциплина?»
И малый Иван, правнук солдата-полтавца Ивана Самарина, четко рапортовал в ответ:
- Будет!
Когда в 1789 году во Франции разразилась революция, когда стерли с лица Земли Бастилию, когда... тогда и подумал Самарин (если точнее - перед Измаилом), что не турецкий язык надо бы учить его сыну Ивану, а наверняка другой. Ветер войн изменился, и скорее будет дуть с Запада, откуда-то, наверное, со стороны Франции... Не его ли, французский, пора учить? Впрочем, многие русские на нем и говорят. Что свергают революции и чем заканчиваются они - труднопредсказуемо, а посему неплохо бы и подготовиться. Вот Самарин и написал тогда супруге, чтобы она нашла сыну учителя французского. Объяснять причину не стал, ибо понимал, что и военный вправе просчитаться...
Да, примерно в это же время Самарин узнал о смерти Петра Ивановича Панина. Вспомнилась смута Пугачева. Почему-то подумалось: «Суетимся, суетимся, а конец один - что у Пугачева, что у Панина, а?»
«Жизнь - Отечеству. Честь - никому». - А.В. Суворов.
Так кто вы?
Кто вы, офицеры российские?
Что вас ждет впереди - поручик Углов, подрастающий Иван Самарин и другие офицеры пехотные, кавалерийские, артиллерийские, морские?
Мы догадываемся, что впереди у вас много славных ратных дел, что кто-то из вас будет участником итальянского и швейцарского 1799 года похода А.В. Суворова. Вы будете драться в 1805 году под Аустерлицем, погибать на Бородинском поле. Оставшиеся в живых и не потерявшие совесть выйдут в 1825 году на Сенатскую площадь.
Назад оглянуться - зачем и куда?
А что впереди? - не ведая зря...
8. ГДЕ ВЫ, ПОЛКОВНИК САМАРИН?
... Измаил. Не так уж прост он показался всем. А Исмаил - имя ведь турецкое, да? Не простым он был, Измаил-крепость, и для Суворова... да и для самого Самарина. Есть что вспомнить!
Воспоминания - одно, сны - другое. Пусть даже связано было бы со службой или Пугачевщиной - ладно, пережил бы Самарин и это. Но когда сквозь мутную пелену тупой боли и странных видений твоего затерянного прошлого и ушедшего мира в тусклое сознание прорываются странные и искаженные видения, жуткие кошмары - в такие минуты невыносимо жить. Самарин просыпался, приходил в себя, мотал головой, исходил потом, трясло всего, сводило руки - и думал, вспоминал, пытался понять: он жив еще, легко отделался, или оглушили и бросили? Вот он отмахивается от конных теней тяжелым палашом, вот стелется на коне по полю вслед уходящим всадникам - догоняет, что ли, или же настигает, пытается настичь... И достанет ли их, врагов ли, друзей своих? Или вот сон странный приходил, всего-то несколько раз, но непонятный и тяжелый - идет он, Самарин, мимо открытых ворот, а во дворе народ толпится и лица большинства из них знакомы - Сотников, Шилов, Азаров, Поляков и другие, машут ему приветливо и дружно - мол, заходи, и так тянет свернуть в их дружную компанию, переброситься словом, поднять бокал шампанского. А оттуда выходит Некто и, чуть отталкивая Самарина прочь, говорит ему: «Рано тебе сюда, не пришло еще твое время быть с нами. Проходи!»
И Самарин приходил в себя. Значит, жить будет. Намерен. Тяжело шла поправка Самарина после Измаила: долго болела голова, а сам будто как вновь возрождался. Упорно и нахально лезла в глаза, звенела в голове и кружилась в памяти Пугачевщина... и вроде времени с той поры уже прилично прошло - полтора десятка лет. Ан нет - заполучи, Александр Борисович Самарин, воспоминания, виденное и слышанное, прочитанное и узнанное из разных источников... просто так «пугачевщина» не отпустит.
Панин умер недавно, в 1789 году. С июля 1774 по август 1775 года он командовал войсками, действовавшими против отрядов Пугачева.
В 1768 году войско крымского хана (турецкого вассала) вторглось в южные территории России. Русские войска во главе с Румянцевым вступили в Молдавию.
Потемкин Григорий Александрович 1737 г.р. В 1783 году реализовал свой проект присоединения Крыма к России, став за это светлейшим князем Таврическим. Осваивал Северное Причерноземье, строил Херсон, Николаев, Севастополь. В 1784 году стал президентом Военной коллегии. Потемкин умер в октябре 1791 года под Яссами.
Кстати, башкиры своим визгом напоминают татар.
За неполные сорок лет до прихода к власти Екатерины II - семь переворотов и мятежей. Воцарение Екатерины II - восьмой переворот, за первые десять лет правления - сорок крестьянских восстаний.
Согласно Перечневой Ведомости («Перечень»), составленной графом Петром Ивановичем Паниным вскоре после мятежников по сведению комиссии:
«... страдальческими смертями замучено дворян 67, их жен 90, обоего пола детей 94. Перебито до смерти: дворян 232, их жен 103, младенцев 49. Потоплено: дворянских младенцев 15. Прочих убито... Итого дворян, их жен и детей умерщвлено 1572. Священнослужителей с их женами истреблено 237. Унтер-офицеров и приказных служителей с их женами и детьми истреблено 1037... До отправления сего не подоспели еще ведомости из 14 городовых канцелярий...»
Из манифеста Пугачева от 31 июля 1774 года:
«... Противников нашей власти и возмутителей империи ловить, казнить и вешать...» И сообщники Пугачева заставили народ пить за здоровье государя Петра Федоровича, били крестьян плетьми и вешали непокорных. Имперская следственная комиссия отвечала тем же.
Полковник Михельсон близ реки Волги 25 августа разбил главное пугачевское скопище, взяв в плен более шести тысяч человек и уничтожив две тысячи мятежников.
По «дороге в Москву» Пугачева лечили от жестокой простуды. Пугачева казнили 10 января 1775. Праха его сожгли вместе с эшафотом. Дом его в Зимовейской уничтожен.
... Закончился отпуск по ранению, полковник Самарин вернулся жизни и военной службе...
* * *
Итак: хорошо начатая военная карьера закончилась многомесячным турецким пленом, а затем - вопиющим бессмысленно-страшным выстрелом в абсолютно невинного человека, следствием чего последовало разжалование и годы тяжелой солдатской службы в рядовых чинах. Начинал снова, прошел славный путь - и к сорока годам полковником был страшно контужен, будучи участником суворовского штурма неприступной турецкой крепости Измаил. И генералом, так нужным суворовскому гению, стать не удалось - очутился в длительном отпуске по лечению старой раны. Но уже тогда взоры своего сына Ивана обращал на запад, «а не на юг смотри, - говорил он сыну, - языком турецким не увлекайся, налегай-ка лучше, к примеру, на французский... кажется, оттуда ветром дует, может, пока и не ветром, сквознячком пока только, но это пока». Как предчувствовал старый вояка, что турецкий вопрос на излете, а впереди неведомо-другие баталии. И будут они - польские, франко-итальянские, скандинавские, европейские и, наконец, российские. Так где вы, полковник Самарин? И что вы сейчас?
* * *
Я, боевой российский генерал Александр Борисович Самарин, переживший многих неприятелей империи Российской, пережил деда своего, ратника Полтавы, и отца - победителя Берлина. На моем веку хоронили неповторимого Суворова и неподражаемого фельдмаршала Кутузова. С ними я брал Измаил, с Суворовым ходил против туретчины и польских мятежников... Не миновали нас и Пугачевские события. Благословенный император Павел I дал нам отставку, но мы пережили и его. Я - годами, генералиссимус - памятью народной и величайшим к нему почтением умов военных. Мне пришлось - и навеки - проститься с сыном Иваном, прекрасным офицером - полковником, погибшим в возрасте Христа под Бородино... я заканчиваю его святое дело, приняв по предложению Кутузова полк ратников ополчения и участвовав после сдачи Москвы в битвах под Красным, Тарутино, Малоярославцем. Шел мне тогда седьмой десяток.
Но теперь, по истечению трех четвертей века жизни, вглядываясь в жизнь еще бодрыми, но уже помутневшими и выцветшими глазами, я вспоминаю не прошлое в завешенном оружием кабинете и вглядываюсь не на Запад, а пристально смотрю на Восток. Рядом со мной находится моя верная подруга - жена Анна, сломленная кровавыми мужскими походами, больная и утомленная. Она тоже с надеждой обратилась в сторону восхода солнца... Туда, куда ссылают в сибирскую каторгу нашего молодого любимого внука (сына моего Ивана Александровича) после страшных декабрьских событий 1825 года на Сенатской площади...
* * *
- А вот скажи-ка, молодой да ранний поручик Иван Александрович, благопочтенный твой родитель-генерал ведь порадел за сынка...
- Он - боевой генерал, а не паркетный шаркун.
- Он-то да, а ты где успел отличиться?
- В Польше, у Суворова.
- Да погодь, сколько ж тебе, сынок, лет?
- Я вам не сынок и за такие слова вполне могу потребовать сатисфакции. Дуэли. Но поскольку время и место сейчас не то, я просто объясню на словах. Я - из потомственных военных, со времен Петра Великого, оттуда мы счет и ведем и служим России каждый с малолетства. Повторяю - с малолетства. А сейчас, здесь, в Северной Италии, какая может быть дуэль между нами... есть интересы повыше.
- Приношу вам, господин поручик, свои глубочайшие извинения за сии столь необдуманные слова и упреки. Но скажите - зачем вам эта земля италийская, чуждая и далекая, чтобы проливать здесь свою кровь и, тем паче, чуть не оставить жизнь и в большом горе своих почтенных родителей?
- Не мы - так другие придут.
- А если не придут?
- Не пришли бы русские, другие пришли бы, как французы - и останутся здесь на долгие времена, грозя издалека, а потом все ближе и ближе к границам державной России. Все мои охраняли Россию и бились в ее интересах в дальней стороне: отец - с Турцией и в Польше, дед - в Германии. Только прадед воевал в Малороссии и Прибалтике, вроде как недалеко от родных стен. Как видишь, изумление идет, пол-Европы прошагали, чуть не дотянули до западной оконечности Европы. Но я уже где-то рядом, может, судьба подарит мне Францию - саму Францию, а не французов в Италии, с кем мы сейчас и схватились.
... Мы пьем шампанское,
Мы пьем вино,
Играем в карты,
Но знаем мы давно
Об итальянском «домино»,
Где черное и белое в шахматном порядке...
* * *
- Александр Васильевич! Мы не прорвемся, не пройдем. Этот чертов мост!
- Он и называется Чертовым.
- Господин фельдмаршал!
- Молчать! Мы должны... Мы обязаны...
- Но мы... господин фельдмаршал... Александр Васильевич... гибнут лучшие люди!
- За что я и уважаю русских людей. Мы - прорвемся. Мы - пройдем. Мы - это русские. Для нас нет преград.
... Как они хотели, столкнутся друг с другом - Суворов и Бонапарт. Не столько Бонапарт, сколько Суворов. У последнего это был последний и единственный шанс поставить свою победоносную и последнюю точку в своей неповторимой судьбе - ему, Суворову, победителю немцев, турок, поляков - не хватало до полой обоймы только одного... одних... какого-то наглого, самоуверенного французишки. И даже не француза, ведь не француза, а кого? Кто бы мог подумать - корсиканца Бонапарта! Единственное, что не знал Суворов и что он не мог предугадать - что Бонапарт станет Наполеоном и что он войдет в Россию. Но Суворов до этого уже не доживет, он бы не воспринял такого позора...
Где вы, кто вы, поручик Самарин, ставший уже полковником российской армии, армии Великой и Неповторимой Империи Российской?
Смурной и молчаливый был Самарин после Измаила. Страшно болела голова. Болел позвоночник и ребра.
- Здравствуй, мать. Примешь? - Самарин хмуро приветствовал жену. Его привезли, сам он был не в состоянии самостоятельно добраться до собственного имения. Сопроводили его из госпиталя до дома два боевых офицера, участники штурма Измаила, награжденные и получившие отпуск.
- Капитан Карелин, - щелкнул сапогами высокий и статный.
- Поручик Пучков, - отрекомендовался красивый, с бакенбардами и узкой полоской изящных черных-черных усов.
- Сдаем вам лично на руки вашего любимого полковника Самарина. Он для нас - неповторим, живая легенда, солдаты его любят и оплакивают. Многие считали, что он погиб. Он не приходил в сознание после страшной контузии двое с половиной суток. Много потерял крови. Мы уж думали, что наш боевой отец-командир помер. Но, видно, он из другого теста, другой закваски. Выжил... Принимаете?
Нервный тик страшно передернул Самарина. Пока его однополчане говорили, он молчал. Говорить было не о чем! Он страшно устал, износился, понял, что дошел до точки. Вернулась та, страшная турецкая привычка - молчать, молчать и молчать. Быть немым. Примет ли жена инвалида? Вот он, страшный, избитый и контуженный, списанный из рядов армии в долгосрочный отпуск. Поймет ли? Шел 1791 год.
Она пристально и долго смотрела на своего Сашу.
... Брошенный всеми, отрезанный от тылов и баз снабжения. Преданный союзниками австрийскими. Это - Суворов, ведущий свои семнадцать тысяч русских воинов. Ему уже не до славы и не до громовых побед. Лишь бы подальше от греха и от беды. Ему, Суворову, сделавшему ШЕСТЬСОТ победоносных битв и боев, лишь бы спасти честь и знамя российское. Но их заперли в Альпах... а с Бонапартом он так и не скрестил шпагу. Шел конец XVIII века.
- Александр Васильевич! Господин фельдмаршал! Надо что-то делать...
- И будем. Если мы не прорвемся через этот чертов мост - грош нам цена.
- Мы не сможем. Это западня, ловушка.
- Сынок, мне уже под семьдесят, а ты, Самарин - пацан! Бери пример со своего отца. Мы с твоим отцом прошли и били турка. А поляка? Он тебе не рассказывал?
... Некогда было рассказывать Самарину-старшему. Сорокалетний полковник был предоставлен сам себе. Два года он воевал со своим недугом. Сам себя ненавидел. Спасибо жене, сыну - выходили. А в ушах постоянно и постоянное: «Да он же пьяный... все берут Измаил, а он - пьяный...» И голос Суворова: «Мне бы таких... генералов».
Мне бы таких генералов...
Два года проходила та срамная контузия. И долгая, долгая страшная пульсирующая боль в голове. И если бы рядом не супруга - что бы с ним было. Чем он провинился перед судьбой... За что такая расплата... Почему он глухой, немой, полуслепой.
Я, русский офицер, россиянин, великоросс, обращаюсь к вам, моим потомкам... Слушайте, слушайте меня, люди!
* * *
- О, женщина! О, мое творение, диво мое! Не стоит трогать душу. «И если тебя коснется хотя бы один из них...»
Она смеялась, и она меня обнимала.
Непонятно и странно. Мой штурм Измаила.
... Я долго отходил от приключений своих военных, от государственных проблем нашей матушки Екатерины... да и от своих. Контузия и рана - турецкая. Глупости - вещь долгая... Да и не помню я многого. «Что, брал Измаил? Да на кой он мне сдался...»
Измаил, тогда опорный еще последний «край державы» (не той, не российской пока)... И помню еще тогда его в моих дымных кошмарах...
«Я» шел впереди. Сзади был Суворов, при штурме был неизвестный тогда капитан Кутузов... Чем же я так отличился и не угодил короне... Богу?! Что меня так убило... Но жив остался.
Два года (болезни и отпуска), почти два года - отпуск дали боевому полковнику, оплатила госказна. Видно, сказали потом, что рано списывать такого российского офицера, как он, героя против турков и Измаила - списывать в откат, еще должен послужить Империи Российской и Екатерине Второй...
И он воспрял. И терпеть его в родовом поместье - уже Подмосковье - ладу нет... Разогнал со временем подросших дочерей - зятья, однако, не убоялись... кланялись ему, полковнику и потом - генералу, с уважением... что бы еще надо... сокрушалась его супруга Анна.
Бредил порой и нес околесицу...
Есть же «бесть» воинствующая и непобедимая у чудаков - даже из тех древних лет... чудо одно, которое называется... - вам не отгадать... вроде бы все просто, но надо прожить от...
От Петра Великого и его 1709-го...
Я не знаю, кто я. Да окстись, суженый, я ведь твоя... чудо ты мое окаянное, привезли тебя в хлам из-под, сказывают, Измаила, еле жив - пуля и ядро... Сам батюшка Александр Василич почил...
«Значит, спутал. Ведь он же верил, ведь он же знает, ведь он же сам не зрил... Зачем хоронить своих...»
- Я ж вам не советую...
Да и не делаю.
- После того, что видел...
И хотел бы услышать.
Ох уж эти потомки незрячие и глупые... Им «того» надо ли? (А как же - после Наполеона и Европы...). И без условностей.
Прочтите «его», его записки российского офицера. Не русского... Есть разница - российского офицера, да во славу ему будет.
Ох, как брехло, но вот я же хочу знать... Познать те «Записки российского офицера»... А это вам не фунт изюма, служба Государева и Отечеству... Не фунт лиха...
Судьба Самариных ведь тоже... Боевые офицеры того рода достойны уважения.
Ко мне приходит, притыкается к моему плечу моя генеральша, не плачет, вопрошает молча: «Ты своего добился, мой генерал?»
И я молчу. Да. Сын генерала и должен быть хотя бы не штатским чином. А ты-то печешься... Вон сколько дочек, устроены за будущими генералами. Аль свой тебя не устраивает? Она, моя боевая подруга, припадала на плечо и говорила «Отколь же ты, глупый поручик, свалился на мою душу». Я ее понимал... не мог простить - только одного (!) сына и кучу дочерей, которые нарасхват. Ну а «мое-то» где «я»?
- Утешься, милый. Хватит воевать. Ведь и я настрадалась, жду тебя... вечно и вздрагивая, жив ли, погиб иль во здравии... зачем мне твои ордена и медали. Вечно вы, мужчины, не навоюетесь...
- Не печалься, судьба моя... любимая! Смотри - все твои дочки за кем? Все живы будут.
- А ты? Неугомонный...
- Ну, я офицер российский. И не плачь, и сын мой, пусть даже единственный, должен быть таким - отдать жизнь Великой России.
- Ты уже вот отдал... месяцами и годами не видела... Измаил, слава богу, отдал мне тебя на два года... И снова куда-то? И сына забираешь?
- Ну, ты же родила одного... было бы больше, быть может и оставил. Утешься дочками... прости, милая. Я вечером приду. А то у нас в роду, у Самариных, больше одного сына не получается.
... «Загрустил» после своего славного Измаила полковник Самарин. Не вправе спросить ли его: «Где ты, полковник Самарин?» А ведь спрос на толковых военных тогда ан как был... И возраст-то боевой - чуть за сорок.
Оттаял, отошел от ран своих полковник, запросился у государыни вновь на службу. И то... тут вдруг непокорная и смутная Польша, западная неспокойная граница Державы Российской, начавшая смуты - ну как тут без Александра Васильевича Суворова! Откликнулись на его призыв и его старые «волонтеры», и Самарин в том числе - полковник, был тут как тут... вторую польскую кампанию уложили в сорок дней... Самарину дали генерала в отставке, а с Суворова запросила шляхта за урон... Но то дела дней минувших. Ушло при новом императоре Павле все в тишь и благодать - Суворов, Самарин и иже с ними. Тишь и благодать по России. Правда, вот назревал какой-то персидский поход, который толком и не услышан - не мед ближний... но тогда уж Самарин был в отставке (не в полной). В персидский поход не пошли - не готовы были казаки российские, но вот для Европы - для Бонапарта - пришлись бы в дело...
Сын у Самарина - Ванька - подрастал. Упрямый. Пока Самарин-отец воевал и надеялся на «турка» своего (толмача) - он, мол, ему покажет, подстегнет, ударит... Но турок, воспитатель Самарина-младшего, пожалился своему хозяину: «Мочи нет. Лупит ятаганом. Говорит, что это дерьмо. Хочет знать французский - Париж, селяви. Со шпагой у него плохо. С саблей наперевес - я боюсь. Что, хозяин, прикажешь? Я боюсь... Ты ж не бросишь меня под его «я-а-й», я и сам забыл... Помнишь, как мы? Но это же самый настоящий Стам-бул-л... Хозяин, что прикажешь?»
- Дай ему по его глупой голове. Уважь прыть. И заставь познать французский - пора... турецкий уже не в моде...
Ай-лай... дальше Самарин и его слуга-турок обменялись фразами и словами по-турецки и разошлись. По делам. Российским.
Турок дал затрещин, добрых, молоденькому недорослю Самариных (госпожа Самарина опечалилась и загоревала). Жена же генерала Самарина, дай бог, не увидала такого святотатства - неблаговерный бьет христианина (а турок бил не щадя, по «имению» любимого хозяина и во имя тоже... потом они сидели долго и вместе, и турок рассказывал пацаненку «кто есть поручик Самарин»)... Н-да... учитесь французскому, да он и в моде при дворе Санкт-Петербурга. Хочу спросить у Самарина-генерала - а Суворов знал «а-ля франсуаза» - извините - французский язык?
Не дорос Самарин-старший, тем более хорошо и явно очухавшийся опосля турецких пуль и ядер, до француза, но нюх старого служаки правильно бдил - пахнет уже не туркой, французом дряблым и воинствующим тоже!
Обрюзг Самарин на покое, зажирел, гоняя своих крепостных лениво. Бал правила его хозяйка, энергичная женщина - кабы не она, и военный феодализм развалился бы.
«А что, - писал Самарин, - так уж страшен Бонапарт? И не возьмешь ли ты сынка моего, по старой нашей памяти, к себе в поход. Смотришь, ума наберется и чинов - он у меня парень храбрый и отчаянный... взял да и матушке моей, помимо меня, заявил, что женится на соседке нашей. Я-то не против, умна и хороша, но ведь и образумить стоит? Я-то ведь от тридцати лет обжился. Так заберешь, Александр Васильевич?»
И в свои девятнадцать уже женатый, пошел Самарин-сын Иван в евро-поход, был в альпийском переходе армии Суворова, познал Чертов мост, где погибло невесть сколько российских солдат...
Я за славой не гонюсь,
И за строкою - тоже,
Где быть в строю
Погибшим быть
(И офицером тоже).
Плакали люди о тысячах россиян, и вдовы российских офицеров тоже... Навечно прокляла Самарина-генерала его жена, не желая его видеть...
Ну, упрямый! Вдолбилось же! Ну был Петр-царь, был твой далекий Самарин-дед, «дворянин» из-под Полтавы... Но мой-то сын, ты, вояка турецкий. И все тебе неймется, польский прохиндей, за что ты сына-то своего, кровинушку, отправил на убой французский?!! У-у-у, образина генеральская, все б тебе воевать, не подавился кровью... не ты ли валялся здесь, весь побитый после своих турецких и польских побед? Еле выходила. У, образина! Глаза б мои тебя не видели... загубил сына, вояка...
- Не скули, - отвечал генерал Самарин. - Дочки есть, много. Тебя утешат. Меня - нет. А ну - цветь! Ну, иди ко мне, милая - обойдется, если нашего сынка нет в списках прибывших, нет среди погибших. Пропавший, значит? (В том походе погиб турок-ординарец Самарина-младшего, заявлено официально). Мы не будем тут мутить историю, и Самариных тоже - где-то через год-полтора состоялся обмен пленными России и Франции... и Самарин-сын оказался живой (но после ранения на Чертовом мосту), на родине, где и сынок его ждал уже малюсенький...
Ну чем, черт, скажешь, не идиллия! Самарин-сын - Иван Александрович - повоевал чуть на юге, а потом - на неспокойном севере Российской Империи - там шла русско-скандинавская война (в Финляндии и Норвегии). Под Аустерлицем он не погиб - уж судьба такая. Старый Самарин рвался в бой... ну ж мы им покажем... жена осаживала мягко: «Сиди, старый! Воевать хочешь, аж снится... вот уж тебя... Других вырастили - теперь за них вздрагивай, другие найдутся, у которых руки чешутся... вояка! Милый, не хочешь варенья, грибочков - сама варила, иль, может, анисовки? Аль шпагу и турецкий пистолет - враз пристрелю, янычар!» И тогда гордый генерал Самарин оплывал - воевать-то он, конечно, добрый вояка, и Суворов знал его в лицо, но вот каково супротив женщин - ни тот и ни другой не ведал. Да что с них взять... с непонятливых! Женщины.
Когда грянул 1812-й... сказ особый. Кто как! Кто позже, а кто и никогда, своих дворовых и крепостных тот же Самарин вооружил сразу и немедля - созвал, обозвал, назначил, проверил, вооружил... и даже съездил к своим соседям по Подмосковью - посоветовал, те правильно восприняли: попрятали, попрятались, подпалились (когда надо), постреляли, вооружились тоже, побили французиков, немчишек. И испанцев тоже...
... Потом по предложению и высочайшему указу - Кутузов и Александр I - создали полки ополчения... Кутузов, собрат по моему Измаилу, - он первый взобрался на стены его по штурмовой лестнице и лишился глаза - не забыл и меня, боевого генерала от Суворова.
Я прошел со своим ополчением до границ - далее пошли уже регулярные полки... так что уж в Германии и далее французов мне бить было не дано. Впрочем, и Кутузов - голова, два уха и один огромный глаз, тоже не задержался в битве сей - умер в 1813 году в Германии.
Наши полки, непобедимые российские, гнали ворога европейского (нахватались по дороге этого «евро») долго еще, до 1814-го и до Парижа... до тех времен, пока казацкие полки не вступили в поверженный Париж. А вы что, думаете зря нашим тем казакам дали землю на Урале и позволили им наречь их станицы - Берлин, Варна, Париж, Фершампенауз... Платов дело знал, казачий атаман.
Да я, впрочем, не о том. Не о моих наградах и предках. И даже не о своей жене. Некому уже приткнуться о мое плечо - стар я, стар видно сал - три четверти века и черт меня еще носит... внуки входят ко мне с очень осторожным стуком - чтобы о чем-то попросить, видно так важном для них (сделаем). Правнучки верещат - слава богу, им ничего не надо и ордена мои для них вроде как красивые игрушки (стерпим). Дочери не заходят сразу, если заходят - то молчат (могли бы и сразу говорить), молча кланяются и молча сидят... Эх, мать бы их сюда, да нету! Нету вашей матушки Анны, нету вашего «братика» старшого - суворовца, что потом погиб полковником на Бородинском поле... Нету, только вот я, седой и старый, изрубленный в боях и еще зачем-то живой.
... Внука провожаю своего, который пороха не нюхал и все завидовал отцу и однополчанам, увидавшим Европу. Там - да! У нас - ничто! Исправили братья... вот и время пришло - «ушел» с престола Александр и мы, сейчас, здесь, в декабре 1825-го, на Сенатской площади, в Санкт-Петербурге...
Одним из этих офицеров и был внук Александра Борисовича Самарина, и слава Богу, что его бабушка недолго прожила после мятежного декабря... ведь только офицеры доживают до времен великих (вдовы - никогда!).
Одна скидка - пойдут мятежные офицеры не пешим этапом, телеги есть для них... Стоял 1826 год, конец года, время под зиму. И с Самариным-внуком, офицером российским, пошла по этапу в далекую Сибирь его юная жена, зачем-то повенчавшаяся с ним перед приговором.
Ну вот, сижу я перед вами, и совесть моя чиста, и думаю про детей своих глупых и несуразных.
А потом меня спросят:
«Кто вы, полковник Самарин?»
- Офицер российской армии!
- ... где вы?
А вот вы скажите, почему я, боевой русский офицер... почему не жена моя любимая, должен нянчить своих правнуков, рожденных черт знает где - в Нерчинске или Заиркутье... что ж их папа (будущий губернатор?) и мой внук, не заботится о них, что ли? Но как приятно, когда малые топчут старика...
Новые рукописи
- Берегите мужчин! Автор: Шелейкова Нина Жанр: Публицистика
- Утки Автор: Виктор Верин Жанр: Проза
- Долина царей Автор: Крюкова Елена Жанр: Проза
Книжные новинки
- Заметки фенолога – 2024 Автор: Фирсов Геннадий Жанр: Книги РОСА
- Владимиров А.А. "Формирование микрогеометрии поверхности при вибрационном точении" Автор: Информационная служба РОСА Жанр: Книги РОСА
- Истина Рая Автор: Карханина Валентина Жанр: Книги РОСА
 Видеогалерея
Видеогалерея Фотогалерея
Фотогалерея Аудиогалерея
Аудиогалерея Магазин
Магазин